Текст книги "Темное дело"
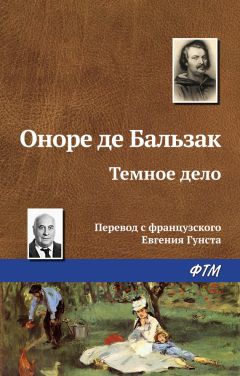
Автор книги: Оноре Бальзак
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Если бы даже эти люди не были непосредственными участниками описываемой нами трагедии, они заслуживали бы внимания как представители одной из разновидностей аристократии после ее разгрома в 1793 году. С этой точки зрения описание сен-синьской гостиной имеет прелесть исторической сценки, застигнутой врасплох.
Господин д'Отсэр, которому тогда шел пятьдесят второй год, высокий, сухопарый, румяный, обладавший крепким здоровьем, мог бы показаться челозеком с сильным характером, если бы не большие темно-синие глаза, говорившие о крайнем его простодушии. Подбородок его выдавался вперед, а расстояние между носом и ртом было несоразмерно велико, и это придавало ему покорный вид, вполне соответствовавший его мирному характеру, о котором говорили и другие, даже мельчайшие черты его лица. Седые волосы, примятые шляпой, которую он почти никогда не снимал, образовали на голове нечто вроде ермолки и подчеркивали ее грушевидную форму. У него был плоский, невыразительный лоб, весь изрытый морщинами – результат деревенских трудов и постоянных треволнений. Орлиный нос придавал некоторую значительность его лицу, единственным же признаком силы служили густые, еще черные брови и яркий румянец на щеках – и этот признак не обманывал; будучи простодушен и мягок, г-н д'Отсэр все же являлся непоколебимым католиком и монархистом, и никакие соображения не могли бы заставить его отказаться от своих взглядов. Он покорно дал бы себя арестовать, не стал бы стрелять в полицейских и безропотно взошел бы на эшафот. Он не мог эмигрировать, ибо, кроме ренты в три тысячи франков, не располагал никакими средствами к жизни. Поэтому он подчинялся существующему правительству, не переставая быть верным королевской семье и желать ее восстановления; но он не стал бы компрометировать себя участием в какой-либо попытке вернуть Бурбонов. Г-н д'Отсэр принадлежал к той части роялистов, которые до конца своих дней не могли забыть, что были побиты и ограблены, – они так и остались молчаливыми и расчетливыми, озлобленными и безвольными, но неспособными ни на отречение, ни на жертву; они всегда готовы были приветствовать монархию, если она восторжествует, сохраняли верность церкви и духовенству, но от своего решения покорно выносить все унижения и горести не отступались. А это уже не убежденность, а упрямство. Действие – основа всякой партии. Неумный, но честный, скупой, как крестьянин, и вместе с тем аристократ по манерам, смелый в своих желаниях, но скромный в речах и поступках, из всего извлекающий выгоду и даже готовый стать сен-синьским мэром, г-н д'Отсэр был типичным представителем тех почтенных дворян, на лбу которых бог начертал слово mites[20]20
Смиренные, покорные (лат.).
[Закрыть]; они не препятствовали бурям Революции, пронесшимся над их головами и их дворянскими гнездами, воспрянули при Реставрации, богатые благодаря своим сбережениям и гордые своей тайной преданностью династии, а после 1830 года снова удалились в свои поместья. Его платье, очень характерное для такого рода людей, красноречиво говорило и о нем самом, и об эпохе. Г-н д'Отсэр носил широкий плащ орехового цвета, с небольшим колетом, введенный в моду последним герцогом Орлеанским после его возвращения из Англии; во время Революции такие плащи являлись чем-то промежуточным между неказистой простонародной одеждой и изящными сюртуками аристократии. Бархатный жилет в полоску и с цветочками, покрой которого напоминал жилеты Робеспьера и Сен-Жюста, оставлял на виду верхнюю часть жабо в мелких складочках, покоящегося на сорочке. Он все еще носил короткие панталоны, но они у него были из грубого синего сукна, с потемневшими стальными пряжками. Дешевые черные шелковые чулки обтягивали его тонкие, как у лани, ноги в грубых башмаках и черных суконных гетрах. Он по старинке носил муслиновый воротничок в бесчисленных складочках, скрепленный у подбородка золотою пряжкой. Таким платьем, сочетавшим в себе элементы крестьянской, революционной и аристократической одежды, этот безобидный дворянин вовсе не хотел выказать какой-то политический эклектизм, он просто-напросто подчинялся обстоятельствам.
Его жена, сорокалетняя женщина, с поблекшим лицом, рано состарившаяся от житейских невзгод, всегда словно позировала для портрета, а кружевной чепец, украшенный белыми атласными бантами, как бы подчеркивал торжественное выражение ее лица. Она еще пудрила волосы, хоть и носила белую косынку и шелковое платье цвета блошиной спинки, с гладкими рукавами и очень широкой юбкой – последний траурный наряд королевы Марии-Антуанетты. У нее был слегка вздернутый нос, острый подбородок, лицо почти треугольное, заплаканные глаза; но она «чуточку» румянилась, и это оживляло ее серые глаза. Она нюхала табак и при каждой понюшке принимала те жеманные предосторожности, которыми некогда злоупотребляли светские модницы; это была целая церемония, но все ее ужимки при этом объяснялись очень просто: у нее были красивые руки.
Аббат-францисканец по имени Гуже, бывший воспитатель двух молодых Симезов и друг аббата д'Отсэра, два года тому назад из расположения к д'Отсэрам и к молодой графине избрал себе в качестве убежища сен-синьский приход. Его сестра, мадмуазель Гуже, располагавшая рентой в семьсот франков, присоединяла эти деньги к скромному жалованью священника и вела его хозяйство. Ни церковь, ни церковный дом не были проданы ввиду их ничтожной ценности. Аббат Гуже жил в двух шагах от замка, ибо местами сад при доме священника и господский парк отделялись друг от друга только оградой. Поэтому аббат Гуже с сестрою два раза в неделю обедали в Сен-Сине и каждый вечер приходили поиграть с д'Отсэрами в карты. Лоранса же и взять карты в руки не умела. Аббат Гуже был седовласый старец с белым, как у пожилой женщины, лицом, любезной улыбкой, ласковым и вкрадчивым голосом; его приторное, немного кукольное лицо значительно выигрывало от высокого, умного лба и проницательных глаз. Он был среднего роста, хорошо сложен, всегда носил черный фрак французского покроя, серебряные пряжки на панталонах и башмаках, черные шелковые чулки, черный жилет, на который ниспадал белый воротничок, что придавало старику изящество, не нарушая притом его пастырского достоинства. Этот аббат, назначенный при Реставрации епископом Труа, благодаря своей прошлой деятельности научился разбираться в молодых людях; он понял всю силу характера Лорансы, оценил его и сразу же стал относиться к девушке с почтительностью и уважением; а это в значительной мере помогло ей занять в Сен-Сине независимое положение и подчинить своей воле строгую пожилую даму и добряка-дворянина, которых она, конечно, по заведенному обычаю, должна была во всем слушаться. Уже полгода аббат наблюдал за Лорансой с присущей священникам зоркостью, ибо они – самые проницательные люди на свете; и, даже не подозревая о том, что эта двадцатитрехлетняя девушка, в ту самую минуту, когда ее слабые ручки теребят отпоровшийся позумент амазонки, помышляет о низвержении Бонапарта, он все же догадывался, что она поглощена каким-то большим замыслом.
Мадмуазель Гуже была одной из тех старых дев, портрет которых можно набросать в двух словах, и этого вполне достаточно, чтобы их могли себе представить даже люди с самой скудной фантазией: она принадлежала к тем, кого называют дылдами. Бедняжка сознавала, что уродлива, и первая же подтрунивала над своим безобразием, обнажая при этом длинные зубы, желтые, как ее лицо, и костлявые руки. Но она была бесконечно добра и весела. Она носила чепец с лентами и накладку из волос, пресловутый казакин былых времен, широченную юбку с карманами, где вечно гремели ключи. Она еще в юности казалась сорокалетней, но, по ее словам, наверстывала упущенное и пребывала в этом возрасте уже лет двадцать. Дворянство она глубоко почитала, но, отдавая знатным людям чтó им полагалось в смысле уважения и знаков внимания, умела соблюсти и собственное достоинство.
Это общество пришлось в Сен-Сине очень кстати, ибо у г-жи д'Отсэр не было, как у ее мужа, хозяйственных забот или, как у Лорансы, той живительной ненависти, которая помогает выдерживать гнет одиночества. К тому же за последние шесть лет жизнь стала заметно легче. Католический культ был восстановлен, и это позволяло верующим выполнять религиозные обязанности, а в сельской жизни они занимают больше места, чем где бы то ни было. Супруги д'Отсэры, успокоенные консервативными действиями первого консула, могли теперь переписываться с сыновьями, знать об их судьбе, больше не дрожать за их жизнь, настаивать на том, чтобы они ходатайствовали об исключении их из списков эмигрантов и вернулись во Францию. Казначейство выплатило свою задолженность по ренте и стало производить очередные платежи в срок. К этому времени д'Отсэры располагали, кроме пожизненной ренты, еще восемью тысячами годового дохода. Старик радовался своей мудрой дальновидности: все свои сбережения – двадцать тысяч франков, равно как и деньги своей подопечной, – он поместил в государственную ренту еще до 18 брюмера, а этот переворот, как известно, вызвал повышение курса фондовых ценностей на двенадцать – восемнадцать франков.
Долгое время замок Сен-Синь оставался пустым, запущенным и разоренным. Пока бушевали революционные бури, осмотрительный опекун сознательно воздерживался от каких-либо починок; но после Амьенского мира он совершил поездку в Труа и привез оттуда остатки обстановки двух особняков, выкупленные им у старьевщиков. Тогда-то благодаря его заботам и была обставлена гостиная замка. Пышные шелковые занавеси с зелеными цветами по белому фону, висевшие раньше в особняке Симезов, теперь украшали шесть окон гостиной, где сидели в тот вечер вышеупомянутые лица. Эта огромная комната была вся отделана резным деревом в виде панно, обрамленных точеным багетом и выкрашенных в серый цвет двух оттенков. Четыре двери были расписаны в духе эпохи Людовика XV сценками, исполненными в серых тонах различных оттенков. Заботливый опекун разыскал в Труа золоченые кронштейны, кресло, обитое зеленым шелком, хрустальную люстру, ломберный стол с инкрустациями и другие предметы, которые могли послужить восстановлению Сен-Синя в прежнем виде. В 1792 году вся обстановка замка была расхищена, ибо разгром особняков в городах нашел свой отклик и в деревне. Каждый раз, как старик ездил в Труа, он возвращался с какими-нибудь реликвиями былого великолепия: то это был прекрасный ковер, вроде лежавшего сейчас на паркетном полу гостиной, то часть столового сервиза или отдельные предметы из старинного саксонского и севрского фарфора. Полгода тому назад он решился откопать сен-синьское серебро, спрятанное поваром в его домике на самой окраине одного из обширных предместий Труа.
Этот преданный слуга, по имени Дюрие, и его жена навсегда связали свою судьбу с судьбой их молодой госпожи. Дюрие выполнял в замке самые различные обязанности, а жена его была ключницей. Дюрие взял себе в помощницы на кухню сестру Катрины; она изучала под его руководством кулинарное искусство и обещала стать превосходной поварихой. Если прибавить к ним старика садовника с женой, их сына, работавшего поденно, и дочь, служившую коровницей, – то вот и вся челядь замка. Полгода назад жена Дюрие тайком заказала для сына садовника и для Готара ливреи геральдических цветов графов де Сен-Синей. Хотя хозяин и разбранил ее за эту неосторожность, она была счастлива, что в день святого Лорана, в именины Барышни, обед был подан почти как прежде. Постепенное восстановление былого, требовавшее не малых трудов, безмерно радовало господ д'Отсэров и супругов Дюрие. Лоранса посмеивалась над всем этим и называла ребячеством. Но старик д'Отсэр не забывал и о существенном: он восстанавливал строения, подправлял ограды, сажал деревья всюду, где только было возможно, и старался извлечь пользу из каждого клочка земли. Поэтому вся сен-синьская долина считала его своего рода чудодеем по части земледелия. Он ухитрился отхлопотать сто арпанов спорной земли, не проданной в свое время, а присоединенной к общинным владениям; он превратил эту землю в луга, посеяв кормовые травы, и обсадил их тополями, которые за шесть лет выросли на диво. Он намеревался выкупить и кое-какие другие участки и извлечь доход из всех призамковых строений, заведя вторую ферму, которой мечтал управлять самолично.
Итак, последние два года обитатели замка были почти что счастливы. Г-н д'Отсэр уходил из дому чуть свет, наблюдал за рабочими, которые были заняты у него круглый год; затем возвращался к завтраку, а после завтрака садился на крестьянскую лошадку и, словно сторож, объезжал имение; вторично он являлся к обеду, вечера проводил за партией бостона. У каждого из обитателей замка были свои занятия, жизнь текла размеренно, словно в монастыре. Только Лоранса нарушала эту размеренность своими внезапными поездками, своими частыми отлучками, всем тем, что г-жа д'Отсэр называла ее причудами. Однако в Сен-Сине существовало два политических направления, находились и поводы для разногласий. Во-первых, Дюрие и его жена ревновали Готара и Катрину, которые стояли ближе к молодой хозяйке, кумиру всего дома. Во-вторых, супруги д'Отсэр, поддерживаемые мадмуазель Гуже и аббатом, желали, чтобы их сыновья, равно как и близнецы Симезы, вернулись на родину и приобщились к радостям безмятежной жизни в замке, вместо того чтобы влачить жалкое существование на чужбине. Лоранса осуждала столь малодушную готовность пойти на сделку, она была представительницей роялизма чистого, воинствующего и непреклонного. А четверо стариков не желали подвергать испытаниям ту счастливую жизнь и тот клочок земли, которые они отвоевали у бурного потока революции, и старались внушить Лорансе свои поистине мудрые взгляды, догадываясь, что она в немалой степени влияет на решение молодых д'Отсэров и Симезов не возвращаться во Францию. Бедных стариков ужасало гордое презрение их воспитанницы к этим чаяниям, и они справедливо опасались с ее стороны какой-нибудь, как они говорили, «выходки». Эти разногласия обнаружились со времени взрыва адской машины на улице Сен-Никез – первого покушения роялистов на победителя при Маренго, после того как он отказался от переговоров с Бурбонами. Воображая, что покушение организовано республиканцами, д'Отсэры почитали счастьем, что Бонапарт избежал опасности. А Лоранса плакала от бешенства, когда узнала, что первый консул уцелел. Ее отчаяние взяло верх над обычной скрытностью, и она стала укорять бога за то, что он предал потомков Людовика Святого.
– Если бы я взялась за дело, – воскликнула она, – я не промахнулась бы! Разве мы не вправе применять против узурпатора любое оружие? – обратилась она к аббату Гуже, заметив, что ее слова вызвали у всех присутствующих глубокое недоумение.
– Дитя мое, – ответил аббат, – философы весьма рьяно нападали на церковь, порицая ее за то, что некогда она отстаивала наше право обращать против узурпаторов то самое оружие, которым те пользовались, добиваясь своей цели; ныне же церковь слишком многим обязана господину первому консулу, чтобы не оберегать его и не охранять от последствий этого учения, которое к тому же принадлежит иезуитам.
– Значит, церковь покидает нас! – мрачно отозвалась девушка.
С того дня, всякий раз как четыре старика заводили речь о том, что надо покориться Провидению, графиня покидала гостиную. Последнее время кюре, более искусный, чем опекун, стал не столько вдаваться в принципиальные рассуждения, сколько выставлять материальные преимущества консульского правления, и не столько для того, чтобы убедить графиню, сколько, чтобы поймать в ее взоре выражение, по которому можно было бы разгадать ее планы. Постоянные отлучки Готара, участившиеся поездки Лорансы и озабоченность, омрачавшая в последние дни ее лицо, наконец, тысячи мелочей, которые среди тишины и спокойствия сен-синьской жизни не могли пройти незамеченными, особенно для насторожившихся д'Отсэров, аббата Гуже и обоих Дюрие, – все это пробудило опасения покорившихся роялистов. Но так как никаких особых событий не происходило, а в политической сфере пока господствовало полное спокойствие, то жизнь маленького замка снова вернулась в свою мирную колею. Все считали, что отлучки графини вызваны ее увлечением охотой.
Можно представить себе, какая глубокая тишина царила в тот вечер около десяти часов в парке, во дворах, в окрестностях сен-синьского замка, где природа и люди слились в такой гармонии, где всюду ощущался глубочайший мир и возвращалось прежнее изобилие, где добрый и разумный дворянин надеялся склонить свою опекаемую к покорности, показывая ей благие плоды такого поведения. Собравшиеся здесь сторонники монархии продолжали играть в бостон, игру, которая под легковесной формой распространяла по всей Франции идеи независимости, ибо она была придумана в честь американских повстанцев, а термины ее напоминали о борьбе, поощрявшейся Людовиком XV. Объявляя «независимость» или «разорение», игроки украдкой наблюдали за Лорансой, а она, сраженная усталостью, заснула с насмешливой улыбкой на губах: ведь когда она взглянула на мирное общество, сидевшее за столиком, ее последняя мысль была о том, что два сына д'Отсэров провели минувшую ночь под этим же кровом, и достаточно было бы заикнуться об этом, чтобы привести игроков в страшное смятение. А какая девушка в двадцать три года не преисполнилась бы гордости, сознавая себя вершительницею людских судеб, и не почувствовала бы легкого сострадания к тем, кто настолько слабее ее?
– Маркиза уснула, – сказал аббат, – я еще никогда не видел ее такой уставшей.
– Дюрие говорит, что она совсем загнала свою лошадь, – ответила г-жа д'Отсэр. – А ружьем и не пользовалась, полка совсем чистая, значит, Лоранса не охотилась.
– Фу-ты, пропасть, тут что-то неладное, – возразил кюре.
– Бросьте! – воскликнула мадмуазель Гуже. – Когда я была в ее возрасте и стала понимать, что мне суждено остаться в девушках, я еще не так носилась, не так себя изнуряла. Я вполне понимаю, что графиня может рыскать по всей округе, вовсе и не помышляя о дичи. Скоро уже двенадцать лет, как она не видела своих кузенов, а ведь она их любит. Да на ее месте, будь я такой молодой и красивой, я не задумываясь слетала бы в Германию. Вот бедняжку, может быть, и тянет к границе.
– Какая вы прыткая, мадмуазель Гуже, – пошутил кюре.
– Но ведь я вижу, – возразила она, – что поведение девушки вас тревожит, поэтому я вам и объясняю, в чем тут дело.
– Кузены ее вернутся, она будет богатой, вот она и угомонится, – добродушно заключил г-н д'Отсэр.
– Дай-то бог! – воскликнула пожилая дама, беря в руки золотую табакерку, которая, после объявления пожизненного консульства, вновь извлечена была на свет.
– А у нас новость, – обратился старик д'Отсэр к кюре. – Мален вчера приехал в Гондревиль.
– Мален! – вскричала Лоранса, очнувшись при этом имени от глубокого сна.
– Да, – сказал кюре, – но сегодня в ночь он уезжает обратно, и все ломают себе голову насчет того, с какою же целью он совершил столь стремительное путешествие.
– Этот человек – злой гений наших двух семей, – сказала Лоранса.
Молодая графиня только что видела во сне кузенов и д'Отсэров; им грозила какая-то беда. Она представила себе опасности, которые подстерегают их в Париже, ее взгляд померк и стал неподвижен; она порывисто встала и, не сказав ни слова, удалилась к себе наверх. Она занимала одну из парадных комнат, а рядом, в башенке, выходившей в сторону леса, были гардеробная и молельня. Как только Лоранса ушла из гостиной, на дворе залаяли собаки, у калитки кто-то позвонил, и вскоре в гостиной появился взволнованный Дюрие:
– Мэр пришел. Опять что-то стряслось.
Мэр, бывший доезжачий Симезов, изредка посещал замок, и д'Отсэры, по тактическим соображениям, оказывали ему уважение, которым он чрезвычайно дорожил. Этот человек, по имени Гулар, был женат на богатой торговке из Труа, владевшей имением в сен-синьской общине; Гулар прибавил к этому имению угодья, ранее принадлежавшие богатому монастырю Валь-де-Пре; на эту покупку он истратил все свои сбережения. Гулар поселился в обширном монастыре, расположенном в четверти мили от замка, и стал, таким образом, владельцем жилища, почти столь же великолепного, как Гондревиль. Они с женой жили там, словно две крысы в соборе.
– Гулар, ты нагулял себе жирок, – сказала ему, смеясь, Барышня, увидя его впервые в Сен-Сине.
Несмотря на то что он был крайне предан Революции и что графиня всегда принимала его очень холодно, мэр питал к Сен-Синям и Симезам неискоренимое почтение. Поэтому он закрывал глаза на все, что творилось в замке. Закрывать глаза, по его понятиям, значило не видеть, что стены гостиной увешаны портретами Людовика XVI, Марии-Антуанетты, их августейших детей, брата короля, графа д'Артуа, Казалеса, Шарлотты Кордэ; не находить ничего дурного в том, что в его присутствии поносят Революцию, насмехаются над пятью членами Директории и над всеми мероприятиями того времени. Как и многие выскочки, он, нажив себе состояние, вновь проникся благоговением к старинным родам и старался поддерживать с ними связи; а особое положение Гулара, порожденное этими обстоятельствами, было тотчас же использовано двумя неизвестными, профессию которых так скоро разгадал Мишю и которые, прежде чем отправиться в Гондревиль, обследовали все окрестности.
Перад, хранитель достохвальных традиций дореволюционного сыска, и Корантен, маг шпионажа, приехали с тайным поручением. Мален не ошибался, приписывая этим мастерам по части трагических шуток двойственную роль; поэтому небесполезно, пожалуй, показать голову, для которой они служили руками. Когда Бонапарт сделался первым консулом, во главе полиции стоял Фуше. Революция открыто и с полным основанием создала особое Министерство полиции. Однако, возвратясь после победы при Маренго, Бонапарт учредил еще префектуру полиции и начальником ее назначил Дюбуа, а Фуше назначил членом Государственного совета, причем его преемником по Министерству полиции стал бывший член Конвента Кошон, впоследствии граф де Лапаран. Фуше, считавший, что Министерство полиции – из всех министерств самое главное в правительстве, намечающем широкие преобразования и избравшем твердый политический курс, воспринял эти перемещения как опалу или, по крайней мере, как признак недоверия. После истории с адской машиной и раскрытия заговора, о котором здесь идет речь, Наполеон вернул Фуше Министерство полиции, так как убедился в непревзойденных качествах этого великого государственного деятеля. Однако позднее, устрашившись способностей, проявленных Фуше в его отсутствие, во время вальхернского дела[21]21
Вальхернское дело. – В 1809 г. англичане высадили на о. Вальхерн у берегов Голландии десант в 40000 человек против Франции. Фуше удалось организовать оборону, в результате которой большая часть десанта погибла и англичане вынуждены были оставить остров.
[Закрыть], император передал это министерство герцогу де Ровиго, а герцога Отрантского назначил правителем Иллирийских провинций, что было равносильно ссылке.
Своеобразная гениальность, столь ужаснувшая Наполеона, обнаружилась у Фуше не сразу. Этот незаметный член Конвента, один из самых выдающихся и непонятых людей своего времени, сложился и вырос в бурях Революции. При Директории он достиг тех вершин, с которых люди глубокого ума получают возможность предвидеть будущее, основываясь на опыте прошлого; а затем вдруг, – подобно посредственным актерам, которые под влиянием какой-то внезапно вспыхнувшей искры становятся гениальными, – проявил поразительную изворотливость во время молниеносного переворота 18 брюмера. Этот бледнолицый человек, воспитанный в духе монашеской сдержанности, посвященный в тайны монтаньяров, к которым он принадлежал, и в тайны роялистов, к которым в конце концов примкнул, долго и незаметно изучал людей, их нравы и борьбу интересов на политической арене; он проник в замыслы Бонапарта, давал ему полезные советы и ценные сведения. Довольствуясь тем, что он доказал свою ловкость и полезность, Фуше поостерегся раскрыть себя до конца, он хотел остаться у кормила правления; однако двойственное отношение к нему Наполеона вернуло ему политическую свободу. Неблагодарность или, вернее, недоверие, проявленное императором после вальхернского дела, в достаточной мере объясняет поведение этого человека, который, к несчастью для себя, не был аристократом и только подражал князю Талейрану. В то время ни прежние, ни новые его коллеги и не подозревали всей широты его таланта – чисто административного и, в глубоком смысле слова, государственного, – так был велик его дар почти неправдоподобной проницательности и безошибочного предвидения. Конечно, нынче для всякого беспристрастного историка ясно, что одною из тысячи причин, вызвавших падение Наполеона, которым он, впрочем, искупил все свои грехи, было его непомерное самолюбие. Недоверчивый монарх относился чрезвычайно ревниво к своей еще молодой власти, и это сказывалось в его поступках не меньше, чем его затаенная ненависть к тем талантливым людям, которых он получил как драгоценное наследие от Революции и с помощью которых мог бы составить правительство, способное осуществлять все его замыслы. Наполеон относился недоверчиво не только к Талейрану и Фуше; беда узурпаторов заключается в том, что их врагами становятся и те, кто им помог завладеть короной, и те, у кого они ее отняли. Наполеону так и не удалось убедить в своей суверенности ни людей, бывших его начальниками или равными ему, ни тех, кто стоял за право; никто поэтому не считал себя связанным принесенной ему присягой. Мален, как человек заурядный, неспособный ни оценить мрачный талант Фуше, ни уберечься от его проницательности, сам себя погубил, словно бабочка, летящая на пламя, когда явился к Фуше и конфиденциально попросил прислать в Гондревиль сыщиков, ибо он, мол, надеется кое-что там разведать относительно заговора. Фуше, не смущая своего друга расспросами, удивился: зачем это Мален едет в Гондревиль, почему не сообщит немедленно, тут же в Париже, имеющиеся у него сведения? Бывший ораторианец, привыкший к обманам и отлично знавший, что многие члены Конвента ведут двойную игру, задал себе вопрос: «От кого же Мален может что-либо узнать, если мы сами пока еще почти ничего не знаем?» И Фуше пришел к выводу, что Мален, видимо, в какой-то мере сам причастен к заговору, но таится и выжидает. Однако Фуше ни слова не сказал первому консулу об этих подозрениях. Он предпочел сделать Малена своим орудием, чем погубить его. Фуше всегда старался сохранить про себя значительную часть разгаданных им тайн и благодаря этому приобретал над людьми гораздо бо́льшую власть, чем сам Бонапарт. Подобное двуличие послужило одним из поводов для недовольства Наполеона своим министром. Фуше были известны махинации Малена, которые дали ему возможность завладеть поместьем Гондревиль, а теперь вынуждали не спускать глаз с господ де Симезов. Симезы служили в армии Конде, мадмуазель де Сен-Синь доводилась им двоюродной сестрой; следовательно, они могли скрываться где-то поблизости и быть связаны с заговором, а их участие свидетельствовало бы и об участии семьи Конде, которой они были так преданны. Г-н де Талейран и Фуше считали чрезвычайно важным выяснить эту весьма туманную сторону заговора 1803 года, Фуше, с обычной быстротой и проницательностью, принял в соображение все эти обстоятельства. Но Мален, Талейран и Фуше были связаны между собою особыми узами, и это вынуждало последнего действовать крайне осторожно; в то же время ему хотелось узнать как можно точнее внутреннее расположение гондревильского замка. Корантен был беззаветно предан Фуше, как господин де Ла Бенардьер – князю Талейрану, как Генц – господину Меттерниху, Дендас – Питту, Дюрок – Наполеону, Шавиньи – кардиналу Ришелье. Корантен являлся не советчиком, а холопом этого министра, тайным Тристаном этого Людовика XI в миниатюре; поэтому Фуше, естественно, оставил его в Министерстве полиции, чтобы иметь там своего человека. Ходили слухи, будто он состоит с Фуше в родстве, но в родстве такого рода, о котором говорить не принято, и Фуше щедро вознаграждал его каждый раз, когда пользовался его услугами. Корантен подружился с Перадом, старым выучеником последнего королевского начальника полиции; тем не менее у него были тайны от Перада. Фуше приказал Корантену обследовать гондревильский замок, запечатлеть в памяти его план и разузнать обо всех имеющихся в нем тайниках.
– Нам это может пригодиться, – заметил бывший министр, совсем как Наполеон, приказавший своим генералам внимательно осмотреть поле битвы под Аустерлицем, до которого он намеревался отступать.
Корантену было, кроме того, поручено наблюдать за Маленом, выяснить, насколько он влиятелен в округе, приглядеться к людям, с которыми он поддерживает связь. Фуше не сомневался, что Симезы находятся где-то в этих местах. Ловко выследив этих двух офицеров, любимцев принца Конде, Перад и Корантен могли добыть ценные сведения о разветвлении заговора по сю сторону Рейна. Как бы то ни было, Корантен получил деньги, указания и агентов, с помощью которых можно было бы окружить замок и обшарить всю местность, от Нодемского леса до Парижа. Фуше предписал им величайшую осторожность, а обыск в Сен-Сине разрешил произвести лишь в том случае, если от Малена будут получены неопровержимые данные. Наконец, он поставил Корантена в известность относительно загадочного управляющего, за которым уже три года ведутся наблюдения. Корантен пришел к тому же выводу, что и его начальник: «Мален осведомлен о заговоре! Но почем знать, – подумал он, – не участвует ли в нем и сам Фуше?»
Корантен, прибывший в Труа раньше Малена, вошел в сношения с начальником местной жандармерии и отобрал себе наиболее смышленых людей, поставив во главе их толкового капитана. Корантен предупредил капитана, что местом сбора назначается гондревильский замок, велел выслать к ночи пикет из двенадцати жандармов и расставить их в четырех разных пунктах сен-синьской долины на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы не вызвать лишних толков. Эти четыре пикета должны были образовать вокруг сен-синьского замка квадрат, который надлежало постепенно сжимать. Предоставив Корантену хозяйничать в замке во время своего совещания с Гревеном, Мален тем самым дал ему возможность выполнить часть поручения Фуше. По возвращении из парка государственный советник с такой уверенностью сказал Корантену, что Симезы и д'Отсэры находятся где-то здесь, что агенты отослали капитана, который, к счастью для молодых дворян, проехал через лес по большой дороге; а в это время Мишю спаивал своего соглядатая Виолета. Государственный советник начал с того, что рассказал Пераду и Корантену о засаде, из которой ему удалось ускользнуть. В ответ на это парижане передали ему историю с карабином, и Гревен послал Виолета в охотничий домик, чтобы разузнать, что там происходит. Корантен посоветовал нотариусу увести своего друга, государственного советника, для большей безопасности к себе в Арси и предоставить ему там ночлег. Итак, в то время как Мишю бросился в лес и поспешил в Сен-Синь, Перад с Корантеном выехали из Гондревиля в убогом плетеном кабриолете, запряженном почтовой клячею; кабриолетом правил арсийский вахмистр, один из самых хитрых местных жандармов, рекомендованный начальником жандармерии в Труа.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































