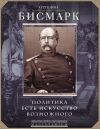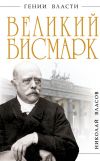Текст книги "Мысли и воспоминания"

Автор книги: Отто Бисмарк
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 52 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]

Отто фон Бисмарк
Мысли и воспоминания
Том I
Глава первая
До первого соединенного ландтага
I
В качестве естественного продукта нашей государственной системы образования я к пасхе 1832 г. окончил школу пантеистом. Если я и не был республиканцем, то все же был тогда убежден, что республика есть самая разумная форма государственного устройства; к этому присоединялись размышления о причинах, заставляющих миллионы людей длительно повиноваться одному, между тем как от взрослых мне приходилось слышать резкую и непочтительную критику правителей. Из подготовительной гимнастической школы Пламана с ее традициями Яна, в которой я воспитывался с шестилетнего до двенадцатилетнего возраста, – я вынес наряду с этим немецко-национальные впечатления. Но эти впечатления оставались в стадии теоретического созерцания и были не настолько сильны, чтобы вытравить во мне врожденные прусско-монархические чувства. Мои исторические симпатии оставались на стороне власти. С точки зрения моих детских понятий о праве, Гармодий и Аристогитон были, так же как и Брут, преступниками, а Телль – бунтовщиком и убийцей. Меня раздражал любой немецкий князь, противодействовавший до Тридцатилетней войны императору; но, начиная с великого курфюрста, я был уже настолько пристрастен, что осуждал императора и находил естественной подготовку Семилетней войны. Тем не менее немецкое национальное чувство было во мне так сильно, что в первое время моего пребывания в университете я примкнул к студенческой корпорации (Burschenschaft), которая провозглашала своей целью заботу о развитии этого чувства. Однако при личном знакомстве с членами корпорации мне не понравилось их стремление избегать дуэлей и отсутствие у них внешней благовоспитанности и манер, принятых в обществе. Когда я узнал их еще ближе, то не мог одобрить и их экстравагантных политических взглядов, объяснявшихся недостатком образования и знакомства с существующими, исторически сложившимися условиями жизни, которые мне, в мои 17 лет, приходилось наблюдать непосредственней, нежели большинству старших, чем я, студентов; у меня сложилось впечатление, что утопизм сочетался у них с недостатком воспитанности. В глубине души я тем не менее сохранял свои национальные чувства и веру в то, что развитие в близком будущем приведет нас к германскому единству; с моим другом, американцем Коффином я заключил пари, что эта цель будет достигнута не позже чем через двадцать лет.
Мой первый семестр совпал с Гамбахским праздником (27 мая 1832 г.), его песни остались в моей памяти; третий семестр совпал с Франкфуртским путчем (3 апреля 1833 г.). Эти факты произвели на меня отталкивающее впечатление; мне, воспитанному в прусском духе, претило насильственное посягательство на государственный порядок. Я возвратился в Берлин не столь либерально настроенным, как до моего отъезда оттуда. Но эта реакция вновь ослабла, после того как я вошел в более непосредственное соприкосновение с государственным механизмом. То, что я думал о внешней политике, которой публика мало в то время интересовалась, было в духе освободительных войн, воспринятых под углом зрения прусского офицера. При взгляде на географическую карту меня раздражало, что Страсбургом владели французы, а посещение Гейдельберга, Шпейера и Пфальца возбудило во мне чувство мести и воинственное настроение. В период, предшествовавший 1848 г., аускультатору каммергерихта и правительственному референдарию без связей в министерских и высших ведомственных кругах почти невозможно было рассчитывать на какое бы то ни было участие в прусской политике. Ему нужно было сначала пройти однообразный, измеряемый десятилетиями путь по ступеням бюрократической лестницы, пока, наконец, высшие инстанции могли обратить на него внимание и приблизить его к себе. В качестве примера, достойного в этом отношении подражания, мне в моем семейном кругу указывали тогда на таких людей, как Поммер-Эше и Дельбрюк, а в качестве подходящего направления деятельности рекомендовали работать [в органах] Таможенного союза. Я же, насколько в моем возрасте вообще мог серьезно думать о служебной карьере, имел в виду дипломатическую деятельность даже после того, как встретил мало поощряющий прием со стороны министра Ансильона при моем обращении к нему по этому поводу. Как на образец тех качеств, которых недоставало нашей дипломатии, он указывал – не мне лично, а высшим сферам – на князя Феликса Лихновского, хотя личность эта вела себя в Берлине так, что не могла, казалось, рассчитывать на сочувственное отношение со стороны министра, происходившего из среды протестантского духовенства.
Министр находил, что наше доморощенное прусское поместное дворянство не могло дать дипломатии необходимого ей пополнения и не в состоянии было возместить недостаток в дарованиях, который он замечал в личном составе этого ведомства. Такой взгляд имел известное основание. В качестве министра я всегда питал особое расположение к коренным прусским дипломатам, как к своим землякам, но долг службы редко позволял мне проявлять это предпочтение на деле: обычно – лишь в тех случаях, когда я имел дело с лицами, перешедшими с военной службы на дипломатическую. У чисто прусских дипломатов из штатских, не знакомых вовсе или недостаточно знакомых с военной дисциплиной, я обыкновенно встречал излишнюю склонность к критике, к всезнайству, к оппозиции и личной обидчивости; все это усиливалось неудовольствием, которое испытывает эгалитарное чувство старого прусского дворянина, когда человек одного с ним положения оказывается выше его или, – вне отношений, связанных с военной службой, – становится его начальством. В армии эти круги на протяжении столетий свыклись с подобной возможностью и, достигнув более высоких постов, вымещают на своих подчиненных остаток того недовольства, которое испытывали сами по отношению к прежнему начальству. В дипломатии дело осложняется тем, что аспиранты из числа состоятельных лиц или лиц, случайно владеющих иностранными языками, особенно французским, претендуют в силу этого на особые преимущества и оказываются самыми требовательными и наиболее склонными к критике руководящих сфер. Знание языков, хотя бы в объеме знаний обер-кельнера, легко давало у нас людям повод считать себя призванными к дипломатической карьере. Так было до тех пор, пока предъявлялось требование, чтобы наши дипломатические донесения, в особенности адресуемые ad regem [королю], писались на французском языке. Правда, это соблюдалось не всегда, но официально оставалось в силе до моего назначения министром. Из числа наших посланников старшего поколения я знавал нескольких, которые, не разбираясь в политике, достигли высших постов единственно благодаря тому, что свободно владели французским языком; да и они сообщали в своих донесениях только то, что могли бегло изложить на этом языке. Мне еще в 1862 г. приходилось писать свои служебные донесения из Петербурга по-французски; посланники, которые писали и частные письма министру на этом языке, считались в силу этого одаренными особым призванием к дипломатии, хотя бы даже они были известны как неспособные к политическому суждению.
Кроме того, Ансильон был не так уж неправ, находя, что большинство аспирантов из кругов нашего поместного дворянства обычно лишь с трудом отрешалось от узкого круга своих тогдашних берлинских, так сказать, провинциальных взглядов; он считал, что на дипломатическом поприще им было бы нелегко изжить в себе специфически прусских бюрократов и приобрести лоск европейских. К чему это приводило, становится ясным, когда просматриваешь списки наших дипломатов того времени; поражаешься, как мало среди них настоящих пруссаков. Быть сыном аккредитованного в Берлине чужого посланника уже само по себе являлось основанием для привилегий. Дипломаты, выросшие при мелких дворах и принятые затем на прусскую службу, нередко были в более выгодном положении по сравнению с местными уроженцами, так как держались в придворных кругах с большей assurance (уверенностью) и были менее застенчивы. Примером мог бы послужить прежде всего господин фон Шлейниц. В списках следуют далее члены владетельных домов: происхождение заменяло им таланты. Ко времени когда я был назначен во Франкфурт, кроме меня, барона Карла фон Вертера, Каница и женатого на француженке графа Макса Гацфельда, я едва ли припомню хотя бы одного дипломата прусского происхождения, который возглавлял бы где-либо крупную миссию. Иностранные фамилии котировались выше: Брасье, Перпонше, Савиньи, Ориола. Подразумевалось, что они свободно владеют французским языком, и нравилось, что они «издалека». [Дипломаты прусского происхождения] обычно обнаруживали, кроме того, недостаточную готовность брать на себя ответственность во всех случаях, когда нельзя было укрыться за совершенно точными инструкциями, подобно тому как это было в армии 1806 г., при господстве старой школы времен Фридриха. Мы уже тогда выращивали непревзойденный ни одним государством офицерский материал – вплоть до полкового командира, но за этими пределами прусская кровь перестала оплодотворяться дарованиями, как это было при самом Фридрихе Великом. Наши полководцы, добивавшиеся наибольших успехов, – Блюхер, Гнейзенау, Мольтке, Гебен не были исконными пруссаками, точно так же как Штейн, Гарденберг, Моц и Грольман – на поприще гражданской службы. Дело обстоит так, как если бы наши государственные люди, подобно деревьям в питомнике, нуждались в пересадке для полного развития своих корней.
Ансильон посоветовал мне выдержать прежде всего экзамен на правительственного асессора, а затем уже окольным путем, поработав в Таможенном союзе, искать доступа в германскую дипломатию Пруссии; призвания к европейской дипломатии он, повидимому, не ожидал от отпрыска отечественного поместного дворянства. Я решил следовать его указаниям и начать с экзамена на правительственного асессора.
Лица и порядки нашей юстиции, где началась моя деятельность, давали моему юношескому уму скорее критический, нежели назидательный материал. Практическое обучение аускультатора начиналось с ведения протоколов уголовного суда. Советник фон Браухич, к которому я был прикомандирован, поручал мне необычно много этой работы, так как я писал тогда исключительно быстро и четко. Из «расследований», как назывались уголовные дела при тогдашнем порядке судопроизводства, на меня произвел особенно сильное впечатление процесс широко разветвленного в то время в Берлине общества приверженцев противоестественных пороков. Организация участников по клубам, списки, нивелирующее влияние совместного занятия запретным представителей положительно всех сословий – все это уже в 1835 г. свидетельствовало о деморализации, не уступавшей тому, что выявил процесс супругов Гейнце (октябрь 1891 г.). Общество это имело сторонников и в высших кругах. Судебные акты, касавшиеся этого дела, были затребованы министерством юстиции, как говорили, по настоянию князя Витгенштейна и не были возвращены по крайней мере до тех пор, пока продолжалась моя деятельность в уголовном суде.
Проработав четыре месяца над составлением протоколов, я был переведен в городской суд, разбиравший гражданские дела, и сразу же оказался вынужденным перейти от механического писания под диктовку к самостоятельной работе, выполнение которой затруднялось моей неопытностью и моими чувствами. Бракоразводные дела были вообще в то время первой стадией самостоятельной работы юриста-новичка. Делам этим придавалось, очевидно, наименьшее значение. Они были поручены самому неспособному советнику по фамилии Преториус и велись при нем совсем зелеными юнцами-аускультаторами, которые производили, таким образом, in согроге vili [на второстепенном материале] свои первые эксперименты в роли судей, правда, под номинальной ответственностью господина Преториуса, но обычно в его отсутствие. Для характеристики этого господина нам, молодым людям, рассказывали, что, когда его во время заседаний приходилось выводить из состояния легкой дремоты для подачи голоса, он имел обыкновение говорить: «Я присоединяюсь к мнению моего коллеги Темпельгофа»; иной раз при этом ему надо было указывать, что господин Темпельгоф на заседании не присутствует.
Однажды мне пришлось обратиться к нему, так как я оказался в затруднительном положении: мне, в мои двадцать лет и несколько месяцев, предстояло сделать попытку к примирению возбужденной супружеской четы. Задача эта представлялась моему восприятию в своего рода церковном и нравственном ореоле, которому, как мне казалось, не вполне соответствовало мое душевное состояние. Я застал Преториуса в дурном настроении не вовремя разбуженного пожилого человека, разделявшего к тому же довольно распространенное среди старых бюрократов нерасположение к молодым дворянам. «Досадно, господин референдарий, – сказал он мне с пренебрежительной усмешкой, – когда человек до такой степени беспомощен, я покажу вам, как это делается». Я вернулся с ним в комнату присутствия. Дело сводилось к тому, что муж хотел развода, а жена – нет, муж обвинял ее в нарушении супружеской верности, а она, заливаясь слезами, патетически клялась в своей невиновности и, невзирая на дурное обращение мужа, настаивала на том, чтобы остаться при нем. Шепелявя, как это было ему свойственно, Преториус обратился к жене со словами: «Не будь дурой. Зачем тебе это? Придешь домой – муж изобьет тебя так, что тебе не поздоровится. А скажи ты просто «да», и с пьяницей у тебя раз и навсегда покончено». – «Я честная женщина, не могу взять на себя позор, не хочу развода», – завопила женщина. После неоднократного обмена репликами в том же тоне господин Преториус обратился ко мне со словами: «Она не хочет внять голосу благоразумия; пишите, господин референдарий…» – и продиктовал мне заключение; оно произвело на меня столь сильное впечатление, что я и сейчас помню его от слова до слова: «После того как была сделана попытка к примирению сторон и все убеждения, основанные на доводах нравственности и религии, остались безуспешными, было решено, как ниже следует». Мой начальник поднялся со словами: «Запомните, как это делается, и впредь не беспокойте меня подобными вещами». Я проводил его до дверей и продолжал разбирательство. Мой стаж по бракоразводным делам продолжался, сколько помнится, от четырех до шести недель, но мне уже не приходилось больше мирить стороны. Налицо была определенная потребность в указе, который регулировал бы бракоразводный процесс, чем и пришлось ограничиться Фридриху Вильгельму IV после того, как его попытка издать закон об изменении имущественно-брачного права потерпела неудачу в результате сопротивления государственного совета. Следует при этом отметить, что упомянутым указом впервые в провинциях общего земского права вводился институт государственных стряпчих, которые должны были выступать в качестве defensores matrimonii [блюстителей брака] и защитников интересов третьих лиц против тайного сговора сторон.
Более привлекательной была следующая стадия разбирательства мелких дел. Молодой, неопытный юрист приобретал здесь по крайней мере навык в приеме жалоб и опросе свидетелей, хотя в общем его больше использовали как подсобного работника и меньше занимались его обучением. Помещение суда и судебное производство несколько напоминали суетливую обстановку у железнодорожной кассы. Пространство, где, спиной к публике, заседали председательствующий советник и три или четыре аускультатора, было обнесено деревянным барьером, и перед образовавшимся таким образом четырехугольником толпились стороны, сменяя друг друга и производя то больший, то меньший шум.
Мое общее впечатление от лиц и учреждений не изменилось существенным образом с моим переходом в административное ведомство. Стремясь сократить окольный путь к дипломатической карьере, я избрал одно из рейнских управлений, а именно аахенское; курс работы в этом управлении мог быть сокращен до двух лет, тогда как в старых прусских провинциях на это требовалось не менее трех лет.
Мне представляется, что при комплектовании рейнских административных коллегий в 1816 г. поступали подобно тому, как в 1871 г. при организации управления Эльзас-Лотарингии. Власти, которым приходилось уступать часть своего персонала, не считались, видимо, с государственной необходимостью дать лучшее из того, чем они располагали, для выполнения трудной задачи ассимиляции вновь присоединенного населения, а отбирали чиновников, ухода которых желало начальство или они сами; в коллегиях все еще встречались бывшие секретари префектур и другие остатки французской администрации. Личный состав не всегда отвечал тому несколько необоснованному идеалу, который витал передо мной, когда мне было 21 год; еще менее соответствовало ему содержание текущей работы. Мне вспоминается, что при частых разногласиях между чиновниками и населением или среди каждой из этих сторон – разногласиях, полемика вокруг которых длилась годами и нагромождала груды дел, – я обычно оставался под впечатлением: «да, пожалуй, можно сделать и так»; вопросы, то или иное решение которых не стоило затраченной на них бумаги, вполне могли быть разрешены одним префектом при затрате вчетверо меньшего количества труда. Если не считать низшего служебного персонала, то при всем том работа, которую в течение дня должен был выполнить чиновник, была невелика, должности же начальников отделений были чистой синекурой. Уезжая из Аахена, я составил себе невысокое мнение о нашей бюрократии в общем и об отдельных ее представителях в частности, за исключением даровитого президента графа Арнима Бойценбурга. Но относительно некоторых лиц это мнение изменилось в более благоприятном для них смысле, когда я вскоре познакомился с потсдамским управлением, куда я был переведен в 1837 г. по собственному моему желанию; косвенные налоги находились там, в отличие от других провинций, в ведении администрации, а именно они приобретали для меня особое значение, если я действительно стремился сделать таможенную политику базисом моего будущего.
Члены коллегии произвели здесь на меня более достойное впечатление по сравнению с аахенскими, но в своей совокупности они все же представлялись мне людьми с косичкой и в парике. К той же категории я в силу юношеской заносчивости причислял и патриархально-почтенного обер-президента фон Бассевица. В отличие от него аахенский регирунгс-президент граф Арним хотя и казался мне также человеком в парике общепринятого на государственной службе образца, но без косички – в переносном смысле слова. Переменив впоследствии государственную службу на жизнь в деревне, я в своих взаимоотношениях помещика с властями сохранил, как мне теперь представляется, очень уж отрицательное мнение о достоинствах нашей бюрократии и, пожалуй, чрезмерную склонность критиковать ее. Помню, как мне, замещавшему тогда ландрата, пришлось дать однажды заключение по плану об отмене выборности ландратов. Я высказался в том смысле, что уважение к бюрократии падает по мере удаления [по иерархической лестнице] от ландрата кверху. Уважением бюрократия пользуется только в образе ландрата – фигуры с головой Януса, одно лицо которого обращено к бюрократии, другое – к земству.
Склонность к нелепому вмешательству в самые разнообразные стороны жизни проявлялась при тогдашнем патриархальном режиме, быть может, сильней, чем в наше время; но те, кто осуществлял это вмешательство, были не столь многочисленны и стояли по уровню своего образования и воспитания выше части своих теперешних преемников. Чиновники достославного королевского правительства были честными, образованными и благовоспитанными чиновниками. Но их благожелательная деятельность не всегда встречала признание, так как сопровождалась недостаточным знакомством с местными условиями и разменивалась на мелочи, относительно которых взгляды ученого горожанина за канцеляр-ским столом не всегда выдерживали критику простого человеческого здравого смысла крестьянина. Членам административных коллегий приходилось тогда делать multa, а не multum [много, но незначительное]. Отсутствие более высоких задач приводило к тому, что они не находили себе достаточного количества действительно нужной работы и в своем должностном рвении выходили далеко за пределы потребностей управляемых, впадая в манию регламентирования, в то, что швейцарцы называют «Befehlerle» [ «повелительство»].
Если бросить для сравнения беглый взгляд в сторону современности, то придется отметить: в свое время надеялись, что после введения действующей ныне системы местного самоуправления государственные учреждения будут избавлены от излишка дел и чиновников. На самом деле получилось нечто прямо противоположное этому: количество чиновников и их загруженность делами значительно возросли в связи с увеличением переписки и возникновением трений между административными инстанциями и органами самоуправления, начиная от провинциального совета и кончая сельским общинным управлением. Раньше или позже наступит критический момент, когда мы окажемся раздавленными под бременем писанины, а главное – низшей бюрократии. Наряду с этим бюрократическое давление на частную жизнь усилилось еще и благодаря тому способу, каким осуществляется «самоуправление»; в сельских общинах оно ощущается теперь острее, чем прежде. Некогда столь же близкий населению и государству ландрат представлял собой последнее звено государственной бюрократии; еще ниже стояли местные органы, которые подлежали, правда, контролю дисциплинарной власти окружной и центральной бюрократии, но не в такой мере, как сейчас. То самоуправление, какое предоставлено теперь сельскому населению, вовсе не равноценно автономии, которой издавна пользуются города: в лице старшины оно получило начальника, который по приказам свыше, со стороны ландрата, и под угрозой дисциплинарных взысканий оказывается вынужденным обременять своих сограждан в пределах своего округа всякого рода списками, извещениями, требованиями, – все это в соответствии с общим духом государственной иерархии. Управляемые – contribuens plebs [платящий народ] – не обладают уже более в лице ландрата гарантией против неуместного вмешательства в свои дела, гарантией, выражавшейся прежде всего в том, что ставший ландратом житель того или иного округа имел обычно твердое намерение оставаться здесь в этой должности всю свою жизнь и разделял, таким образом, радости и горести своего округа. Пост ландрата оказался теперь низшей ступенью дальнейшего продвижения на административном поприще, и его домогаются молодые асессоры, побуждаемые к тому законным честолюбивым стремлением сделать карьеру; для достижения этой цели они нуждаются не столько в добрых чувствах жителей округа по отношению к ним, сколько в благоволении министра, и стараются снискать его, проявляя исключительное рвение и оказывая всемерное давление на старшин мнимого самоуправления при осуществлении даже никчемных бюрократических экспериментов. В этом заключается в значительной мере причина переобременения подчиненного им населения в системе местного «самоуправления». «Самоуправление» означает, таким образом, резкое усиление бюрократии, умножение чиновников, их власти и их вмешательства в частную жизнь.
Природе человека присуще свойство, в силу которого он, соприкасаясь с теми или другими порядками, склонен чувствовать и видеть прежде всего шипы, а не розы. Эти шипы вызывают раздражение против того, что в данное время существует. Старые правительственные чиновники, вступая в непосредственное соприкосновение с управляемым населением, проявляли педантизм и отчужденность от практической жизни благодаря своим занятиям за зеленым сукном. Но вместе с тем оставалось впечатление, что они искренно и добросовестно стремились быть справедливыми. Этого нельзя сказать об отдельных звеньях современного местного самоуправления в тех частях страны, где партии резко противостоят друг другу; благосклонность к политическим единомышленникам и предубежденное отношение к противникам нередко препятствуют беспристрастной работе учреждений. Сопоставляя на основании моего опыта, относящегося к тому времени, и более позднему периоду, судебные решения с административными с точки зрения их беспристрастия, я не могу признать превосходство исключительно лишь за первыми, по крайней мере – не во всех случаях. У меня, наоборот, создалось впечатление, что судьи низших и местных инстанций легче и полнее поддаются сильному воздействию партийных течений, чем чиновники администрации; да и едва ли можно найти какое-либо психологическое основание к тому, чтобы при одинаковом образовании судей и чиновников последние a priori [заранее] должны были считаться менее справедливыми и добросовестными в своих должностных решениях, чем первые. Но я согласен, что административные постановления отнюдь не выигрывают ни в смысле честности, ни в смысле своего соответствия существу дела от того, что они принимаются коллегиально; независимо от того, что при решении вопроса большинством голосов арифметика и случай заступают место логического обоснования, чувство личной ответственности, – эта существенная гарантия добросовестности решения, – утрачивается сразу же, когда что-либо решает анонимное большинство.
Ход дел в обеих коллегиях, как в Потсдаме, так и в Аахене, не мог возбудить во мне особого рвения. Я находил порученный мне круг занятий мелочным и скучным; воспоминания о моей работе по процессам о невзносе пошлин с помола и в связи с повинностью по постройке плотины в Роцисе, близ Вустергаузена, не вызывали во мне впоследствии желания возвратиться к моей тогдашней деятельности. Отказавшись от честолюбивой мечты о чиновничьей карьере, я охотно последовал желанию моих родителей и занялся запутанными делами управления нашими померанскими имениями. Я рассчитывал жить и умереть в деревне, преуспев на поприще сельского хозяйства и, быть может, отличившись на войне, если бы она разразилась. Остававшееся еще у меня в деревенской обстановке честолюбие было честолюбием лейтенанта ландвера.
II
Впечатления, воспринятые мною в детстве, мало способствовали тому, чтобы во мне развились черты, свойственные юнкеру. В воспитательном заведении Пламана, устроенном на основе принципов Песталоцци и Яна, частичка «фон» перед моей фамилией мешала мне чувствовать себя непринужденно в обществе сверстников и учителей. Равным образом в гимназии у Серого монастыря (zum Grauen Kloster) мне пришлось испытать на себе со стороны нескольких учителей ту ненависть к дворянству, которую сохранила значительная часть образованного бюргерства как воспоминание из времен, предшествовавших 1806 г. Но даже эта агрессивная тенденция, которая проявлялась при известных обстоятельствах в бюргерских кругах, ни разу не вызвала с моей стороны каких-либо ответных действий. Отец мой был чужд аристократических предрассудков, и если даже свойственное ему внутреннее чувство равенства и подверглось, быть может, некоторым изменениям, то только под влиянием офицерских впечатлений молодости, а отнюдь не в силу преувеличенного представления о преимуществах происхождения. Мать моя была дочерью Менкена, советника кабинета Фридриха Великого, Фридриха-Вильгельма II и Фридриха-Вильгельма III; Менкен слыл в придворных кругах того времени либералом; он происходил из лейпцигской профессорской семьи; ее последние, ближайшие ко мне представители оказались в Пруссии на службе в иностранном ведомстве и при дворе. Барон фон Штейн отзывался о моем деде Менкене, как о честном и весьма либеральном чиновнике. При таких обстоятельствах воспринятые мной с молоком матери взгляды были скорее либеральными, нежели реакционными, и если бы моя мать дожила до времени моей министерской деятельности, то она вряд ли была бы согласна с направлением этой деятельности, хотя внешний успех, сопровождавший мою служебную карьеру, чрезвычайно порадовал бы ее. Она выросла в бюрократических и придворных кругах. Фридрих-Вильгельм IV, вспоминая о своих детских играх с нею, называл ее Минхен. Я могу, таким образом, подчеркнуть, насколько несправедливой является такая оценка моих юношеских взглядов, когда мне приписывают «предрассудки моего сословия» и утверждают, будто воспоминание о прерогативах дворянства послужило исходным пунктом моей внутренней политики.

Фамильный герб Отто фон Бисмарка

Мать Отто фон Бисмарка, Вильгельмина фон Бисмарк, урожденная Менкен. Худ. В. Аллерс
Равным образом и неограниченный авторитет старой прусской королевской власти не был и не является последним словом моих убеждений. На первом Соединенном ландтаге я был, правда, убежден, что в государственно-правовом смысле такой авторитет монарха налицо, но при этом рассчитывал и стремился к тому, чтобы в будущем неограниченная власть короля постепенно определила сама меру своего ограничения. Абсолютизм требует от правителя в первую очередь беспристрастия, честности, верности своему долгу, работоспособности и скромности. Но даже когда монарх обладает всеми этими достоинствами, то и тогда фавориты – мужчины и женщины, в лучшем случае законная супруга, – собственное тщеславие и восприимчивость по отношению к лести отнимают у государства часть плодов королевского благоволения, ибо монарх не всеведущ и не может одинаково успешно охватить все стоящие перед ним задачи. Я уже в 1847 г. стоял за то, что следует добиваться возможности публичной критики правительства в парламенте и прессе, дабы избежать грозящей монарху опасности со стороны женщин, придворных, карьеристов и фантазеров, стремящихся держать монарха в шорах и мешающих ему видеть его монаршие задачи во всем их объеме и предупреждать или выправлять злоупотребления. Мои воззрения на этот счет становились все более четкими и определенными по мере того, как я ближе знакомился с придворными кругами и должен был отстаивать государственный интерес вопреки придворным течениям и оппозиции со стороны ведомственного патриотизма. Лишь государственный интерес руководил мной, и клевета, когда даже благожелательные ко мне публицисты обвиняют меня в том, будто я когда бы то ни было отстаивал господство дворянства. Я никогда не считал, что происхождение способно восполнить недостаток деловитости; если я и защищал землевладение, то делал это не в интересах землевладельцев одного со мною сословия, а потому, что в упадке сельского хозяйства я вижу одну из величайших опасностей для всего нашего государственного существования. В качестве идеала мне всегда представлялась монархическая власть, которая контролировалась бы независимым, по моему мнению – сословным или профессиональным, представительством от страны в той степени, в какой это необходимо, чтобы ни монарх, ни парламент не могли изменять существующее правовое состояние односторонне, а лишь communi consensu [с общего согласия] при условии гласности и публичной критики прессой и ландтагом всего происходящего в государстве.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?