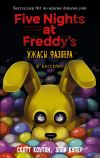Читать книгу "Конечная остановка (сборник)"

Автор книги: Павел Амнуэль
Жанр: Социальная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Астрофизика, – вставил Алкин и замолчал под осуждающим взглядом Сары.
– Э-э… да. И еще он меня спросил, я даже удивился, подумал: эти иностранцы невоспитанны, никакого понятия о хороших манерах. Я печать достал, а он вдруг спрашивает: «Как вы относитесь к Дженнифер, что на почте работает? Вы ее любите или просто так?». Я чуть печать не уронил и ответил резко, хотя и был на службе: «Вам какое дело?». Грохнул печать и протянул готовые документы. Уж как он мне стал неприятен… Да, ухаживал я за Дженни, я ей и предложение делал, честь по чести, а она отказывала, причем не так чтобы совсем, а как женщины умеют: вроде и нет, но такое ощущение, что сказала бы «да», но что-то ей мешает. Попробуй, мол, еще раз чуть позже, я, мол, могу передумать. Так-то… Хэмлин бумаги взял, сунул в портфель и… Что было дальше, не помню. Пытался вспомнить, много раз пытался. То вспоминается, будто он так и ушел молча. А то – будто он на меня удивленно посмотрел и сказал: «Мое это дело, конечно. И не советую вам к Дженни приставать». Не советует, значит.
Летом мистер Берримор уехал на лечение во Францию, он каждое лето проводил на Ривьере, лечил свой бронхит, и я остался вроде старшего. С Дженни в те месяцы у меня все было хорошо – мы гуляли, ездили в Грэфхем на озеро, я был почти уверен, что она за меня выйдет, хотя знал, конечно, что и Хэмлин к ней подкатывался, и еще кое-кто в деревне, из тех, с кем мы в детские годы вместе по лесам шастали. Сэм Коллинз, например. Меня это злило, конечно, но Дженни, когда я с ней разговор заводил, только смеялась и говорила, чтобы я не брал в голову, у всех ее подруг, мол, тоже по пять-шесть ухажеров, это нормально, девушка должна иметь возможность выбирать, верно?
Так получалось, что мы с Хэмлином довольно часто сталкивались на почте – он приходил получать свои научные журналы, он их из Америки выписывал, я видел пакеты, а я после работы Дженни у дверей сторожил, провожал домой, правда, она не всегда разрешала, и я ревновал, понимал, что этим вечером она с Джеком договорилась или с тем же Хемлином.
Не знаю, получил ли он наследство из Парижа. Никуда он из деревни надолго не выезжал, только в Кембридж на работу. Однажды – это уже осенью было, примерно за неделю до того, как он меня ножом саданул…
– Хэмлин? Точно? – не удержался от восклицания Алкин. – Вы видели?
– Алекс! – сказала Сара, а старик поджал губы, осуждающе посмотрел не на Алкина, а куда-то поверх его головы, и продолжал:
– Случился у меня с Хэмлином разговор. Он из Кембриджа возвращался, а я к Дженни шел, куда-то мы вечером собрались, не помню. Идем навстречу друг другу. Думаю – как вежливый человек, я должен поздороваться, верно? Поравнялись мы, только я рот раскрыл, а он мне говорит: «Сэр, не будет ли у вас пяти минут, чтобы меня выслушать? Я вас надолго не задержу». Когда вежливо просят, почему нет? Отошли мы к донжону, там скамейка стояла, сели. «Мэт», – говорит он, а я про себя думаю, что, если он о Дженни речь заведет, я его все-таки побью. Но о Дженни в тот вечер не было ни слова. «Мэт, – сказал он, – я сейчас провожу очень важный для меня эксперимент в области физики»… Или не физики, какое-то слово он сказал, я не запомнил. «И мне, – говорит, – позарез нужна ваша помощь». Странно, да? Я так и сказал. А он: «Если вы не против, то прошу не удивляться ничему, что будет происходить. У вас, Мэт, память профессиональная, запоминайте, а потом сверим впечатления». Я говорю: «Хорошо, если только в этом моя помощь заключается, хотя и непонятно, какой эксперимент можно провести в нашей глуши». Он засмеялся и сказал: «Главное – вера и знание». Эти два слова я запомнил точно: вера и знание. Честно говоря, я был рад, что он о Дженни вроде и забыл, а в науке помочь – почему нет? Если бы знал, чем кончится…
Гаррисон замолчал, прислушиваясь к своим ощущениям. Что-то у него заболело или о чем-то он вспомнил – Алкину показалось (может, так и было на самом деле), что в уголках глаз у старика выступили слезы.
– Мистер Гаррисон! – позвала, появившись у двери в коридор, малышка Флорес. – Вечерний чай готов! Ваши гости, наверно, собираются уходить.
Намек был более чем прозрачным.
– Уйдут, когда я скажу, – заявил Гаррисон. – Чай подождет.
Флорес вышла, не сказав больше ни слова. Похоже, – подумал Алкин, – со стариком здесь считаются.
– Ночью, – продолжал Гаррисон, – я не мог заснуть. Весь тот день был ужасный. Я вам не сказал: предыдущей ночью кто-то убил Манса Коффера. Вся деревня об этом только и говорила. Нож не нашли, значит, кто-то его унес. Я хотел поговорить с Дженни, но ее не выпустили из дома, я покрутился неподалеку и пошел к себе. Что-то было. Предчувствие? Или нормальное беспокойство? Не знаю. Полежал без сна до утра, встал с тяжелой головой, собрался на работу… И все. Больше ничего не помню. Даже боли не было. Хотел сесть на велосипед и вдруг открыл глаза в больнице. Грудь болит, я решил, что это сердечный приступ, испугался, а тут подходит врач, оказывается, я в госпитале в Кембридже. Потом я опять потерял сознание, больно стало очень… Не хочу вспоминать. На третий день пришел детектив. Спрашивал, записывал. А что я мог сказать? Никого не видел, ничего не слышал. Но я точно знал – это Хэмлин. Как он это сделал? Бог весть. Мстил за Дженни? Наверно, но я был уверен, что не в Дженни дело. То есть, не только в ней. Он же меня предупреждал ничему не удивляться, и я согласился. Важный опыт, да. Если бы он из-за Дженни… Ну, ударил бы, я бы ему тоже влепил. Парни у нас часто дрались из-за девушек – как везде, впрочем. Но чтобы ножом… и никаких следов… ясно, тут какая-то ученая закавыка. Надо было, наверно, сказать детективу о нашем с Хэмлином разговоре. Не сказал. Получилось бы как навет. Все знали, что мы на ножах из-за Дженни…
Я был уверен, что, когда вернусь из больницы, Хэмлин придет объясниться. Про эксперимент свой рассказать. А если бы нож попал на полдюйма выше? Впрочем, Мансу и этого оказалось достаточно. Об остальных я тогда еще не знал – мне не говорили, чтобы не волновать.
Что меня угнетало даже больше, чем рана, – Дженни ни разу в больницу не приехала. Я ждал. Когда дверь открывалась, думал: сейчас войдет она…
Домой меня отпустили в конце октября, и Хэмлин пришел в тот же вечер. Отец мне успел рассказать обо всем, что творилось в деревне, – кроме бедняги Манса и меня, еще двое… И полиция подозревает Хэмлина, хотя улик никаких. Все в разное время увивались вокруг Дженни – ну и что?
Хэмлин явился вскоре после ужина, отец не хотел его впускать, а мать собралась вызвать полицию. Я лежал в своей комнате, к вечеру мне становилось хуже, Дженни так и не пришла, а ведь знала, что я уже дома. Я понимал, что это для меня означало, и боль в душе была больше, чем физическая. Когда я услышал голос Хэмлина, то крикнул отцу… Крикнул, ха… Пробормотал что-то. Мать все-таки услышала, вошла ко мне, я и сказал, что хочу его видеть. Нам, мол, есть о чем поговорить. Впустили.
Хэмлин сел на стул у кровати, и произошел у нас такой разговор, передаю его дословно, потому что память у меня с того вечера, как говорят, фотографическая.
«Как вы себя чувствуете? – это он спрашивает. – Я уверен, все будет в порядке».
Каково? Что я должен был ответить?
«Вашими молитвами, – говорю. И в лоб: – Эксперимент ваш удался?»
Хэмлин на меня посмотрел, до того он глядел в пол, будто глаза боялся поднять, и взгляд у него был такой… не скажу «затравленный», но угасший, пустой, как бывает, когда человек решил, что все кончено.
«Да, – сказал он. – К сожалению».
«К сожалению?» – спросил я иронически, то есть, я хотел, чтобы было иронически, но как получилось – не знаю.
«Да, – повторил он. – Потому что это невозможно контролировать. Я думал, что… Послушайте. Я вам расскажу, это важно, вы можете хоть завтра донести в полицию, и там я все повторю, не беспокойтесь».
«Почему бы вам самому не пойти к Диккенсу?» – спрашиваю.
«Это было бы глупо. Он не поверит. Никто не поверит. Слишком рано. И слишком поздно».
«Рано или поздно? – я начал сердиться, и рана разболелась, я, должно быть, побледнел, потому что Хэмлин вскочил на ноги и, наверно, хотел позвать мать или отца, но я подал знак, садитесь, мол, и продолжайте, со мной все в порядке, могу слушать.
«Хорошо, – сказал он. – Эксперимент, да. Понимаете, Мэт, в чем дело. Доказать что-то в физике невозможно. На самом деле мы не доказываем, а убеждаем коллег в своей правоте, потому что физика не математика, тут нет аксиом Евклида или «дважды два четыре». Решающий эксперимент в физике или решающее наблюдение в астрономии – это не доказательства на самом деле, а способ убеждения оппонента. Если убедил, значит, теория правильна. Понимаете?»
«Ну… – говорю. – В юриспруденции тоже так. Обвинение убеждает присяжных в том, что улик достаточно, а защита – что улик мало или они не относятся к делу. И все это называется доказательствами. А нужно убедить, да…»
«Значит, вы меня поймете. Я знаю, что во всем мироздании нет больше никаких разумных существ, кроме человека. И не будет. И быть не может, потому что наша Вселенная – это элементарная частица материи, если смотреть снаружи. И возникла из элементарной частицы, как пишет месье Леметр. Частицы же бывают двух сортов. Не буду вас утомлять, да вы не поймете, не хочу вас обидеть, просто вы не физик, меня и коллеги не поняли, так что… В общем, Вселенная наша, как частица Ферми, – ничто в ней не повторяется дважды. Понимаете?»
Я собрался с мыслями, хотя это было трудно в моем положении, и сказал:
«Нет. Как это – не повторяется? Вон за окном лес – не одно дерево, а сотни. Вон звезды – вы-то знаете, сколько их на небе, верно?»
«Я не о том, – говорит он с досадой. – Деревьев много, да. Людей тоже. Но разум – один на всю Вселенную. Другого нет. И все звезды светят потому, что водород превращается в гелий, как недавно сэр Эддингтон доказал. Все это объекты одного типа. Других нет. Миллионы деревьев, миллиарды насекомых, триллионы бактерий – одна суть жизни. Белок. Другой жизни нет во всей Вселенной».
«Пусть, – говорю я. – Какая разница?»
И демонстративно дотрагиваюсь до повязки на груди. Он понял, конечно.
«Вы правы, – говорит. – Никакой разницы. Когда-нибудь кто-то поймет, а пока – никакой разницы. И я не буду вам рассказывать о наблюдениях Фрица Цвикки. Логику вы не поймете, а иначе как я вас смогу убедить, что прав? Суд присяжных, верно. Все мы… Ладно. Решает эксперимент. Эксперимент убеждает. Когда мне вернули главную статью и только две, самые простые, позволили опубликовать, да где… В университетских записках, которые только студенты и читают… Я понял, что без эксперимента не обойтись. Но я не знал… Понимаете, я действительно не имел ни малейшего представления о том, что может получиться! Каким окажется результат. Я долго думал. Год. Переехал из Кембриджа в деревню, чтобы ничто не мешало думать. Потом понял, что делаю только хуже, потому что эксперимент на самом деле уже начался. Когда я ощутил внутри себя, что я и кто, и кто все мы, и в какой Вселенной живем, тогда решающий опыт начался сам по себе, я ничего не мог уже поделать, оставалось только следить за собой и не предпринимать ничего такого, что могло…»
«Не понимаю! – сказал я с отчаянием. – О чем вы говорите?»
«О том, что человек не появился бы, если бы Вселенная была устроена иначе. О том, что Вселенную и нас с вами заполняет энергия, но мы ее не ощущаем, как не ощущаем воздуха, которым дышим. Энергия заставляет Вселенную расширяться, физикам это известно уже полтора десятилетия, господин Фридман в России решил уравнения тяготения и доказал, то есть, попытался убедить коллег, что это так, но не убедил даже самого Эйнштейна… Это огромная энергия. Возможно, даже, скорее всего, – бесконечная. И мы из этого океана черпаем, не подозревая о том. Вы верите в Творца?» – неожиданно спросил он.
«Конечно», – мне показался подозрительным его вопрос. Я вспомнил, что Хэмлин русский, а у них, в России, принято сейчас не верить в Бога, но он ведь и француз в некотором роде…
«Ну, тогда… – говорит. – Впрочем, неважно. Можете считать Богом энергетический океан. Мы бы так и остались амебами, если бы не энергия, которая толкает нас в будущее. Обычно ее не ощущаешь, как воздух. Но если понимаешь, что дышишь воздухом, что без воздуха умрешь… Тогда можешь задержать дыхание или наоборот – дышать быстрее. Так и здесь – когда понимаешь, что в тебе энергия, которая раздвигает мироздание… Ощущаешь, что можешь такое… И действительно можешь. Как напрягаешь мышцы, чтобы перепрыгнуть барьер, так напрягаешь разум, чтобы убедить себя и других. Будто черпаешь горстями воду из океана, но не удерживаешь, вода проливается, протекает между пальцев… Я не хотел убивать!» – Хэмлин воскликнул это так яростно, что я приподнялся на подушках, и в груди возникла острая боль. В комнату заглянул отец, он держал ружье, нацелив на Хэмлина, и я махнул рукой: уходи, сами, мол, разберемся. Он не хотел убивать! Господи, я понимал в тот момент, что да, он не хотел, он и мне не хотел причинить зла, я это видел, в тот момент я не мог ошибиться, потому что странным образом чувствовал его мысли, его душу, он мог бы мне и не объяснять ничего больше, потому что настал момент понимания. Не знаю, знакомо ли вам это ощущение, когда понимаешь другого без слов. Без слов понимаешь даже лучше – слова скрывают смысл, а я в тот момент ощутил, что знаю суть опыта, проведенного Хэмлином над собой – не над нами, упаси Боже, хотя получилось не так, как он хотел…
«Я всего лишь впустил в себя больше воздуха, – сказал Хэмлин. – Я только позволил всепроникающей энергии проявиться. Для этого на самом деле нужно немногое. Уверенность в том, что разум один в мироздании, что путь разума предрешен, что энергия, питающая наш разум, бесконечно велика, и, значит, бесконечно велика наша сила, которую мы не осознаем и потому не можем пользоваться. Убежденность, понимаете? Вера. И тогда начинает получаться… Начинает получаться, но, как оказалось, не то, что ты сознательно хочешь, а то, о чем ты даже думать боишься. Что-то внутри нас оказывается сильнее рассудка. Я думал, а что-то внутри думало за меня… Я лежал в постели и представлял, как на поле за церковью, на ничейной земле, где растут сорняки, к утру все будет прополото, растения из земли вырваны, это каждый сможет увидеть, и вы тоже, и все будут знать, что никто не мог сделать эту работу за одну ночь. Это будет доказательство… аргумент… Я думал об этом, глаза закрывались, и в какой-то момент передо мной возникло лицо Дженнифер. Сердце сжалось, тогда, видимо, и наступил момент… Думаешь мыслью, а делаешь чувством… Я вспомнил всех, кто пытался… Дженни отказала каждому, но они хотели… Укол ревности. Острый укол – чуть ниже сердца, будто ножом резануло. Это было минутное… нет, даже мгновенное ощущение. Я отогнал его, оно мешало, и образ Дженнифер я тоже отодвинул, нужно было думать о сорняках, об эксперименте, и я думал. Пока не заснул».
«Не было ничего с тем полем, – сказал я. – Оно и сейчас в сорняках. Ничего у вас не вышло».
«Да, – кивнул он. – Только на следующую ночь кэп Коффер умер от раны в груди, как раз на том месте».
«А потом я», – мой голос, похоже, дрогнул, и Хэмлин положил ладонь мне на грудь. Мне было неприятно прикосновение, не у меня не хватило сил сбросить его руку.
«Потом вы, – согласился он. – А после – остальные. Сначала Джек Петерсон – он живет чуть дальше вас от моего дома. Последним стал Сэм Коллинз – его дом на противоположном краю Бакдена. Почему так? Не знаю. Это – закономерность, которую нужно исследовать».
Он все-таки убрал руку и стиснул ладони так, что побелели костяшки пальцев.
«Исследовать», – пробормотал он и спросил неожиданно: «Вы мне верите? Я не спрашиваю: доказал ли я. Я спрашиваю вас: убедил ли? Верите ли вы?»
Он говорил не как ученый. Физик бы так не сказал, я знаю. Хэмлин спрашивал, будто священник, и я, не думая, ответил так, как отвечал нашему викарию, когда после исповеди он говорил: «Иди, сын мой, и не греши больше».
«Верю», – сказал я.
И добавил: «Потому что нелепо». Наверно, первое слово я произнес вслух, а последние только подумал. Так мне кажется. Хэмлин кивнул и сказал:
«Теперь и вы ощущаете этот океан. Будьте осторожны».
Я представил себе рану в груди Хэмлина и содрогнулся. Он сказал:
«Думать вы можете о чем угодно. Даже о том, что я умер, и вы сплясали на моих похоронах».
Мы посмотрели друг другу в глаза и поняли друг друга. Это, конечно, всего лишь слова, и я не могу раскрыть их содержание, потому что для этого не слова нужны, а то, что стоит за ними и для выражения чего слов не существует.
Он поднялся и пошел к двери.
«Что вы собираетесь делать»? – спросил я с беспокойством. Почему-то я знал, что Хэмлин обречен. Он не доживет до завтрашнего дня. Так бывает: смотришь на стакан, в котором недавно было до краев чистой и вкусной воды, и видишь вдруг, что он пуст.
У двери Хэмлин обернулся и сказал с невыразимой печалью:
«Ничего. Нет сил».
И вышел.
В дверь заглянул отец – без ружья, – внимательно на меня посмотрел, убедился, что все в порядке, и пошел следом за Хэмлином. По-моему, они даже не попрощались.
А утром Хэмлина не стало.
* * *
– Золотой шар, – заворожено произнес Алкин. – Вот, значит, как.
– Что? – не понял Гаррисон, и Сара тоже спросила:
– О чем вы, Алекс?
– Да так… Ассоциация.
– Мистер Гаррисон, – произнес Алкин осторожно, – мы слышали, что полиция не смогла установить, отчего умер Хэмлин.
Старик поднял седые кустистые брови.
– Ха, – хмыкнул он. – Говорите яснее, молодой человек. Не смогла! Сержант Арчи, нашедший Хэмлина мертвым, всю жизнь потом уверял, будто никакой раны в груди у мертвеца не было. Диккенс, главный констебль, осматривал тело час спустя и сказал, что Хэмлин умер от проникающего ранения в сердце. Они даже как-то чуть не подрались – Арчи и Оуэн – и долгое время не разговаривали друг с другом. Пожалуй, примиряло их то, что эксперт, приехавший из Лондона, обнаружил, что Хэмлина задушили. А еще говорили, но это, скорее всего, слухи… Мол, в Лондоне, когда телом Хэмлина занялся патологоанатом, выяснилось, что бедняга оказывается, утонул – в легких нашли воду. Утонул, а? В доме, где даже ванной комнаты не было, только душевая!
– Значит, это правда, – пробормотал Алкин. – Не местная легенда?
– Может, легенда, – равнодушно сказал Гаррисон. – Сейчас уже и не скажешь.
– Но вы только что…
– А что я? Сам я тела Хэмлина не видел. Правда… – он помолчал, бросил взгляд на стоявшую в дверях Флорес, поморщился, коснулся ладонью того места на рубашке, под которым скрывался рубец: – Правда, никто так и не объяснил, как он сумел… Или не он…
– Но вы ему поверили, – констатировал Алкин.
Гаррисон посмотрел ему в глаза:
– Да. Знаете… Так, наверно, верили Иисусу. Он протягивал руку, говорил о любви к ближнему, и грубые люди, которым вера запрещала убивать, но не заставляла любить, верили…
– Вы думаете, что Иисус понимал, в какой Вселенной жил, и, как Хэмлин…
– Не знаю, понимал ли. Может – ощущал, чувствовал?
– О чем вы говорите? – с беспокойством спросила Сара.
– Я объясню, – сказал Алкин. – Потом.
– Всю жизнь после тех дней, – тихо, ни к кому не обращаясь, произнес Гаррисон, – я старался не делать резких движений. Не в том смысле, чтобы руками не махать… ну, вы понимаете. Я так и не стал в фирме компаньоном и на фронте отсиделся в штабе, мне все время казалось, что смерти вокруг – порождение чего-то в моей душе. Думаю, я ошибался, но не мог чувствовать иначе. После войны вернулся на старое место и заполнял бумаги, пока не вышел на пенсию.
– Дженнифер… – начала Сара.
– Я не видел Дженни с той ночи, – покачал головой старик. – Она очень скоро выскочила замуж за Финчли и уехала из Бакдена. Наверно, потому и выскочила, чтобы уехать. Больше я о ней не слышал.
– Она умерла двадцать лет назад, – сообщил Алкин.
– Да? А я, видите, живой. Знаете, сколько мне? Девяносто три. Я дал себе слово дожить до ста. И доживу, уверяю вас. Потому что…
– Потому что вы поверили Хэмлину, – кивнул Алкин.
– Да. И память моя с того вечера стала, как у нынешних компьютеров. Наверно, память как-то связана с энергией, что внутри.
– Эту энергию сейчас называют темной, – сказал Алкин. – Ее изучают, уже составлены карты распределения… Правда, в прямых экспериментах на Земле темную энергию зафиксировать не удалось, она очень слабо взаимодействует с веществом.
Старик сделал рукой неопределенный жест – мол, это ваши проблемы.
– Но вы не могли не думать…
– Я, – сказал Гаррисон, – всю жизнь думал о том, чтобы не думать. Пример Хэмлина стоял перед глазами. Я не хотел… Надеюсь, у меня получилось. То есть, у меня точно получилось. Иначе я не прожил бы столько лет в здравом уме и твердой, очень твердой памяти.
– Память, да… – протянул Алкин. – Значит, вы помните, что произошло с другими? С Петерсоном и Коллинзом.
– Господа, – вмешалась Флорес, подойдя и решительно повернув кресло старика в сторону коридора, ведущего к комнатам, – мистеру Гаррисону пора принимать лекарства, это строго по времени, прошу извинить.
– Вот так всегда, – буркнул старик. – Все по часам. Прощайте, господа.
– Я спросил… – Алкин поднялся и пошел рядом с медленно катившимся креслом, колеса тихо скрипели, Флорес недовольно бормотала себе под нос, старик повернул голову и сказал:
– Я помню, что вы спросили. Вы хотите знать, сказал ли Хэмлин остальным? Он не успел посетить их в больнице, я так думаю. То есть, судя по тому, что с ними потом стало.
– Что с ними стало? – быстро спросил Алкин.
Кресло подкатилось к двери, и старик ухватился рукой за ручку, останавливая движение.
– Мистер Гаррисон! – с упреком сказала Флорес. – Пожалуйста!
– Джек, – старик крепко держался за ручку двери, – умер от рака в сорок девятом. Сэм погиб в сорок четвертом в Бельгии. А я живой и здоровый. Хорош, да?
Гаррисон трескуче рассмеялся, сложил руки на коленях, и кресло покатилось дальше по коридору, хриплый смех старика отражался от стен и стал похож на хохот статуи Командора, пришедшей, чтобы забрать в преисподнюю грешную душу Дон-Жуана.
– Господи, – произнесла Сара, так и не выпустив руки Алкина, – какой страшный старик.
– Страшный? – удивился Алкин.
– Он совсем не умеет любить. Он… как статуя Командора.
– Я тоже об этом подумал, – признался Алкин.
Они вышли из холла в неожиданно промозглый, исчерканный косым дождем осенний вечер. Дневное тепло так резко сменилось похолоданием, что природа не успела приспособиться, и дождь казался не настоящим, а нарисованным на темном заднике, где проступали контуры деревьев, между которыми вспыхивал и исчезал свет автомобильных фар на линейке шоссе.
– Побежим? – сказал Алкин. – Если бежать быстро, не успеем промокнуть.
Ярко сверкнувшая молния осветила им дорогу.
В машине было холодно, Сара включила двигатель и обогреватель, Алкин стянул с себя успевший стать влажным пиджак и провел ладонью по мокрым волосам.
– Сара, – сказал он, – у вас платье… надо переодеться…
– Через десять минут будем дома. Ах, я же оставила в машине сумочку, могу себе представить…
Она достала телефон.
– Тайлер звонил девять раз! Представляю, как он беспокоится.
Алкин отвернулся к окну. Не надо, – думал он, – смог же Гаррисон заставить себя не делать резких движений. Правда, у него характер такой. А у меня? Могу я не думать о Бакли? Не думать о белом слоне. Не думать…
– Алекс, – Сара коснулась его руки, – о чем вы задумались?
– Ни о чем, – ответил Алкин с излишней резкостью.
– Тайлер, конечно, злится, – продолжала Сара. – Так я отвезу вас в Кембридж?
– Ни в коем случае, – твердо сказал Алкин. – Видите остановку? Высадите меня там, я поеду на автобусе.
– Но…
– Вы промокли, вам нужно домой, вас ждет Тайлер. Спасибо за все, Сара.
– Ну… как хотите.
Сказала она это с обидой или облегчением?
– Позвоните мне завтра, хорошо? – крикнула Сара, когда Алкин выбрался из машины и побежал, прикрываясь пиджаком, под козырек автобусной остановки.
* * *
Чайник уныло засвистел, недовольно сообщая о том, как ему не хочется греть залитую в него воду. Нормальное отношение к собственному призванию – умея что-то одно, делаешь это с таким видом, будто на самом деле тебя заставляют заниматься любимым делом из-под палки: пусть никто не думает, что ты получаешь от него единственное в жизни удовольствие.
Алкин переодел рубашку и бросил влажную в корзину для белья, откуда ее утром заберет хозяйка, миссис Бенфорд, чтобы отправить в прачечную и по этому поводу потребовать с постояльца еще два шиллинга на «расходы, не предусмотренные договором о найме».
Налил себе чаю покрепче и, сделав первый глоток, неожиданно начал дрожать, будто ухватился обеими руками за оголенный провод. Он ничего не мог с собой поделать – накинул на плечи одеяло, положил ладони на горячую поверхность электрокамина, ничего не помогало, дрожь только усиливалась, а потом неожиданно прекратилась, когда Алкин уже думал, что это навсегда, и что утром миссис Бенфорд обнаружит на полу его трясущееся в припадке тело.
Может, надо было принять предложение Сары и остаться на ночь в Бакдене? В мотеле можно снять комнату. Тогда он сидел бы сейчас с Сарой… и с Бакли, конечно, куда ж ему деваться. Можно представить, каким напряженным был бы их разговор втроем. Нет, лучше уж… Третий лишний. И хватит об этом.
Жаль, рассказ Гаррисона не включишь в статью. В физике допустимы мысленные эксперименты, к ним обычно прибегают, если нет пока возможности построить прибор, собрать его из проволочек и гаечек или из гигантских магнитов и сложнейших камер слежения. С помощью мысленного эксперимента можно убедить сторонников, но противники все равно уйдут недовольными, сказав много лестных слов о вашей изобретательности и игривости вашего ума, но так и не приняв предложенные вами аргументы. В тридцать пятом – за год до трагедии в Бакдене, – Эйнштейн с двумя коллегами, Подольским и Розеном, придумал гениальный мысленный эксперимент, который определенно доказывал порочность главного принципа квантовой механики. И что же? Гейзенберг склонил голову, а Бор похлопал Эйнштейну? Действительно похлопал, об этом можно прочитать в мемуарах, но остался при своем мнении, а знаменитый мысленный эксперимент Эйнштейна-Подольского-Розена много десятилетий повторяли в своем изощренном воображении лучшие физики планеты, не сумев опровергнуть, но не сумев и доказать, что так повергаются в пыль законы природы.
«Посмотрел бы я, – подумал Алкин, – как пренебрежительно отмахнулся бы Бор от слов того же Подольского, если бы рядом не стоял и не тряс своей седой запущенной шевелюрой сам Эйнштейн».
Хэмлин убедил себя в том, что ему ничего не оставалось, кроме как…
Он понимал, что его вера окажется сильнее любой самой мощной бомбы?
Наверное. Должен был понимать.
И что?
«Но какая это прекрасная физика!», – сказал Ферми, когда его обвинили в создании ужасного оружия.
Хотел бы я посмотреть на физика, вдруг понявшего, как от мысленного эксперимента перейти к реальному. Убеждающему. Опасному. С непредсказуемыми последствиями.
Мораль? Ответственность? Конечно, я буду очень ответственным – потом, когда получу результат. Когда докажу, что прав. Или, точнее – когда сумею убедить оппонентов в своей правоте.
Самый «тонкий» момент в том, что физика невозможна без психологии. Физики уже достаточно спокойно говорят о том, что наблюдение способно менять результат опыта. Но, добавляют, речь идет о процессах в микромире, где правит бал квантовая неопределенность. Однако, разве весь наш так называемый классический мир, вот этот, за окном, где струи дождя стекают по стеклу, отделяя относительное тепло комнаты от не менее относительного холода снаружи, разве этот чайник и эта чашка чая, и эта рука с посиневшими пальцами, разве все это описывается не теми же квантовыми уравнениями?
Если наблюдение способно изменить результат квантовых измерений – и с этим согласны все физики, независимо от школы, к которой они принадлежат, – то почему и физики, и биологи так настроены против того, чтобы признать роль сознания в обычных физических экспериментах?
Мыслью, словом невозможно изменить расположение генов в молекуле ДНК. Мыслью, словом не заставишь быстрее срастись рану, нанесенную ножом. И уж совсем невозможно мыслью, словом такую рану нанести. Глупая идея, ненаучная, это мистика, и настоящий ученый такую идею отвергает, потому что…
Разве слово не может убить? «Погиб ваш жених, леди». И леди падает без чувств, давление зашкаливает, сердечная мышца не выдерживает. Инфаркт. Смерть.
Всего лишь слово.
Но ты же прекрасно понимаешь, какая там сложная цепочка причин и следствий! Не слово разрывает человеку сердце, а физиологические причины, которые таки да, возникают оттого, что слово сказано и воспринято мозгом.
Одно дело – довести человека до инфаркта, и совсем другое – рана в груди, неизвестно чем и как нанесенная. В чем разница? Очевидно: та же, что между экспериментом в квантовом мире и в нашем, классическом. Разница в масштабах, а, по сути, – в величине используемой энергии. В квантовом мире достаточно одного фотона, чтобы траектория электрона изменилась. В классическом мире таких фотонов нужны многие триллионы.
Ну, право… Почему я сам с собой разговариваю так, будто на семинаре? Будто мне нужно себя убедить в том, что, как я уже знаю, происходило в реальности?
Мы живем в океане энергии, управляющей расширением Вселенной. Мы умеем пользоваться этой энергией, потому что это заложено в нас, записано изначально в наших генах.
Это ты так считаешь. И доказательств у тебя нет.
Как – нет? А так. Вселенная – фермион? Это идея, которую еще нужно проверить. Наша цивилизация принадлежит к самому мощному типу, но мы об этом не знаем? Разум использовал темную энергию, чтобы спасти себя и «переселиться» в другую вселенную-фермион? Это гипотезы, не подкрепленные доказательством.
А как же вся наша история? Много раз человечество имело прекрасную возможность вымереть, исчезнуть с планеты. Человечество имело более чем прекрасную возможность вообще не появиться, потому что для этого должно было сойтись огромное количество совершенно, казалось бы, случайных факторов – но они сошлись, и антропный принцип лишь констатировал этот невероятный факт.
И что? Ничего. Это всего лишь гипотеза – и нужен решающий, доказательный эксперимент. Этот эксперимент был Хэмлином поставлен, когда никто не мог ни принять его, ни оценить его значения. Впрочем, нет – Гаррисон оценил и принял. И потому сумел прожить девяносто три года. Похоже, проживет еще… сколько? Не бессмертен же он, в конце-то концов.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!