Текст книги "Что-то… (сборник)"
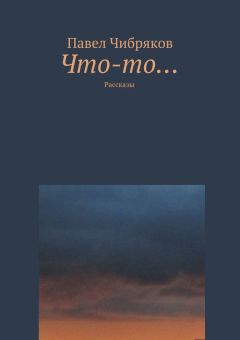
Автор книги: Павел Чибряков
Жанр: Ужасы и Мистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
6
Работа с этой писаниной оказывало на Егора всё большее влияние. С одной стороны – его воротило от этой чухни, но с другой – его неодолимо тянуло к тому, чтобы «переписать-переложить-переиначить» эти патологичные тексты, «выпечатав» их на белом фоне текстового редактора. В состоянии Егора появлялось всё больше такого, что подходило под определение «делириум».
Но его самосознание оставалось ещё достаточным, чтобы стараться хоть ненадолго уходить от муторной тяжести этой его работы. Поэтому он нередко выходил на прогулку во двор, где летний воздух, пронизанный детскими вскриками и множеством других, не нуждающихся в определении, звуков, немного рассеивал его «делириумное» состояние.
Это был довольно большой квартал, состоящий, как бы, из нескольких дворов. Внутри этого квартала было всё – школа, два детских сада и даже небольшой стадион. Казалось, что самодостаточность этого квартала такова, что вне его может вообще ничего не существовать. Но ведь существовало! И это было видно в проёмы между домами. Егор видел, как там ездят машины, как оттуда «входят» и «выходят» туда люди. «Входят, и выходят». Было очевидно, что ими не ощущается в этом ничего необычного. Как такое может быть недоступно?! Но Егору…
Однажды он всё-таки попытался выйти на бульвар. В конце концов, что может помешать человеку прошагать пару сотен метров и выйти «на другую сторону домов»? Для этого понадобились бы буквально считанные шаги.
Он очнулся от того, что Катерина похлопывала его по щекам, и обнаружил себя стоящим в равнодушно знакомой прихожей. Увидев, что он пришёл в себя, Катерина спустила слабенькую озабоченность с лица и чуть ехидно-снисходительно улыбнулась:
«Пытался удрать, глупенький?!».
Егор утвердительно кивнул, после чего чуть сдавлено спросил:
«Как я здесь очутился?».
«Притопал на автопилоте. Ну и рожа у тебя была, надо сказать! Ты, наверное, всех детишек во дворе распугал».
«Без понятия», – буркнул Егор, проходя в комнату.
Последнее, что он помнил – это своё осознание того, что до пространства, ограниченного панельными стенами двух домов, за которым виднеется оживлённый бульвар, остаётся совсем немного. И тут появился какой-то странный запах; он был такой необычный, что у Егора не успели появиться никакие ассоциации. После этого «ВЫКЛ.». И даже щелчка не было.
Весь остаток этого дня он чувствовал себя омерзительно. И эту омерзительность преумножало то, что ему хотелось сесть за ноутбук и заняться бредовой писаниной. Егор запретил себе это матерным усилием воли.
Хорошо, всё-таки, что была Катерина. Она, каким-то образом, всегда знала, когда не надо навязывать Егору общение, а когда можно, а то и нужно, поболтать. Причём не обязательно обоюдно. В этот вечер это было Егору просто необходимо. Ему клинически нужно было поговорить; не важно о чём.
Поскольку в этот раз он снова отказался от зраз с грибами на обет, Катерина, поедая именно такие зразы, спросила с легчайшей заинтересованностью:
«А ты что, грибы совсем не ешь? Боишься отравиться?».
Проглотив пережеванную котлету, Егор ответил:
«Я буквально физически не могу есть грибы. Видишь ли, когда мне было десять лет, мы с матерью гостили у родственников в деревне. В той деревне жила многодетная семья. Восемь детей. Представляешь? Так вот, однажды мать уехала куда-то по делам, оставив дом на мужа и старших детей. А был грибной сезон. В общем, днём дети сходили в лес за грибами, а вечером старшие дочери приготовили из них ужин… Знаешь, вереница из девяти гробов произвела на меня такое впечатление, что я просто не способен положить себе в рот грибы. Ни в каком виде».
«Господи! – тихо пробормотала Катерина. – Что же стало с бедной женщиной?».
«Кажется, она сошла с ума. Что и понятно. О её судьбе я ничего не знаю, честно говоря».
Катерина потеряно высмотрелась в тарелку, где она, кажется бездумно, отделяла вилкой кусочки грибов от фарша. Через некоторое время, не поднимая глаз, она сказала полу-извиняющимся, чуть-чуть детским, тоном:
«А я люблю грибы. Мне нравится».
Егор почувствовал некоторый укор совести от того, что, похоже, вызвал у девчонки опасливое отношение к тому, что ей нравится. Поэтому он сказал успокаивающе-бодрым тоном:
«Да и на здоровье! Ты пойми – моя нелюбовь к грибам обусловлена сильнейшим впечатлением, полученным в детстве. Это коренится там и игнорирует все мои зрелые знания и понимание насчёт грибов. Я прекрасно понимаю, что грибы – это не страшно. Не знаю точно, как это называется в психологии, но во мне существует сильнейший запрет на грибы, который, наверное, можно преодолеть, но поскольку он не мешает мне жить… Знаешь, несколько лет назад мы с друзьями выезжали в лес. В настоящий лес, а не пригородные лесопосадки. Был уже сентябрь, так что грибов было не мерено. Их даже искать не надо было. Я никогда не думал, что мухоморы могут быть такими здоровыми. Ну, знаешь, все эти детские впечатления из книжек. А тут стоят такие здоровенные, можно сказать – жирные, мухоморы! И, надо признать, их вид впечатлял. Машка с таким восторгом плясала вокруг них».
«Машка – это кто?».
«Дочка моя. – Егор невольно улыбнулся. – Ей тогда лет шесть было».
«А сейчас ей сколько?», – спросила Катерина.
«Одиннадцать», – ответил Егор, мысленно пнув себя за то, что ему понадобилось несколько миллисекунд, чтобы вспомнить возраст дочери.
«Так ты семейный человек?».
«Был. Мы развелись несколько лет назад».
«Почему, можно спросить?».
«Алкоголизм, знаешь ли, – омерзительная штука. Жить рядом с этим невозможно».
«А ты кто по профессии?».
Егор скривил губы в презрительной ухмылке:
«Учитель русского языка и литературы. После школы я был уверен, что именно им и хочу быть, поэтому пошёл на филфак. А после него – работать в школу. Мне, идиоту, понадобилось шесть лет, чтобы понять, что это „не моё“. Паршивый из меня учитель, в общем».
«Почему?».
«Понимаешь, у меня есть неплохие способности делиться знаниями. Но для учителя, хорошего учителя, этого – недостаточно. Учитель должен уметь „вдалбливать“, „впихивать“, „втюхивать“ знания, да так, чтобы у последнего дебила на „камчатке“ что-то да осталось в башке. А на это я не способен. Как потом выяснилось, и референтом, и „бизнесменом“ я тоже не способен быть. А вот сантехником или дворником – вполне».
После этого они просто закончили ужин, ограничившись общими фразами.
На следующий день Глеб привёз новую «порцию» писанины. Егор слегка опасался, что Глеб, увидев, что Егор не закончил с предыдущей партией, будет возмущаться. Но Глеб промолчал. Поэтому Егор решился спросить:
«Слушай, какой урод пишет всю эту белиберду?».
«Тысячапроцентный урод. Я сам его не видел, но знаю, что это невообразимое НЕЧТО. Это всё – всё, что только возможно – БЫВШЕЕ. Слишком долго пришлось бы объяснять, да и незачем. Просто работай».
«Просто работай»! Легко сказать! До чего же гнусно – погружаться в эту словесную массу, которая, кажется, облепляет изнутри твою черепную коробку, отдавливает от неё мозг, чтобы занять его место. Что самое омерзительное – к тебе постепенно приходит понимание того, что это значит, как оно важно, и что с этим нужно делать.
«… Люди – это гниющие язвы во внутренностях бытия. Бытиё прогниваемо ими. Они растлевают детей, стряхивают из жизни стариков, убивают тех, кто с ними вровень, и тем бывают живы. И даже если ничего такого они не делают, они всё равно подпитываются знанием о таких вещах, радостно довольствуясь тем, что подобное «минует их»…
Человеческая сущность – как грязное нижнее бельё того, кто редко его меняет, плохо подтирается, считает в порядке вещей спускать в него «законные последние капли». И при этом человек верит, что его срам закрыт. Ну да, закрыт. Только чем?! Очень часто «прикрытие» омерзительней того, что оно прикрывает. Но человеческая сущность не прикрывает ничего. Она сама по себе в своей омерзительности. И прикрыть её ничем не возможно. Да, грязное нижнее бельё можно прикрыть роскошными нарядами, но, в конце концов, кто-нибудь всё равно полезет под них. Ведь такова человеческая сущность…
…Хвала тем, у кого кишка не тонка покончить с собой. Это прозревшие, у которых хватает сил осознать своё состояние в этом мире и покинуть его. Правда, они всё равно остаются в нём мерзостью своего поступка в глазах других. И они позволяют другим нивелировать собственную мерзость сравнением с мерзостью другого. Так хвала ли им?…
…Когда-нибудь всё кончится. Но когда? И как? А может не кончится? Ведь люди могут жить практически в любых условиях. Значит – человеческая мерзость вечна? Что с этим можно сделать? Что-нибудь можно сделать? Кто знает. Кто-нибудь знает? Ведь человек…».
После полутора недель работы с этой мерзостью Егора снова потянуло «на волю». Его обуревало желание выйти на бульвар, забежать в ближайший продуктовый магазин, купить бутылку водки и тут же влить её в себя, засунув горлышко поглубже в рот. Он знал, что будет трудно не выблевать всё обратно, но он был готов расстараться. Ему необходимо было напиться. Жизненно, или смертельно, но необходимо.
Этим ранним вечером он вышел на прогулку, прихватив с собой те деньги, что оставались с ним ещё с той, прежней жизни. Он постарался уйти как всегда, чтобы Катерина ничего не заподозрила. Она и не заподозрила.
Некоторое время он неспешно прогуливался по большому двору, а потом решительно направился к проёму между домами, в котором виднелся, почему-то кажущийся по-другому вечерним, бульвар. Надо было просто идти прямо. Егор настроился исключительно на это. Шагать! Шагать! Что может быть проще?! Шагать! И думать нечего! Шагать прямо!
Когда до домов оставалось несколько шагов, Егор почувствовал, как начинает мутиться сознание. Да и чёрт с ним! Много ли сознания нужно, чтобы шагать? Шагать! Появился какой-то запах. Плевать! Плевать и шагать! Он прошёл уже половину торцовых, без окон, стен домов, которые, казалось, грозятся завалиться на него. Сознание затухало всё сильней, но его ещё хватало для того, чтобы делать шаги. Шагать!
Сознания хватало даже для того, чтобы понять – запах, удушающее заполняющий нос и гортань, вызывает ассоциации с сухим сеном, перемазанным мазутом. В детстве, будучи в той самой деревне, он залазил в гусеничный трактор и даже оттягивал его рычаги. Вот тогда он умазался мазутом на гусеницах. Но если тогда в запахе мазута ощущалось что-то почти приятное, а сено, в копну которого они прыгали с крыши коровника, немного суховато благоухало, то теперешний запах просто душил. Но шагать можно и не дыша полной грудью. Шагать!
У него получилось. Он прошагал проём между домами и вышел на тротуар. Но та малость сознания, что теплилась в нём, была настроена на одно – шагать. И он продолжал шагать. Прямо. Он быстро пересёк тротуар и вышагал на проезжую часть, где был сбит «бычком», водитель которого никак не мог предотвратить наезд. Егор так и умер, находясь в том состоянии сознания, где важным было «просто шагать!» и стараться не задохнуться, неизбежно утыкаясь лицом в сено, почему-то перемазанное мазутом.
7
Теперь он мог «сожрать» что угодно и сколько угодно. И он был способен не переваривать «поглощённое». И это было хорошо, потому что большую часть того, что ему приходилось «проглатывать» невозможно было переварить без вреда для человека. А ещё он мог вообще ничего не «поглощать». Теперь он не нуждался ни в питании, ни в утолении голода. Не в кулинарном значении этих понятий, естественно.
Жизнь Глеба теперь не «состояла из…», а «проходила по…». Или просто ПРОХОДИЛА. Была работа. Важная работа. Или её не было. Или она была в «подвешенном» состоянии, как с этой неопределённостью (всё ещё) насчёт заморочек с «грядущей погибелью». Но Глеба не заботило никакое состояние. А какая разница? Нет, работа, когда она есть, имеет какое-то, и даже немаловажное, значение, но он это просто знал, не ощущая. Вот, например, погиб этот чёртов «корректор» (и как ему удалось прорваться?), и теперь этого долбаного писаку снова некому «править» и его писанина опять выхаркивается в реальность в своём «чистом» виде. Но Глеба это нисколько не заботило. Вот если ему прикажут найти очередного «корректора» – это будет его работа. А до тех пор…
Глеб был теперь из тех людей, которые – как солома. В принципе, солома – это уже мёртвая трава. Но она ещё кое на что годится. И не только на подстилку, как чаще всего, но и на корм коровам. С этого можно даже получать молоко. Мёртвая трава, да?! Существует такой же подвид людей. Или, скорее, мутация? Не важно. Ясно одно – человек может жить и так. И даже…
Город
Это был закрытый город. Так называемый «почтовый ящик». Название у него было стандартное, но это не уменьшало некоторой его нелепости. Горск-9. Можно было подумать, что где-то в округе разбросано ещё восемь Горсков. А если учесть, что поблизости никаких гор не наблюдалось… в общем, понятно.
Городок существовал благодаря сверхсекретному институту, занимающимся какими-то, естественно, сверхсекретными, разработками. Большинство жителей было связано с работой в этом институте, за исключением тех, кто работал в инфраструктуре городка. (Не правда ли, звонкий эпитет для, скажем, сантехника – работник городской инфраструктуры? Но, опять же, куда мы без продавцов и дворников?). Поэтому существовало негласное, но очень стойкое, социальное деление на «элиту» и «всех остальных». Правда, надо сказать, для большинства людей в их обыденной жизни и общении это деление было только поводом для шуток и подколов. И всё-таки…
Горск-9 был небольшим, аккуратным, довольно зелёным городком. Он был чистеньким до восторженности. Практически – райский уголок. Оно и понятно – «чуть-чуть» повышенный уровень радиации не имеет особых внешних проявлений. По крайней мере, в тот относительно короткий период времени, что существовал город.
Большинство зданий в городе были панельными пятиэтажками. С них то и началось… не понятно что. Почти одновременно на торцах зданий, где не было окон, по углам, у самых крыш появились какие-то вздутия в бетоне. Они медленно, но упорно увеличивались, покрываясь трещинами. До какого-то момента эти вздутия напоминали растрескавшуюся тыкву, а потом начинали активно бугриться, будто покрываясь разнокалиберными волдырями. Как ни странно, но этого не замечали даже дети, у которых, обычно, направления взглядов любопытных глазёнок намного шире, чем у взрослых. Однако, начало осталось незамеченным, а потом…
Всё-таки есть что-то обволакивающее в ощущении, когда возвращаешься домой после некоторого отсутствия, пусть даже не очень долгого. В тебя будто возвращается то привычное, что слегка забылось. Буквально на уровне вестибулярного аппарата. И на уровне инстинкта. «Своя норка». Правда, есть такие люди, которым всё равно, где «обитать»; где покормили – там и очаг, где уснул – там и ночлег. И что это, ещё один «признак человека разумного», – ведь большинство животных имеют свои норы, берлоги, или, по крайней мере, ареалы обитания – или же это ещё одно человеческое отклонение от природы? Чёрт его знает.
Борис приехал домой на каникулы после окончания четвёртого курса «политеха». И хотя Горск-9 находился совсем не далеко от областного центра, где он и учился, у Бориса было ощущение, что он покинул большой мир и очутился в таком уютном закутке, в заповедной зоне спокойствия. Быть может, это было связано с укоренившегося в нём с самого детства ощущения самого себя как жителя «закрытого» города; тогда ему виделась в этом какая-то значимость, ставившая его немного (совсем чуть-чуть) выше по сравнению с жителями «простых» городов. С годами это лёгкое внутреннее зазнайство прошло, но ощущение закрытости родного городка осталось. И в этом было что-то необъяснимо уютное.
По приезде, после изрядной доли материнской радости по этому поводу, Борису была представлена сводка местных новостей. Катька – белобрысая соседка по подъезду, в которую он, кажется, был влюблён в детском садике – «выскочила» замуж, предварительно «залетев». Цирк, да и только. Тётя Валя развелась с дядей Семёном, когда выяснилось, что у него есть молоденькая любовница. А «бедная Валюша» столько лет лечила любимого мужа от импотенции, потратив на это уйму денег. Ради кого, спрашивается. Мишку Гренкина, одноклассника Бориса, посадили на семь лет за грабёж. И зачем только его родители «откупили» от армии? А Надежда Фёдоровна, заведующая библиотекой, умерла в марте.
«А что случилось? – удивлённо-встревоженно спросил Борис. – Она же, вроде, не такая уж и старая была».
«Пятьдесят семь лет всего, – вздохнула Галина Петровна. – Рак по-женски».
Это было сказано с выражением некоторой обречённости. Что ни говори, а знание о близости ядерного реактора, находящегося в институте, постоянно довлело над жителями городка, не смотря на все уверение о безопасности. Все мы люди разумные, так что… радиация – она и есть радиация.
Борис немного припечалился. Библиотекарша было симпатичной, очень милой женщиной, которая всегда хорошо к нему относилась, потому что он довольно много читал. Вопреки распространенному представлению о библиотекаршах, как о худышках со всегда серьёзным выражением лица и стервозным характером, Надежда Фёдоровна была очень приветливой женщиной, выглядевшей немного «по-деревенски», но при этом очень интеллигентная и эрудированная. И ещё, от неё всегда приятно пахло. Борис, как ни странно, хорошо помнил этот запах. С ним было связано что-то… бог его знает что, но кажется, это имело отношение к подростковому периоду его жизни. Честно говоря, он тогда не упускал возможности зыркнуть в разрез её платья. Надо сказать, посмотреть было на что. Простите великодушно, Надежда Фёдоровна! Кстати, обе её дочери были такими же симпатичными. К сожалению Бориса, они были старше его, так что они «пересекались по жизни» ровно постольку, поскольку являлись жителями небольшого городка.
«А кто теперь заведует библиотекой, – спросил Борис, – тётя Зоя?».
«Нет, она отказалась. Да ей до пенсии полтора года осталось. Приехал какой-то пожилой мужчина. Говорят, откуда-то с дальнего востока. Ещё месяца не прошло, так что о нём никто ничего не знает. Вроде бы, в библиотеке пока всё по-прежнему. У Надежды Фёдоровны там всё было в порядке, ты знаешь, так что не думаю, что ему нужно будет что-то менять. Хотя, „новая метла“… и всё такое».
«Будем надеяться, что он не „выметет“ что не следует. Наша библиотечка иной городской фору даст». – Борис встал из-за стола, поблагодарил мать за ужин и пошёл в свою комнату.
Комната Бориса была угловой, и поэтому с самого детства воспринималась им как в некоторой степени «особенная» комната. Эту особенность ей придавало, скорее всего, то впечатление, которое производило на его детскую фантазию знание того, что за вот этой сплошной стеной находится ни другая комната, а уже открытое пространство улицы. Кстати, по этой самой причине в зимнее время стена была довольно холодная, отчего в комнате было не очень уютно, а угол обычно промерзал до синюшности. Но это была его личная комната, и ему не очень нравилось, когда мать жаловалась знакомым или родственникам на эти недостатки. Тогда ему виделось, или слышалось, в её словах что-то уничижительное по отношению к нему самому: мол, приходится жить бедолаге в таких вот условиях; а куда деваться? Но он не чувствовал себя бедолагой. Это была его собственная комната. И это было здорово.
Правда, когда он подрос, у него возник несколько недоуменный вопрос: почему проектировщикам этого дома не пришло в голову сделать торцевую стену с окнами. Ведь в областном центре полно таких домов. Он видел, когда они с мамой ездили в цирк. Да и второй стояк центрального отопления не помешал бы. Или, по «социалистическим стандартам», спальня с двумя окнами и батареями считалась ненужным излишеством? Сие неизвестно.
Теперь Борис бывал зимой дома не много – только на каникулах – и за своим письменным столом, стоящим у холодной стены рядом с шифоньером, сидел редко. Это во времена школьных домашних заданий веющая от стены прохлада не давала ему раскиснуть в вечерней лености. И даже подгоняла его побыстрее «расквитаться» с заданным (значки № и & в дневнике олицетворяли для него что-то, налагающее обязательства) и «быть свободным», хотя бы по ощущению. Своего рода стимуляция, кстати.
Но теперь, тёплым летом, в комнате с окном на северо-восток было приятно прохладно, и поэтому чертовски уютно. Вот уж воистину – человеческое представление об уюте прямо противоположно природно-погодным условиям. Что это – наглость или взбалмошность? Поди, пойми. Так уж мы устроены. (Железная «отмазка» на любые нелицеприятные вопросы и претензии).
Расслабленно растянувшись на старом диванчике, который перекочевал в его спальню после долгожданной покупки новой мягкой мебели (это тогда, когда ему было тринадцать, она была новой), Борис некоторое время безмысленно смотрел на чуть шевелимые ветерком ветви растущей за окном рябины. Ему очень нравилась рябина, но только вот так, за окном. Особенно весной, когда она цвела, и осенью, когда густо-красные листья оттеняли комнату, будто вышёптывая в её атмосферу эхо летнего тепла. К сожалению, красные гроздья на фоне первого снега оставались нетронутыми совсем не долго; «запасливые» люди старательно обрывали практически всё (хоть бы птичкам на зиму что оставили, так нет) и… и тогда мама варила рябиновое варенье. Как же он ненавидел этот запах! И что вкусного в нём находят люди?! А воробушки зимой голодают! Да! У рябины есть что-то общее с павлином – только любоваться, и ничего больше.
Отведя взгляд от окна, Борис посмотрел в угол у самого потолка и с некоторым удивлением заметил, что, похоже, угол промёрз настолько, что даже сейчас, в конце Июня, сохранял противный цвет несвежего синяка. Кажется, пропал угол.
Вздутия на углах домов продолжали увеличиваться, приумножая степень собственной искажённости. Глубокие трещины в бетоне стали напоминать перекошено разинутые пасти неведомых чудовищ, которые, будто, пытаются высвободиться из плена бетонных стен. Если бы кто-нибудь заснял это специальной камерой для покадровой съёмки в течении некоторого времен, то при воспроизведении это, наверное, напоминало бы гротескную пародию на роды… чего-то. Но все эти процессы по-прежнему оставались незамеченными.
В свои двадцать шесть лет Марина была ладно сложенной женщиной с миловидным лицом, ничего не говорящем о её возрасте, что прибавляло ей привлекательности. При невысоком, по современным меркам, росте у неё было такое замечательное сложение, что всякие там 90—60—90 могут «отдыхать». Конечно, её параметры, примерно 102—74—106, звучали не ахти как, но как же это смотрелось! В конце концов, красота – понятие эстетическое, а отнюдь не метрическое. Так что все эти педерастийные, по сути, стандарты не имеют никакого значения в реальной жизни. Хвала богам.
Марина была медсестрой. После окончания медицинского училища она вернулась в Горск-9 и устроилась работать в единственную в городке больницу. Она, наверное, сама не могла бы сказать, было ли это её призванием, или просто так «решилось», когда пришлось выбирать, чем заниматься в жизни. Но, как бы то ни было, медсестрой она была замечательной и любимой почти всеми.
Почти, потому что в самом начале работы в больнице она «не дала», как говорится, хирургу – самоуверенному бородачу, который, по слухам, был заядлым «гинекологом-любителем». А она ему отказала. Категорически. С тех пор между ними постоянно ощущалась некоторая натянутость. Впрочем, Марину это не особо волновало. Как бы то ни было, они оба были хорошими профессионалами в своём деле, и их отношения друг к другу не должны были влиять, и не влияли, на их, иногда совместную, работу.
Что касается личной жизни – то она… когда-то была. И любовь, и даже несколько месяцев семейной жизни (без ЗАГСа, но семья образуется, в первую очередь, фактически и практически, а не формально и нотариально). С Сашкой было неплохо, но… недолго. И не понятно – то ли мужикам действительно постоянно чего-то не хватает, то ли когда в их жизни появляется, пусть временно, но «единственная», вместе с этим приходит что-то «лишнее», что они не могут переварить. А может, они оба просто облажались – им показалось: «вот оно», а на самом деле – им просто «показалось».
Неизвестно, с какого момента их взаимоотношения начали иссякать, но, в конце концов, Марине стало понятно, что между ними уже нет чего-то важного, что могло бы не «связывать» их (может, семейная жизнь, в какой-то степени, – и «неволя», но не в кандалах единение), а… как там сказано – «да прилепится муж к жене»? Так вот, сначала, вроде бы, «прилепились», а потом… Марина в детстве собирала фантики и помнила, что приклеить фантик к альбомному листу можно было и мылом, вот только продержаться так он мог совсем не долго. Даже если сразу альбом прижать чем-нибудь тяжёлым и фантик продолжал держаться и после высыхания, то все равно он с досаждающей лёгкостью отлетал от листа при малейшем неосторожном прикосновении.
Этим «неосторожным прикосновением» (если не его последствием) стала беременность Марины. Вернее, осознание её ненужности. Не понадобились никакие доводы и убеждения; она просто увидела выражение его лица при этом известии и…
Аборт она делала в областном центре. Ей не хотелось делать это в своей больнице, хотя её бы там, наверняка, никто ни то, чтобы осудил, но поняли бы и, скорее, слегка посочувствовали. Вот этого она и не хотела.
После этого Марина вернулась к матери, попросив Александра перевезти туда её вещи. Особых переживаний по поводу разрыва с Александром у Марины не было, поскольку вскоре обнаружилось, что у её матери рак матки, и ничего поделать уже нельзя. Её мать была замечательной, умной женщиной, всю жизнь проработавшей библиотекарем по призванию и с удовольствием, и она постаралась, чтобы последние месяцы её жизни были жизненными, а не предсмертными.
Затем был некоторый период времени, который потом в памяти сжался и, как бы, покрылся матовостью, что немного притенило тяжёлую реальность произошедшего. Старшая сестра, которая, выйдя замуж, уехала в Торжок, две недели после похорон пожила с Мариной; а после её отъезда Марина с режущей чёткостью осознала себя одиноко живущей женщиной, не испытывающей практически никаких желаний.
Вскоре после похорон Марине участливо предложили взять отпуск, но она отказалась, сказав, что лучше она будет работать, что это поможет ей скорее придти в себя; забота о других, пусть даже чисто профессиональная и несколько безличная, может нивелировать ощущение собственного несчастья.
Проснувшись около трёх часов дня после рабочих суток, Марина некоторое время лежала; с удовольствием потянувшись, отчего широкая, измятая во сне футболка задралась выше притонувшего в складке пупка, Марина почувствовала, что ей не хочется вставать, и решила ещё немного «повалятся». Шторы на окне были задёрнуты и на них то проявлялись, то гасли квадраты солнечного света; было ясно, что по небу довольно сильный ветер гонит разнокалиберные облака. Казалось, что лежать вот так можно бесконечно долго. Если бы не странности человеческого разума. В конце концов, всегда появляется настырно-сердитая мысль «Ну и чего лежишь, как колода?!». А послать самого себя куда подальше со своими придирками получается не всегда.
Наконец, Марина поняла, что лежать ей уже не хочется потому, что она окончательно проснулась и что-то внутри её порывисто требует движения, пусть даже ради самого движения. Она резко вскочила на ноги, ещё раз потянулась, потом с силой (чего ради?) оттянула подол майки вниз, и не спеша, будто наслаждаясь каждым движением, пошла в ванную.
Умывшись прохладной водой, она посмотрела на своё отражение в зеркале. Марина всегда знала, что она – симпатичная. Когда пришло время, она поняла, что нравится представителям противоположного пола, причём, всех возрастов. Конечно, пришлось научиться изящно увёртываться и прямолинейно отбиваться, в зависимости от «места действий и действующих лиц», но все равно было приятно нравиться. Забавно, но с годами мало что изменилось – она и сейчас нравилась как семидесятилетнему соседу, что живёт над ними, так и четырнадцатилетнему Ваське из третьей палаты хирургии, которого готовят к операции на сердце. При встрече с ней, у них обоих на лицах появляется выражение щенячьего восторга. Вот уж воистину – что стар, что млад.
А вот с ровесниками…. А что, собственно? После разрыва с Александром было не до личной жизни, а теперь она явственно поняла, что никаких личных отношений с кем-либо ей не хочется. И дело здесь не психологической травме, нанесённой их разрывом, и не в каких-то последствиях аборта. Ей просто ничего не хочется. И, в конце концов, не настолько она страстная (хотя довольно чувственная), чтобы не прожить без мужчины довольно долгое время. Насколько долгое? А кто его знает? Как получиться.
Промокнув влагу с лица, Марина вернулась в комнату, которую с детства делила с сестрой, а после её замужества стала её «единоличной» хозяйкой. Вот только к тому времени она уже стала слишком взрослой, чтобы испытывать радость по этому поводу. К тому же, они с Галей были хорошими сёстрами, так что в этой комнате они не уживались друг с другом, а просто жили. Росли они без отца, – он погиб в автокатастрофе, когда они были совсем маленькие – так что их квартира была чисто «женская»; чаще всего они расхаживали по ней «в неглиже», с визгом и смехом, под раззадоривающие мамины смешки «рятуйте, голопопые!», бросаясь в свою комнату, чтобы спешно натянуть на себя что-нибудь более-менее подобающее. Если бы и в последующей жизни всё ограничивалось, как тогда, проблемой – не показать кому-нибудь чего не следует…
Прислушавшись к себе, Марина поняла, что есть ей пока не хочется. «А что тебе вообще хочется? – внезапно всколыхнулась в голове раздражённая мысль. – Этого ей не надо, того тоже не надо! А чего тебе надо?». Нет ничего хуже, чем задавать самому себе вопросы, на которые не можешь ответить. Марина села на кровать, и почувствовала, что начинает задыхаться. Осознав, что не в силах это предотвратить, она позволила себе тихо заплакать.
С течением времени, наросты на домах всё больше начинали напоминать морды каких-то адских чудовищ. У человека с фантазией могло появиться впечатление, что дома обзавелись гаргульями. Только в отличии от своих готических «собратьев», довольно изящных, всё-таки, в своей «ужасности», это были как будто намеренно искажённые, издевательски изуродованные твари. Истинно адское изуверство.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































