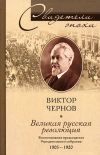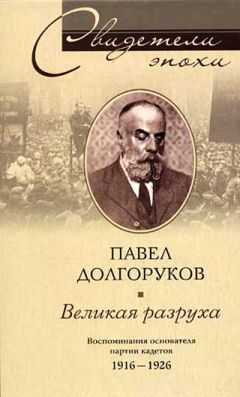
Автор книги: Павел Долгоруков
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
«В Рождественский сочельник мне посчастливилось. В первый раз мне пришлось побыть с А.И. Шингаревым минут пять. Хотя наши камеры были соседние и мы сидели в них уже месяц, но благодаря одиночному заключению мы до сих пор только мельком, случайно встречались в коридоре, когда нас водили на свидание или на прогулку.
Прогулка большинству заключенных разрешалась групповая и продолжительная, до полутора часов, а мне, Кокошкину и Шингареву, вероятно, как «врагам народа», находящимся «вне закона», и гулять, то есть вертеться по тюремному дворику четверть часа, приходилось в одиночку.
К вечеру надзиратель, подняв дощечку наблюдательного глазка, постучался ко мне и крикнул, чтобы я готовился выйти в коридор на время мытья пола в камере. Надзиратель этот был из лучших по отношению к нам, пожилой солдат-эстонец, не большевик. Благодаря ослабевшей тюремной дисциплине, когда он бывал дежурным в нашем коридоре, к нему часто прибегала его пятилетняя дочь, звонкий голосок которой гулко раздавался под сводами мрачного коридора и оживлял его. Иногда она входила и в камеры заключенных с отцом, приносившим нам обед или кипяток, и мы давали ей лакомства, если таковые у нас были из приношений милых наших товарок по партии.
И в этот день она утром заходила ко мне похвастаться полученной на праздник куклой, причем без умолка лопотала что-то.
Когда звякнул замок, тяжелая дверь с шумом отворилась и вошло несколько человек с шайками и швабрами – целое событие в тишине монотонных, тусклых дней, – я вышел в коридор и увидал Шингарева, которому разрешили еще остаться минут пять, пока сохнул вымытый пол его камеры. Он стоял на корточках и держал в обеих руках руки девочки. Я застал конец такого диалога: «А как тебя зовут?» – «Рута». – «А у меня есть такая же маленькая девочка, Рита. Ее имя – Маргарита, а мы зовем ее Рита».
Разумеется, мы с жадностью стали впервые после ареста разговаривать и делиться впечатлениями. Шингарев жаловался на печень, на отсутствие аппетита; он осунулся.
Когда дверь за ним захлопнулась, я, благодаря снисходительности надзирателя, прильнув к окошечку двери, еще несколько времени с ним разговаривал, пока не пришлось вернуться в свою камеру. Кокошкин в первые дни был здесь же, а потом его, как чахоточного, перевели в более теплый коридор. Так как, кроме ввинченных в пол кровати и столика около нее, никакой мебели и полок в камере не было, то я занялся вновь раскладкой своих вещей с кровати на пол на листы газет.
Вскоре принесли нам по восковой свечке, с поздравительными открытками от наших партийных приятельниц. Оказывается, они нам прислали и по маленькой елочке, но их не разрешили передать нам.
Чем же еще ознаменовался для нас праздник? Да вот чем: ни в сочельник, ни в первые два дня праздника почему-то не давали горячей или, скорее, еле тепловатой пищи, а один день давали невозможно соленую колбасу, а другой – баночку мясных консервов в застывшем сале.
В бесконечные петроградские зимние сумерки ходишь из угла в угол. Сколько еще придется здесь просидеть? Не придется ли встретить здесь и Пасху? В камере Шингарева слышен глухой стук. Он или колет сахар, или мастерит что-то. Как ему, бедному, должно быть, тяжело так встречать Рождество! Он болен, потерял два месяца тому назад жену, оторван от детей. Воронежский хуторок его разгромлен. Но, сидя все время рядом с ним, я не подозревал всей остроты и болезненности его переживаний. Отчасти я узнал о них во время пяти общих прогулок, разрешенных нам перед его убийством, а главным образом при чтении впоследствии его тюремного дневника.
Многие стараются быть переведенными отсюда в Кресты, которые, как современная, усовершенствованная тюрьма, светлей и суше здешней. Но я, будучи здоров, предпочитал наш старый бастион новой тюремной казарме. Старина, даже тюремная, греет и придает уют. Москву с ее кривыми улицами я предпочитаю Петрограду, Киев – Одессе.
Двухэтажное пятигранное здание с мрачными сводами, коридорами и темными проходами охватывало маленький дворик, где мы гуляли и откуда был виден только золотой шпиль собора. Старые, толстые, сырые стены, сколько поколений политических узников было заключено в них! Здесь же витает дух Пестеля, Рылеева и прочих декабристов, о которых вспоминалось нам 14 декабря. Декабристы сидели, впрочем, не в бастионе, а в соседнем равелине, который был не так давно разрушен, а теперь остался Трубецкой бастион, как одиночная тюрьма, и Екатерининская куртина с несколькими общими камерами. Весной в газетах писали, что большевики хотят разрушить эту нашу бастилию. Жаль, если они в стремлении подражать французской революции это сделают. Следовало бы превратить крепость в памятник-музей, в котором камеры Шингарева, Кокошкина и многих других трагически погибших русских людей, любивших Родину и человечество, посещались бы, служа наглядным пособием к изучению отечественной истории. «А самоубийств тут много? – спрашивал я у самого старого надзирателя, прослужившего здесь около тридцати лет. – Были ли отсюда побеги?» – «Пытались бежать многие, – отвечал он, – но при мне никому это не удалось, и, как говорят, с самого основания крепости никому не удавалось. Вот самоубийств было много. В этой самой вашей камере два года тому назад повесилась женщина-студентка. Взяла в библиотеке много книг, стала на них у окна, из простыни свила жгут и повесилась на нем, привязав его к оконной решетке и оттолкнув книги из-под ног. В камере (такой-то) при моем дежурстве старик один умер, пустив кровь из жил».
И много подобных случаев рассказал мне старик».
Я зажег полученную восковую свечку и поужинал. Потом читал газеты. Еле-еле слышался колокольный звон Петропавловского собора. Я позвал надзирателя и попросил отворить форточку. Была тихая, очень морозная ночь, и звон колоколов слышался ясно, как и игра часовых курантов. А когда бывает северный ветер, то и соседней полуденной пушки не всегда бывает слышно, так как окно мое обращено не на Неву; так мало тюремное окно и так заглушает звук толщина стен.
В газетах я читал про кровопролитные бои в Шампани; про бомбы с аэропланов и треск пулеметов; про давящие все и уничтожающие танки; про наступление на древний Псков немцев, гонящих перед собой толпы «товарищей», изображающих из себя российское воинство; про кровавую расправу красноармейцев с контрреволюционерами…
Через закрытое уже окно еле слышался, скорее угадывался, звон колоколов. В церкви пели: «На земле мир в человецех благоволение!»
Новый год не принес ничего нового. В 12 часов ночи мы с Шингаревым перестукивались, единственный раз за все время.
И потом я не перестукивался, когда после Шингарева в его камеру посадили офицера и он все стучал мне. Он в коробочке папирос прислал мне записку, рекомендуясь и предлагая прислать мне шифр для перестукивания. Но так как я не имел никакой охоты к этому, да и надо было из осторожности опасаться подосланного провокатора, то в куске сыра я послал ему вместе с приветствием отказ, и он оставил меня в покое.
Поздно ночью на Новый год я услышал в коридоре шум, громкие голоса и непонятную речь. На другой день оказалось, что арестовали членов румынского посольства, тоже, казалось бы, неприкосновенных. К вечеру на другой день их освободили. Перед уходом им разрешили видеться с сидевшим в крепости Терещенко, который был министром иностранных дел после Милюкова. Курьезное свидание посольства с министром!
Далее я опять привожу две статьи «Свободной речи» (№ 5, Екатерине дар, от 6 января и № 6 от 8 января 1919 года).
Год тому назад(Последние дни Шингарева и Кокошкина)
«6 января перевели Шингарева и Кокошкина из крепости в больницу.
В начале года мы переживали в Трубецком бастионе тревожные дни. 2 января был день свиданий и приношений. Но в первый раз к нам никто не пришел. В эту ночь был где-то в крепости незначительный пожар, и надзиратели нам объяснили, будто посетителей не пустили из-за переполоха вследствие близости к месту пожара склада снарядов. На самом деле гарнизон крепости в несколько тысяч человек вследствие бутафорского покушения накануне у Михайловского манежа на Ленина самочинно воспретил посещения, выставив у ворот отряд. Как мы потом узнали, у ворот столпилась толпа посетителей с обычными узелками. Их грубо отстранили.
Настроение в городе было очень тревожное, и ходили всевозможные слухи. Нас считали или обреченными, или уже погибшими. Начались протесты толпившихся посетителей, не обошлось без истерики, особенно когда их начали разгонять выстрелами в воздух. В это время выстрелы в Петрограде были обычным явлением, и во время тюремных прогулок мы часто слышали то близкую, то отдаленную ружейную трескотню: то отбивали грабивших среди бела дня склады и винные лавки. В это же время Петропавловский гарнизон опубликовал кровожадную резолюцию: за каждое покушение на одного из своих вождей они обещали уничтожить сотню заключенных. Таким образом, они нас объявили заложниками.
На более нервных и впечатлительных заключенных все это производило подавляющее впечатление. Даже Совет народных комиссаров, сам натравлявший своих подданных на «врагов народа», был смущен этой резолюцией и издал на другой же день декрет, в котором, воздавая должное революционному подъему Петропавловского гарнизона, предостерегал против самосуда над заключенными, так как это пресекло бы нити к раскрытию контрреволюционных заговоров.
Но 2 января нас ожидала и радость. Когда меня вызвали на прогулку, то торопили, чтобы я не задерживался, так как буду гулять с другими. Шингарев, сияющий, уже ждал меня в коридоре. Потом к нам присоединились Кокошкин, В.А. Степанов, который был заключен сравнительно на короткое время, с.-р. Авксентьев, Аргунов и н. – с[6]6
Н.-с. – народный социалист. Трудовая народная социалистическая партия сформировалась в 1906 г. из правых эсеров.
[Закрыть]. Питирим Сорокин. В этой компании мы и гуляли все пять дней до 6 января по два раза в день и уже по полчаса.
Эти полчаса пробегали гораздо скорее, чем четверть часа одиночного кружения по дворику. И это тревожное время, благодаря общению, переживалось гораздо легче. Сколько слухов и предположений, проникавших в тюрьму, спешили мы обсудить, сколькими переживаниями и впечатлениями с 28 ноября, когда мы вместе с Шингаревым и Кокошкиным были арестованы, хотелось обменяться с друзьями, с которыми мы дружно работали более десяти лет, с которыми рядом сидели в тюрьме и были в то же время так разобщены до этого дня!
О чем мы переговорили за пять дней в эти пять часов? В газетную статью не втиснешь и десятой доли. Слухи о готовящейся гарнизоном расправе с нами… О предстоящем 5 января открытии Учредительного собрания. О надеждах наших, что оно отстоит неприкосновенность своих членов, о неминуемом запросе о нашем аресте… Каково же было наше разочарование, когда мы узнали, что Учредительное собрание разогнано и что оно не удосужилось даже упомянуть об участи своих членов, а выслушало бесконечную речь Чернова, являющуюся бездарной перефразировкой большевистской программы. Социалисты-революционеры тоже недоумевали и возмущались Черновым. У них в партии было решено, что Чернов скажет совсем краткую речь. Очевидно, селянский председатель разошелся и только матрос Железняк мог его обуждать. Помню, как Кокошкин горячо протестовал против всякого покушения и насилия, когда кто-то удивился, как это террористические партии, умевшие организовывать покушения на царских сановников, испытывая и на своей шкуре гнет большевиков, не применяют против них столь же энергично своих методов борьбы.
Несмотря на мороз, чахоточный Кокошкин в эти минуты общения оживлялся, картавый голос его громко раздавался по дворику, и мы постоянно останавливали его. Благодаря своему возбужденному оживлению он несколько раз терял свое пенсне, и мы со смехом откапывали его в рыхлом снегу. Он заметно таял и говорил, что, наверно, потерял за это время много в весе. Шингарев тоже сильно осунулся. Печень мучила его. Он был тих, сосредоточен и, как всегда, улыбался лишь губами, глаза же в улыбке не участвовали и оставались грустными. Их обоих уже освидетельствовала комиссия врачей и признала тяжко больными. Перевод их в больницу ожидался со дня на день.
6 января мне удалось видеться с Шингаревым три раза, причем за обедней – в течение двух часов. Нам в первый раз разрешили идти в церковь, и накануне еще мы решили воспользоваться этим. Но Кокошкин не пошел, так как была страшная метель. Нас пошло девять человек; я, Аргунов, Сорокин, Сухомлинов, Щегловитов и министры Временного правительства – Шингарев, Карташов, Терещенко и Бернацкий. В первый раз мы вышли за ограду бастиона и в сопровождении нескольких солдат по глубокому снегу прошли в Петропавловский собор.
Нас поставили близ гробницы Петра I, и мы свободно разговаривали друг с другом. К Сухомлинову и Щегловитову подошли их жены, которые простояли с ними всю обедню. Они, как уже давнишние узники, использовали свой тюремный опыт для такого свидания. Я стоял с Шингаревым и Карташовым, который объяснял нам службу и называл композиторов песнопений. Пел очень хороший хор. Священник произнес проповедь против насилия и мести, имея, очевидно, в виду гарнизон. Из тысячного гарнизона было два-три десятка солдат. Более уже нас в церковь не водили, как нам объяснили надзиратели, из-за опасения все того же гарнизона, который был против всяких поблажек нам и особенно был враждебно настроен против Сухомлинова.
За прогулкой мы обсуждали вчерашний разгон Учредительного собрания. Я сказал Кокошкину, что напрасно он вышел в такую страшную метель; он ответил, что для чахоточных необходим свежий воздух и что спертый, сырой воздух камеры опаснее стужи. Вследствие соседства камер, тюрьма особенно меня сблизила с Шингаревым. С Кокошкиным, сидевшим в другом коридоре, я, как москвич, был раньше более дружен. Нас связывала с ним, кроме партийной работы, давнишняя наша служба в Московском земстве, политическая работа дореволюционного периода и соседство домов, в которых мы в Москве жили, а потому и виделись постоянно. Приезжал он раз ко мне с женой и в деревню. Соседство камер сблизило меня более прежнего с Шингаревым, и это сближение, наверно, отразилось бы на наших отношениях навсегда, если бы Шингареву суждено было попасть на свободу. Я рад был прочитать в дневнике его о хороших ко мне чувствах и о сожалении по поводу оставления меня одного в крепости при переводе его в больницу.
Часов в 7 вечера я услыхал шорох в камере Шингарева. Вскоре он постучался ко мне из коридора в дверь и простился, объявив, что его увозят в больницу. Я попросил открыть дверь. Хороший по отношению к нам солдат, помощник коменданта, разрешил отворить дверь. Мы в первый и в последний раз в жизни поцеловались с А.И… «Скоро, дай Бог, увидимся», – сказал я. «Ну, разумеется!» – «Привет Кокошкину!» – крикнул я ему уже вдогонку. Дверь за мной захлопнулась. Я рад был за больных товарищей, но грустно было остаться одному и знать, что соседняя камера пуста. Боязнь за нашу участь, вследствие разнузданности и кровожадности совершенно праздного гарнизона крепости, была столь велика, что близкие мои при посещении советовали мне «заболеть» чем-нибудь, лишь бы вырваться из крепости. Если бы я послушался и мне удалось это, меня постигла бы участь несчастных моих товарищей. Часа через четыре после прощания с Шингаревым они уже были убиты в больнице ворвавшимися матросами и красноармейцами!
Впервые я услыхал об этом ужасе на другой день, 7 января, когда мы собрались на прогулку уже в уменьшенном составе. Мы со Степановым отказывались верить. Но уже стороживший нас солдат сказал, что слышал об этом. Когда я проходил мимо камеры нашего приятеля Н.М. Кишкина, я крикнул ему через дверь, слышал ли он что-нибудь о Шингареве и Кокошкине. Он мне ответил: «Слава Богу, их отвезли в больницу!» Я не решился ему сразу поведать ужасную весть и только крикнул: «С ними неладно». Впервые после ареста состояние духа у меня было ужасно. Когда стемнело, но электричество еще не загоралось, мне стало невтерпеж. Я постучался и попросил, чтобы позвали кого-нибудь из конторы, чтобы узнать истину. Газет в этот день не было. Через час пришел наконец тот же помощник коменданта, который накануне уводил Шингарева. Не решаясь прямо спросить его, сначала я обратился к нему с каким-то хозяйственным вопросом. Потом я попросил его сказать все, что он знает про участь Шингарева и Кокошкина. Он подтвердил ужасную весть и рассказал некоторые подробности. Сомнений более уже не было! «Натравили!» – только и мог я произнести. Он как-то испуганно оглянулся, сейчас же вышел и запер дверь. Послышались голоса в коридоре. Очевидно, он был не один и испугался, чтобы я не распространился о натравливании. Все замолкло. В этот вечер я не мог ужинать и до поздней ночи шагал по камере. В соседней камере глухая тишина, и лишь через три дня посадили в нее арестованного офицера. Вскоре через три-четыре камеры от меня посадили участников убийства – Босова и Куликова, голос которых, проходя мимо, я слышал и которых встречал в коридоре».
Речь в защиту убийц Шингарева и Кокошкина«По выходе из Петропавловской крепости я решился выступить на процессе убийц Шингарева и Кокошкина защитником их. Но большинство убийц не разыскали, а двоих заточенных выпустили из тюрьмы без суда. Вот что я приблизительно сказал бы на процессе в защиту убийц.
Как и за что были арестованы Шингарев и Кокошкин? 28 ноября было назначено открытие Учредительного собрания, и мы трое, только что избранные членами его, накануне приехали из Москвы.
28-го рано утром мы собрались у графини Паниной и тут-то вместе с ней и были арестованы и перевезены в Смольный. Графине Паниной инкриминировался отказ ее, как бывшего товарища министра народного просвещения, выдать 70 тысяч рублей казенных денег большевистской власти.
Как арестовавший нас, комиссар Гордон высказывал предположение, что мы соучастники сокрытия денег, так и на кратком допросе в Смольном Красиков все время допытывался об этих деньгах и о причине нашего пребывания у Паниной. Мы трое в Петрограде с середины лета не были, а о том, что мы члены Учредительного собрания, Красиков не знал. Казалось, недоразумение с нашим арестом вполне выяснилось. На вопросы же Красикова о наших политических убеждениях мы отвечать отказались, протестуя против ареста народных представителей как лиц неприкосновенных.
Скоро Панину увезли в Кресты. После этого было вполне вероятно, что нас троих отпустят. Мы даже условились между собой, что в таком случае мы будем требовать нашего ареста и заключения до освобождения Паниной, чтоб выразить протест против ее ареста. Но часы проходили за часами, и мы томились, оцепленные красноармейцами. Один из служащих по нашей просьбе узнал, что наше дело обсуждается самим Советом народных комиссаров. Наконец около часу ночи нам прочли декрет, подписанный Троцким, Лениным, Бонч-Бруевичем и прочими народными комиссарами, объявляющий нас, как руководителей партии Народной свободы, «врагами народа» и «состоящими вне закона». На основании этого декрета мы были заключены в Петропавловскую крепость и преданы военно-революционному суду.
Кто же были убитые впоследствии «враги народа»?
Во-первых, они были оба тяжко больные, которым уже одно пребывание в холодных, сырых казематах крепости могло угрожать смертью. У чахоточного Кокошкина были сильно поражены легкие, у Шингарева, только что потерявшего жену, была мучительная хроническая болезнь печени.
«Враг народа» Кокошкин, болезненный и хрупкий, был человек науки, в действиях ни революционных, ни антиреволюционных не мог принимать непосредственного участия. Но известный в Европе государственник, профессор государственного права, он был действительно врагом бесправия, произвола и деспотии. Кабинетный ученый, член губернской земской управы, член 1-й Думы, выдающийся публицист-передовик серьезной газеты, – откуда он мог быть известен и страшен этим матросам и красноармейцам, сидящим на скамье подсудимых? Им указал на него декрет 28 ноября.
«Враг народа» Шингарев, которому предлагали остаться при университете, отказался от науки, отказался даже от звания земского врача, чтобы вольным сельским врачом пойти в народ. И тысячи воронежских крестьян повалили лечиться к нему за назначенный им пятикопеечный гонорар. Они ли, воронежские крестьяне, подбили обвиняемых убить своего врача? Кто указал на него? И какого народа он был врагом?
Оба – бессребреники, все здоровье, всю душу свою они отдали русскому народу, и на обеспечение осиротелых семей после убийства их пришлось собирать деньги по подписке.
Как только Шингарев и Кокошкин были перевезены из тюрьмы в больницу, обвиняемые ворвались к ним и застрелили их ночью, больных, истощенных тюрьмой, только что заснувших в тепле, на мягких кроватях. Потом они, смеясь, рассказывали, как один из убиваемых, проснувшись, крикнул: «Братцы! Что вы делаете?» – и в смертельном ужасе щелкал зубами!
Какой ужас! Какое озверение! От этого убийства содрогнулись не только в России, но и в Европе, несмотря на ужасы войны.
И я, друг убитых и товарищ их по заключению, взялся защищать их убийц?! Оправдать это убийство нельзя, но необходимо разобраться, кто истинные убийцы и кто явился лишь слепым орудием в их руках.
Ведь лиц «вне закона», «врагов народа» преследовать и убивать может каждый. В этом видят даже заслугу, как и в истреблении хищных зверей.
Есть охотничий закон, оберегающий безвредную и полезную дичь и разрешающий всем истреблять в течение целого года всякими способами вредных животных. И эти последние находятся вне охотничьего закона, как враги человека. Земства назначают денежные премии за уничтожение этих животных. Убивший их приносит в земскую управу хвосты или шкуры их и получает соответствующее вознаграждение. И обвиняемые убийцы «врагов народа», изъятых из-под защиты закона, в слепом повиновении призыву вождей своих, сделав свое ужасное дело, имели бы право войти в комнату Совета народных комиссаров и с торжеством выкатить перед ними на красное сукно головы врагов народа – Шингарева и Кокошкина и требовать награды по заслугам, ожидать за свой подвиг многотысячной награды или производства в наркомы, главковерхи. И вместо этого – тюрьма, предание суду.
С чувством ужаса встретил я обвиняемых Басова[7]7
Или Босова – так в оригинальном тексте.
[Закрыть] и Куликова в коридорах Трубецкого бастиона. Через несколько дней после убийства я слышал их голоса, проходя мимо их камер. И, сидя в своей камере, рядом с опустевшей камерой Шингарева, я старался вникнуть в их психологию. Не были ли они удивлены, озадачены своим заточением? Я представлял себе их возмущение. Не считали ли они, народные «герои», это предательством? Они ведь послушались призыва своих вождей, а те их предали.
Кроме Иуды-предателя, не особенно лестную репутацию в истории человечества заслужил и Пилат. Но тот старался защитить обвиняемого и лишь по слабости предал его толпе, умыв руки. Здесь же слабости не заметно. Здесь сначала сами распалили толпу, сами указали ей на невинные жертвы и натравили ее на них, признав их «вне закона» и «врагами народа», а после их убийства тоже умыли руки. Бонч-Бруевич, скрепивший декрет 28 ноября, сейчас же полетел в часовню Мариинской больницы и «в ужасе отшатнулся от трупов Шингарева и Кокошкина», сам распоряжаясь производством следствия. Ленин, первый подписавший декрет, распорядился всех «поставить на ноги и совершенно немедленно» расследовать преступление, «опозорившее» великую социальную революцию.
Действительно ли они ужаснулись содеянному злодеянию, раскаялись ли они в своих действиях? По всему последующему не заметно этого. Кого же обманет это умовение рук? К чему плеснули они водой на свои кровавые руки?
И теперь вы, революционные судьи, судите этих слепых, обманутых людей за то, что они вняли призыву своих и ваших вождей. Но, увы, миллионы несознательных и темных русских людей слепо идут за этими вождями. Это лишь наиболее рьяные и беспрекословные исполнители их велений, наиболее добросовестные чтецы их декретов, это «краса и гордость революции»!
Трудно не отшатнуться в ужасе от трупов Шингарева и Кокошкина, трудно и оправдать их убийц. Но вы должны разобраться в степени их виновности, и, разобравшись, вы должны признать, что главные, наиболее сознательные убийцы Шингарева и Кокошкина – это те, кто подписал декрет 28 ноября.
А если это так, то судебная власть, заточившая в тюрьму этих слепых исполнителей предначертаний свыше, власть обвиняющая и судящая их, если бы она была независима, должна была бы вынести постановление о привлечении к суду и главных виновников убийства. Иначе ваш суд – не суд, а классовая и политическая расправа, где под личиной суда и правды парит месть и бесправие».
Дня через два после трагедии я встретил в коридоре возвращавшихся с прогулки Сухомлинова и Щегловитова. Я счел долгом сказать последнему, как возмущался Шингарев действием комиссии Муравьева и что он, как бывший член Временного правительства, избегал встречи с ним, незаконно державшим столько времени его под арестом без предъявления обвинения. В темноте коридора мне показалось, что Щегловитов прослезился. Он мне ответил: «Мы с Андреем Ивановичем были политическими противниками, но я глубоко его уважал и ценил как честного и талантливого человека».
Тот же Щегловитов, как говорит в своих воспоминаниях Бьюкенен, встретив в Петропавловской крепости Терещенко, который будто дал большие деньги на революцию, сказал ему: «Вы дали пять миллионов, чтобы попасть сюда. Жалею, что раньше не посадил вас даром».
Как-то зашел ко мне проститься освобожденный вскоре В.А. Степанов. Однако в моем еще большем одиночестве я оставался недолго; меня перевели в министерский коридор, где сидели Терещенко, Бернацкий, Кишкин, Авксентьев, Аргунов, П. Сорокин, Рутенберг (убийца Гапона). Третьякова, Карташова, Бурцева и других перевели, кого – в Кресты, кого – в лечебницу. Карташов перед этим умудрился за что-то попасть в карцер, крошечную темную конуру, из которого его на следующий день освободили, так как коридор объявил голодовку. Мы, сидя тогда в нашем коридоре, не могли к ней присоединиться, ничего не зная.
Наступили «веселые» дни. В этом коридоре общение между камерами было свободнее, а главное, прогулки общие – два раза в день по часу! К нашему коридору на прогулках присоединяли камеру из Екатерининской куртины, преимущественно молодежь, офицеры, моряки. Ходили, не торопясь разговаривали, скалывали лед, прочищали в снегу новые дорожки. Подчас было шумно, бросались снежками, валили друг друга в снег. Насколько дисциплина была ослаблена, показывает, что раз кто-то из куртины принес фотографический аппарат и снял всех нас в группе. Интересно было бы найти эту фотографию, если она сохранилась. Несколько раз во время прогулок в воротах какие-то люди, с виду рабочие, с любопытством нас рассматривали. Вероятно, рабочие депутаты проверяли нашу наличность. Во время этих прогулок я узнал от министров много подробностей о последних днях Временного правительства и о защите Зимнего дворца.
С начала февраля нам по вечерам на два часа стали открывать камеры, и мы свободно общались, гуляли по коридору, делали друг другу визиты, собирались вместе. Это уже стало походить на клуб.
Но во время этой «клубной» жизни и шумных многолюдных прогулок с удовольствием вспоминал одиночное верчение по двору и сидение в полном одиночестве рядом с Шингаревым. Это казалось уже чем-то далеким, историческим. С удовольствием бы променял наш клуб на это время, чтоб если и не видаться с Шингаревым, то чувствовать и слышать его бытие в соседней камере.
Этот коридор был теплее нашего, но все же температура поднималась редко выше 10 градусов. Многие спали в одежде, сидели в галошах или в валенках. Так как я привык к холоду и не боялся его, то на ночь раздевался, а галош я никогда не носил. Асфальтовый пол меня не страшил, и принесенный мне коврик я дал сначала больному Степанову, а после него Кишкину. Некоторые учились языкам, писали что-то. Неутомимый Кишкин, с рвением коловший лед и разгребавший снег на прогулках, лепил фигурки из хлеба, а потом из глины. Я ничего не делал, только читал газеты, Тургенева и других. Сдружившиеся Бернацкий и Терещенко поселились в одной камере и обучали друг друга финансовому праву и английскому языку. Насколько «начальство» к нам благоволило: в наш коридор поместили совсем юного социалиста, полуинтеллигентного, арестованного с бомбой. Он нам пришелся не ко двору, попросили перевести его, и его перевели к молодежи в куртину.
У нас в коридоре образовалась коммуна. Мы обязались вносить в нее наши продукты извне, и выбранный в старосты Авксентьев делил их поровну. У запасливого Кишкина оказался большой запас сухарей из черного хлеба «про черный день». Впрочем, и фигурки свои из хлеба птиц и животных он мог бы в черный день съесть в качестве жаркого.
Душой общества был Авксентьев. Он оказался премилым и превеселым социалистом-революционером, отлично рассказывал армянские и еврейские анекдоты, пел куплеты. Он очень выигрывал в тюремной обстановке. Социалисты-революционеры были привычны к тюрьме. Аргунов, производивший серьезное впечатление, ухитрился как-то уже при большевиках в столь короткое время быть арестованным в третий раз. Всего в России и в Сибири он сидел восемнадцать раз.
Молодой Питирим Сорокин, оставленный при университете приват-доцент, был арестован сейчас же после свадьбы. К нему на свидание приходила совсем молодая хорошенькая жена.
У нас образовался даже хор. Но одиночные из соседнего коридора просили прекратить пение; оно их раздражало. Многие надзиратели постоянно напевали в коридоре во время своего дежурства, пели и некоторые одиночные заключенные. Какой-то сильный, но неприятный тенор орал целыми днями и надоедал нам, а некоторых, как ранее и Шингарева, раздражал.
Иногда удостаивал нас своим посещением и Пуришкевич, который свободно расхаживал по своей «каторге». Но не в своей среде он долго не засиживался. Теперь мы уже сами топили печи под руководством Авксентьева. Это совсем не так просто растопить печь, особенно когда дрова не сухие. Для этого у нас было установлено дежурство.
Оказались у нас и поэты: Пуришкевич, Терещенко и Бернацкий. Я как-то между ними устроил конкурс. Написал в юмористическом тоне благодарность госпоже X., в которой я говорил, что благодаря ее пирожкам и котлетам тюрьма моя сделалась раем, что они не только питают меня телесно и, холодные, согревают мне душу и тому подобное, я передал это им перефразировать в стихи. Пуришкевич написал звучную, но совсем не подходящую элегию, Терещенко подпустил еще более неподходящее легкомыслие, чуть не порнографию, и пальму первенства получил Бернацкий, очень хорошо, почти дословно обративший прозу в стихи. Я их переписал, подписал и при следующем свидании вручил этот плагиат по назначению.