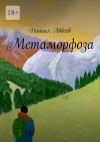Текст книги "Старые годы"

Автор книги: Павел Мельников-Печерский
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
I
Розовый павильон
Вскоре по приезде нашем в Заборье, только что принял я в управление вотчину, пошел я поутру с докладом к князю Даниле Борисычу. Он был не в духе.
– Я, говорит, сегодня ни на волос уснуть не мог. Что это за вой был у нас на рассвете?
– Должно быть, на псарном дворе собаки зверя учуяли, – докладываю ему.
А князь спрашивает с неудовольствием:
– Разве, говорит, у меня есть псарный двор?
– Как же, говорю, псарня у вашего сиятельства хорошая; собак пятьсот борзых да сотни полторы гончих. Псарей и доезжачих при них до сорока человек.
– Как! – закричал князь, – шестьсот пятьдесят собак и сорок псарей-дармоедов!.. Да ведь эти проклятые псы столько хлеба съедают, что им на худой конец полтораста бедных людей круглый год будут сыты. Прошу вас, Сергей Андреич, чтоб сегодня же все собаки до единой были перевешаны. Псарей на месячину, кто хочет идти на заработки – выдать паспорты. Деньги, что шли на псарню, употребите на образование в Заборье отделения Российского библейского общества.
– Слушаю, ваше сиятельство, – сказал я и тотчас же отдал приказ вешать собак.
Через полчаса приходит к князю древний старец. Лицо у него все сморщилось; длинные, по плечам лежавшие волосы пожелтели, во рту ни единого зуба, а черные глаза так и горят. Одет был он в старинный чекмень с золотым галуном, опоясан черкесским поясом.
– Я вековечный холоп вашего сиятельства, Анисим Прокофьев, – зашамкал старик, – а был, государь мой, первым стремянным у вашего дедушки, у князя Алексея Юрьича.
– Здравствуй, здравствуй, старик, садись-ка, устал, чай! – говорит ему князь.
– Сидеть мне перед вашим сиятельством не приходится. А пришел я к вам, государь мой, челом ударить.
– О чем, Анисим Прокофьич?
– Да слышно, ваше сиятельство, что изволили на нас свой княжеский гнев положить.
– Я?.. Что ты, Прокофьич?.. В уме ли?
– Не мудрое дело, ваше сиятельство, и ума лишиться от такого бесчеловечия!.. Избить шестьсот шестьдесят восемь собак, ничем неповинных!.. Это дело, сударь, не малое!.. Ведь это все едино, что как царь Ирод неповинных младенцев избивал!.. Чем бедные собачки провинились перед вашим сиятельством? Ведь это не шутка: шестьсот шестьдесят восемь собак задавить!.. Надо ведь будет вашему сиятельству и богу на страшном судище ответ отдавать…
– Полно, старик, успокойся, перестань… – говорит ему князь.
– Чего мне перестать… Коль я не буду говорить, кто тебе скажет? – гневно вскричал старый стремянный. – Да как же тому статься, чтоб всех собак перевешать?.. Дедами, прадедами псарня установлена, больше ста годов держится, прошла про нее слава по всему, почитай, свету, и вдруг ни с того ни с сего разом перевести ее!.. Да от такого дела, князь Данила Борисыч, кости твоих родителей во гробах повернутся, все твои деды, прадеды из гробов встанут, руки на тебя протянут, проклятье тебе изрекут. Знаешь ли ты, государь мой, что псарня-то наша со дней царя Петра Алексеича нерушимо стоит? За что ж ее порушить хотите?..
Да ведь это роду вашему вечный покор, всему вашему княжому племени бесчестье, не говорю уж про то, что на совесть свою такое душегубство хотите принять!.. Собака-то, батюшка, тоже тварь божия, а в Писании что сказано!.. – «блажен иже и скоты милует». Идете, ваше сиятельство, супротив божией заповеди!.. И вот, сударь, ваше сиятельство, надел я на старости лет жалованный чекмень вашего дедушки – двадцать лет в сундуке лежал, думал я, что придется его только в могилу надеть; вот, сударь, одел я и пояс черкесский, а жаловал мне этот пояс родитель ваш в ту самую пору, как, женившись на вашей матушке, княгине Елене Васильевне, привез ее в вотчину и в первый раз охоту своей княгине изволил показывать: никто из наших не мог русака угнать, а сосед Иван Алексеич Рамиров уже совсем почти угонял, я поскакал, угнал русака и тем княжую честь перед молодой супругой сохранил… Власть ваша, князь Данила Борисыч, с места не сойду, покамест милости собакам не выпрошу.
– Да чего ж ты хочешь? – спрашивает у него князь.
– А того я хочу, ваше сиятельство, чтобы вы мне прежде голову приказали снять, а потом бы уж и собак вешать изволили… В этом чекмене, в этом поясе предстану я пред вашими родителями, дедами и прадедами, подведу к ним собачек, вами задавленных… А они-то, старики-то ваши, яко зеницу ока их берегли!.. Пусть же ваши родители судятся с вами на Страшном суде за такое злодейство… что не хотели вы уберечь родительского благословенья, пролили кровь неповинную!.. Дело мое, государь мой, старое, а порядки у вас новые, отпустите меня, ваше сиятельство, к господам моим: прикажите рубить голову, а там уж и собак вешайте.
От сильного волнения у Прокофьича дух занялся и ноги подкосились; он бы упал и расшибся, если б мы с князем его не поддержали. Без чувств вынесли старика из дома.
Горячее заступничество девяностолетнего стремянного спасло на время собак. Псарный двор в Заборье был уничтожен лишь после смерти князя Данилы Борисыча и Прокофьича…
Князь полюбил старика, часто призывал его к себе и расспрашивал о старых годах. По нескольку часов, бывало, просиживали они вместе.
Раз, вечером, после долгой беседы с Прокофьичем, послал князь за мной, требуя, чтоб я тотчас же явился к нему.
Я нашел князя сильно возволнованным.
– Сергей Андреич, – сказал он, – в состоянии ли вы несколько часов, вместе со мной, проработать ломом?
– Как проработать ломом, ваше сиятельство?
– Пробить каменную стену… Видите ль, Прокофьич сейчас рассказал мне один необыкновенный случай старого времени… Мне бы хотелось узнать: вздор болтает старик или правду говорит… Посторонних, особенно своих крепостных, в это дело мешать не годится… Будьте так любезны, Сергей Андреич, не откажите…
Я согласился, дал слово и спросил князя, что ж такое рассказывал ему Прокофьич?
– Э, да все это, может быть, еще вздор… Прокофьич, кажется, из ума стал выживать, рассказывает вещи несодеянные… А все-таки хочется удостовериться… Завтра, надеюсь, вы исполните данное слово.
Я повторил обещание, и князь тотчас же завел речь о хозяйственных делах, но, занятый другим, вовсе не слушал слов моих. Наконец отпустил меня.
– Так завтра? – сказал он, подавая руку.
– Слушаю, ваше сиятельство.
Таинственность предстоявшей работы, какое-то необыкновенное событие старых годов, волнение князя – все это до такой степени распалило мое воображение, что я всю ночь заснуть не мог. Чем свет присылает за мной князь.
– Пойдемте! – сказал он, когда я вошел в кабинет.
Пошел за ним. Князь отдал приказание, чтобы никто не смел входить в сад до нашего возвращенья. Пройдя большой сад, мы перешли мост, перекинутый через овраг, и подошли к «Розовому павильону». У входа в тот павильон уже лежали два лома, две кирки, несколько восковых свеч и небольшой красного дерева ящик. Князь на рассвете сам их отнес туда.
В павильоне было пять или шесть комнат. Пройдя три, князь ударил в глухую стену и сказал:
– Здесь!
Мы принялись за работу; часа через полтора стена была пробита. Князь зажег свечи, и мы пролезли в темную, наглухо со всех сторон закладенную комнату.
Среди развалившейся и полусгнившей мебели лежал человеческий остов…
Князь перекрестился, заплакал и тихо проговорил:
– Упокой, господи, душу рабы твоея.
– Старик сказал правду! – прибавил он, немного помолчав.
– Что это? – спросил я, немного оправившись от первого впечатления.
– Грехи старых годов, Сергей Андреич… После все расскажу; теперь помогите собрать это…
Бережно собрали мы кости и положили их в ящик красного дерева. Князь запер его и положил ключ в карман. Когда мы собирали смертные останки, нашли между ними брильянтовые серьги, золотое обручальное кольцо, несколько проволок из китового уса, на которых кой-где уцелели лохмотья полуистлевшей шелковой материи. Серьги и кольцо князь взял к себе.
Утомленные трудом и сильными впечатлениями, вынесли мы ящик из сада.
– Сейчас же собрать человек полтораста с ломами и топорами да нарядить пятьдесят подвод! – сказал князь бурмистру, проходившему через двор.
Я зашел в свой флигель умыться и переодеться. Когда пришел к князю, его не было в кабинете.
– Где князь? – спросил я попавшегося лакея.
– В портретную галерею прошли! – отвечал тот.
Там, запыленный, запачканный, как вьштел из павильона, стоял князь перед портретом женщины, у которой, по какой-то прихоти прежних владельцев, лицо было замазано черной краской. Знакомый ящик стоял на полу перед портретом. Я взглянул на князя. Он плакал.
И рассказал он страшную повесть старого времени. Подробнее узнал я ее после от Прокофьича…
Когда рабочие были собраны, князь приказал им сломать «Розовый павильон» до основания, а кирпич отвезти к строившейся тогда в Заборье церкви. Когда потолок с павильона был снят, мы еще раз вошли в ту комнату.
На стене чем-то острым было нацарапано: 1757 года октября 14-го. Прости, мой милый, твоя Варенька пропала от жестокости те…
– Топор! – вскрикнул князь, прочитав эти слова.
Подали топор. Князь быстро изрубил штукатурку.
– Живей ломайте! – торопил он рабочих. – Скорее, скорей!
К вечеру павильон был сломан.
На другой день чем свет подали карету. Мы сели вдвоем с князем и взяли с собой обернутый в черное сукно ящик.
– В монастырь! – сказал князь.
Там, в усыпальнице князей Заборовских, зарыли мы ящик с костями, а на другой день слушали заупокойную обедню и панихиду о упокоении души рабы божией княгини Варвары.
Через неделю князь Данило Борисыч уехал в Петербург. Больше мы с ним и не видались. Через три года он скончался. В духовном завещании не забыл ни меня, ни Прокофьича.
Молва о таинственной работе нашей и о сломке павильона быстро разошлась по народу. Толковали, что князь в «Розовом павильоне» нашел целый ящик золота. Чтоб поддержать этот слух, он сам после рассказывал своим знакомым, что Прокофьич открыл ему тайник, где князем Алексеем Юрьичем заложены были некоторые родовые драгоценности. Мы с Прокофьичем ту же сказку рассказывали. Так все и уверились.
II
Прокофьич
– Да, батюшка Сергей Андреич, – говорил мне однажды Прокофьич, – в старину-то живали не по-нынешнему. В старину – коли барин, так и живи барином, а нынче что? Измельчало все, измалодушествовалось, важности дворянской не стало. Последние годы мир стоит. Скоро и свету конец.
Совсем, сударь, другой свет ноне стал. Посмотришь-посмотришь, да иной раз согрешишь и поропщешь: зачем, дескать, господи, зажился я у тебя на здешнем свете? Давно бы тебе пора велеть старым моим костям идти на вечный покой, не глядели бы мои глазыньки на годы новые… А все-таки, батюшка Сергей Андреич, мил вольный свет, хоть и подумаешь этак, а помирать не хочется.
А уж так измельчало, так измельчало все, что и сказать невозможно. У барина, например, не одна тысяча душ, а во дворе каких-нибудь десять-пятнадцать человек – и дворней-то нельзя назвать. Псарня малая, ни музыкантов, ни песенников, а уж насчет барских барынь, шутов, карликов, арапов, скороходов, немых, калмыков – так, я думаю, теперь ни у одного барина и в заводе нет; все стали ровно мелкопоместные. Я так полагаю, сударь, что теперь вряд ли где можно сыскать кучера, чтоб сумел карету цугом заложить. Все на парочках – ровно мелкого рангу, аль купцы какие… А ведь и в законе написано, что столбовому барину шестериком ездить следует. Да чего уж тут шестериком? – до такой срамоты дошли, что и сказать нельзя: заложат куцу лошаденку в каку-то чухонску одноколку, сядет лакей с барином рядом – сам руки крестом, а барину вожжи в руки. Смотреть даже скверно… Вот до какого унижения дошли!.. И хоть бы неволя нудила, ну, делать нечего, – так ведь нет: сами захотели… Просто, сударь, можно сказать – никакого благородства не стало, один бог знает, что это значит такое. До чего ведь иные дворяне дошли? Торговать пустились, на купчихах поженились, конторские книги сами ведут! Ну, сами вы умный человек, посудите ради Христа – дворянское ли это дело?.. Да хоть бы богатство от того какое получили; и того нет – все профуфынились, всяк должен век, а платежу нет как нет… Эх, встали бы дедушки да прадедушки, царство им небесное!..
Уж свели бы любезных внучков на конюшню, да, по старому заведению, такую бы ременную масленицу в спину-то им засыпали, что забыли бы после того дурь-то на себя накидывать.
Хоть бы нашего князя Данилу Борисыча взять! Что ни говорите, беден он, беден, а все ж не одна тысяча душ у него найдется – стало быть, барин настоящий. А похож ли хоть маненько на барина-то? Ну, сами вы скажите – похож ли?.. В Москве в каком-то нивирситете обучался, с портными да с сапожниками там на одной скамье, слышь, сидел, – товарищем ихним звался. Ну, возможно ль сапожнику с князем в товарищах быть?.. Что же вышло? Сапожников да всяких других разночинцев не облагородил, а сам вкруг них холопства набрался. Хотя бы вот тогда приезжал он с вами в свою вотчину – что делал? Чем бы на охоту съездить, аль банкет сделать, бал, гулянку какую, – по мужичьим избам на посиделки почал таскаться, с парнями да с девками мужицкие игры играть; стариков да старух сказки заставлял рассказывать да песни петь, а сам на бумагу их записывал… Княжеское ли это дело?.. Старые книги да образа за большие деньги стал покупать. Кто ни скажет ему: вот, мол, ваше сиятельство, в такой-то деревне у такого-то мужика есть редкостная книга, – глазенки у него так и загорятся, так и забегают. В полночь ли, за полночь ли – лошадей!.. И поскачет, сломя голову, верст за тридцать либо за сорок к мужику за книгой… Курганы почнет копать, сам с мужиками в земле роется, черепки там попадутся аль жеребейки какие, он их в хлопчату бумагу ровно драгоценные камни, да в ящики, да в Питер. Не видали, знать, там этакой дряни!.. Увидал раз нищего слепца, стоит слепец на базаре, Лазаря поет. Батюшки светы!.. Наш князь Данила Борисыч так и взбеленился, берет слепца за руки, сажает с собой в карету; привез домой, прямо его в кабинет, усадил оборванца на бархатных креслах, водки ему, вина, обедать со своего стола, да и заставил стихеры распевать. Тот обрадовался да дурацкое свое горло и распустил, орет себе, как бурлак какой, а князь Данила Борисыч все на бумагу да на бумагу… Ну хорошее ли это, сударь, дело?.. Ведь грязью играть – только руки марать, дело это не княжеское… Три дня тот нищий у нас выжил, пил, ел с княжого стола, на пуховой постели, собака, дрыхнул, а как все стихеры перепел, князь ему двадцать рублей деньгами, одежи всякой, харчей, повозку велел заложить да отвезти до села, где он в кельенке при церкви живет. А сам-от после носится со стихерами: «золото, говорит, неоцененное сокровище!» Хорошо сокровище, нечего сказать! Просто сказать, ума лишился, и все тут.
Нет, сударь, в стары годы жили не так. В стары годы господа держали себя истинно по-барски, такую дрянь, как нищий слепец, на версту к себе не допускали. Знай, дескать, сверчок свой шесток. Компанию с ровней водили, другой хоть и шляхетного роду, да не богат, так его разве только из милости в «знакомцы» принимали, чтоб над ним когда потешиться, аль чтобы в доме было полюднее. И должен был тот «знакомец» ходить по струнке, а чуть проштрафился, шелепами его на конюшне… Да иначе и не следует: как бы на горох не мороз, он бы через тын перерос. Так вот, сударь, как в стары-то годы живали! А теперь что! Тьфу!
Хоть бы, например, при князе Алексее Юрьиче здесь в Заборье было!.. Подлинно, не жизнь, а рай пресветлый. Богатство-то, сударь, какое, изобилие-то какое было! Одного столового серебра сто двадцать пудов, в подвале бочонки с целковыми стояли, а медные деньги, что горох, в сусеки ссыпали: нарочно такие сусеки в подвалах были наделаны. Музыкантов два хора, на псарне не одна тысяча собак, на конюшне пятьсот лошадей верховых да двести езжалых; шутов да юродивых десятка полтора при доме бывало, опричь немых арапов да карликов. Шляхетного рода «знакомцев» из мелкопоместных, человек по сорока и больше проживало. Мужики ли, бывало, у кого разбегутся, деревню ль у кого судом оттягают, пропьется ли кто из помещиков, промотается ли, всяк, бывало, в Заборье на княжие харчи. Опять барыни-приживалки, барышни: этих тоже штук по тридцати водилось. Уж именно дом был, как полная чаша. А сам-от князь какой был барин! Такой, сударь, важности, что теперь, весь свет исходи, днем с огнем не сыщешь… И все-то прошло, все-то миновалось! Да, сударь, стары годы были годы золотые, были они, сударь, да и прошли, прошли и не воротятся. Красно лето два раза в году не живет!
А куда каково давно тому времени, как в Заборье-то было житье-бытье раздольное да привольное! Мне теперь десятый десяток идет, а в ту пору и тридцати годков не было, как батюшки-то нашего, князя Алексея Юрьича, не стало. А скончаться изволил лет семидесяти без малого… Да я уж что за жизнь застал? Тогда уж князь-от в немилости был, в опале то есть, а вот как, бывало, родитель мой – дай ему бог царство небесное, а вам добро здоровье – порасскажет про те годы, как князь-от Алексей Юрьич в настоящей своей поре был и в Питере «во-времени» находился, а в Заборье бывал только наездами, так вот тогда точно что жизнь была золотая. И умирать не надо было.
А батюшку моего покойника князь Алексей Юрьич изволил жаловать своей княжею милостью. Перво-наперво он у него в доезжачих находился, а потом в стремянные попал, да проштрафился однажды: русака в остров упустил. Князь Алексей Юрьич за то на него разгневался и тут же, на поле, изволил его из своих рук выпороть, да уж так распалился, что и на конюшне еще велел пятьсот кошек ему влепить и даже согнал его со своих княжих очей: велел управляющим быть в низовой вотчине… Однако ж после того годов этак через пяток помиловал – гнев и опалу изволил снять.
Вот как то дело случилось. Князь Алексей Юрьич на охоту по первой пороше поехал. Время стояло холодное, на Волге уж закраины, только самые еще что называется стекольные, значит, лед пятаком можно еще пробить. Ста полтора русаков заполевали, за монастырем, на угоре, привал сделали. А гора в том месте высокая, что стена над Волгой-то стоймя стоит. Князь Алексей Юрьич весел был, радошен, потешаться изволил. Сел на венце горы верхом на бочке с наливкой, сам целый ковшик изволил выкушать, а потом всех тут бывших из своих рук поил, да, разгулявшись, и велел доезжачим да стремянным резака делать. А чтоб сделать резака, надо под гору торчмя головой лететь, на яру закраину головой прошибить да потом из-подо льда и вынырнуть. Любимая была потеха у покойника, дай бог ему царство небесное! На ту пору никто не сумел хорошо резака сделать: иной сдуру, как пень, в реку хлопнется, – а это уж не то, это называется паля, и за то пятнадцать кошек в спину, чтоб она свое место знала и вперед головы не совалась. Другой, не долетевши до льда, на горе себе шею свернет, а три дурака хоть и справили резака, да вынырнуть не сумели: пошли осетров караулить. Осерчал князь Алексей Юрьич: «Всех, закричал, запорю до смерти!» За мелкопоместное шляхетство принялся, им приказал резака справлять. Те еще хуже: один и прошиб было головой лед, да тоже к осетрам в гости поехал.
Заплакал индо князь Алексей Юрьич, навзрыд зарыдал: таково ему стало горько и прискорбно.
– Видно, говорит, последние мои дни настают, что нет у меня молодца, чтоб резака сумел справить!.. Все равно бабы!.. А где, говорит, Яшка Безухой?.. Вот удалец-от: по три резака, бывало, сряду делывал.
А это он про батюшку-покойника изволил вспомянуть. А батюшка-покойник и в самом деле безухий был. Лево-то ухо ему медведь отгрыз: раз как-то князь Алексей Юрьич изволил приказать батюшке с любимым своим медведем побороться, медведь, видно, осерчал да ухо батюшке и прочь, а батюшка-покойник не вытерпел да охотничьим ножом Мишку под лопатку и пырнул. У того дух вон. Так за то, что осмелился без спросу княжего медведя положить, князь Алексей Юрьич приказал для памяти батюшке-покойнику и другое ухо отрезать и прозвал его потом Яшкой Безухим. А батюшку-покойника вовсе не Яковом, а Прокофьем звали.
– Где, кричит, Яшка Безухой. Подавай сюда Яшку Безухого!
Доложили, что Яшка Безухой под гневом находится пятый год, низовой вотчиной управляет.
– Давай сюда Яшку Безухого – он у меня на резаке не прорежется, как вы, шельмецы.
Поскакали за покойным батюшкой. Ну, Саратов – место не ближнее: когда батюшку оттуда ко княжему двору привезли, лед-от такой уж стал, что будь у покойника свинцовая голова, так и тут бы ему резака не сделать. Допустили батюшку до светлых очей князя Алексея Юрьича.
– Здравствуй, говорит, Яшка Безухой!
Батюшка в ноги; князь его пожаловал, велел встать.
– Что, говорит, резака завтра с того угора вальнешь?
– Можем постараться, батюшка, ваше сиятельство, надеючись на милость божию да на ваше княжеское счастье! – отвечал покойник родитель мой.
– Ладно, говорит, ступай на псарный двор. Жалую тебя сворой муругих.
А к утру вьюга. Да так поля засыпала, что охота совсем порешилась. Остался резак за батюшкой до другого ледостава. Зато уж какого же резака на другую-то осень он справил… И за такую службу его и за великое раденье жаловал его князь Алексей Юрьич своей княжеской милостью: изволил к ручке допустить, при своей княжой охоте приказал находиться, красный чекмень с позументом пожаловал, на барской барыне женил, и сказано было ему быть в первых псарях. И до самой кончины князя Алексея Юрьича батюшка у него в самых ближних людях и в большой милости находился. А как я родился, князь Алексей Юрьич сам изволил меня от святой купели воспринимать, а восприемницей была Степанида-птичница, гайдука Самойлы жена. Тоже из барских барынь.
Подрос я, сударь, у батюшки на псарне, а как приехал князь сюда совсем на житье и мне шестнадцать лет исполнилось, изволил он и меня своей высокой милостью взыскать. На само светло Христово воскресенье, после заутрени, сказал свое жалованье: велел в комнатных казачках при себе быть, есть с княжьего стола, а матушке-покойнице давать за меня месячину мукой, крупой, маслом, да по три алтына в месяц деньгами. В грамоту с прочими казачками меня отдали, драли, сударь, немилосердно, однако ж дьячок Пафнутий до своего дошел: грамота всем далась, цифирному делу даже маленько навыкли. А когда исполнилось мне двадцать годов, стали нас распределять по наукам: кого в музыканты, кого в часовщики, кого в живописцы, кого французскому учиться, чтоб с молодым князем с Борисом Алексеевичем в Париж отправить. Меня же, за многую службу матушки-покойницы и по ее великой слезной просьбе, по собачьей части князь определить изволил.
Было, сударь, мне лет двадцать с небольшим, как сподобил и меня господь перед светлыми очами князя Алексея Юрьича малую службишку справить и тем его княжеского жалованья и милости удостоиться. Верстах в двадцати от Заборья, там, за Ундольским бором, сельцо Крутихино есть. Было оно в те поры отставного капрала Солоницына: за увечьем и ранами был тот капрал от службы уволен и жил во своем Крутихине с молодой женой… А вывез он ее из Литвы, аль из Польши, а может статься, из хохлов, доподлинно не знаю, – только красавица была писаная, теперь, думать надо, изойти весь белый свет, такой не найдешь. Князю Алексею Юрьичу Солоничиха приглянулась: сначала хотел ее честью в Заборье сманить, однако ж она не поддалась, а муж взъерошился, воюет: «Либо, говорит, матушке государыне подам челобитную, либо, говорит, самого князя зарублю». Выехали однажды по лету мы на красного зверя в Ундольский бор, с десяток лисиц затравили, привал возле Крутихина сделали. Выложили перед князем Алексеем Юрьичем из тороков зверя травленого, стоим, ждем слова ласкового.
А князь Алексей Юрьич кручинен сидит, не смотрит на красного зверя травленого, смотрит на сельцо Крутихино, да так, кажется, глазами и хочет съесть его.
– Что это за лисы, говорит, что это за красный зверь? Вот как бы кто мне затравил лисицу крутихинскую, тому человеку я и не знай бы что дал.
Гикнул я да в Крутихино. А там барынька на огороде в малинничке похаживает, ягодками забавляется. Схватил я красотку поперек живота, перекинул за седло да назад. Прискакал да князю Алексею Юрьичу к ногам лисичку и положил. «Потешайтесь, мол, ваше сиятельство, а мы от службы не прочь». Глядим, скачет капрал; чуть-чуть на самого князя не наскакал… Подлинно вам доложить не могу, как дело было, а только капрала не стало, и литвяночка стала в Заборье во флигеле жить. Лет через пять постриглась, игуменьей в Зимогорском монастыре была, и князь Алексей Юрьич очень украсил ей обитель, каменну церковь соорудил, земли купил, вклады большие пожаловал.
Добрая была барынька, дай ей бог царство небесное, милостивая: как жила в Заборье, завсегда умела утолить сердце князя Алексея Юрьича. Только что он на своих ли холопей, на мелкопоместное ли шляхетство распалится, завсегда, бывало, уймет его. Много за нее бога молили.
За эту самую службу изволил меня князь Алексей Юрьич беспримерно пожаловать. «Коли верен раб, так и князь ему рад», – при всех сказать изволил и велел мне быть при своем княжем стремени. Чекмень малиновый с позументами изволил пожаловать, полтора рубля деньгами, чарку серебряную, три полушубка мерлушчатых, лисью шубу, да кусок сукна немецкого. А сверх того соизволил женить меня на барской барыне. Однако ж матушка-покойница князя укланяла: за молодостью лет в брачное дело мне вступить было отказано. Милость князя была ко мне великая: заместо женитьбы с птичного двора девку Акульку в наложницы мне пожаловал. Да ведь не то, чтоб я просил о том, нет, сударь, сам пожаловать изволил, без просьбы… После того, года через два, меня на певице женили, на родной сестре Василисы Бурылихи, что в Заборье надо всеми порядок держала. Презлющая баба была эта Василиса, а с рожи такая, что как во сне, бывало, приснится, вскочишь да перекрестишься. А у князя Алексея Юрьича в великой была милости, для того, что по девичьим ладно дела вела. Мне с женой из-за нее куда как хорошо было жить.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?