Текст книги "Повелитель снов"
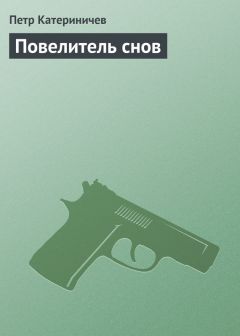
Автор книги: Петр Катериничев
Жанр: Боевики: Прочее, Боевики
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Глава 26
Набегавшие тучи развеяло, и день завязался вполне ясный, солнечный, теплый. Жаркий даже. А у меня было странное чувство, будто зимы не было в этом году вовсе: сначала – август, потом прозрачный сентябрь, что томил меня грустью несбывшегося лета, потом… Потом была просто тьма, и одиночество, и четыре стены квартиры, и… И – всего этого словно не было.
Особняк был просторен, а дворик… Он был спроектирован как греческий, правда не с квадратным, а с прямоугольным бассейном, чистым и опрятным, наполненным свежей водой. Еще здесь был длинный дощатый стол под завитым виноградом навесом, а вокруг стилизованные под амфоры вазы, в которых цвели яркие цветы, явно не здешние, привезенные откуда-то с берегов Адриатики.
– Извини, Олег, я свалилась как снег на голову вчера вечером, ночь у тебя получилась бессонная… Кофе? Или отдохнешь?
Второе предложение она произнесла приличия ради. Тревога читалась в глазах девушки достаточно ясно, и ей непременно хотелось, чтобы я приступил к поискам ее отца немедленно, и, чего греха таить, наверное, верилось, что найду я его скоро, может быть, уже к сегодняшнему вечеру, и все ее печали забудутся, как скверный сон, и наступит покой и гармония…
– Душ, чашка кофе, а потом мне нужны будут его фотография и бумаги.
– Бумаги?
– Ну да. Органайзер, ежедневник, блокнот. Ведь был же у него какой-то план встреч, переговоров…
Аня только пожала плечами:
– Может быть. Меня он в это не посвящал. А все планы держал в голове.
– Разумно, – сказал я и подумал: в наших условиях – более чем разумно: в таком полукриминальном бизнесе, как антиквариат, деловые партнеры должны быть уверены, что близкие абсолютно не в курсе… Это не всегда их спасает, но ограждает от волнений самого добытчика дорогих безделиц – точно. – Но это очень усложняет задачу. А фото хоть есть?
– Конечно. Сколько угодно.
– Где?
– С собой ноутбук, там целая галерея.
– Наверное, в нем и записи?
– Может быть. Я иду готовить кофе.
Первую чашку я выпил «скороговоркой» и пошел в душ. Забрался под горячие струи и стоял, вдыхая через полураскрытое оконце аромат то ли миндаля, то ли дикой розы, и странность происходящего снова стала ощущаться остро… Стоило закрыть глаза, и я начинал ощущать себя в столице, в пустом и сонном своем обиталище, и еще – я чувствовал уже усталость от разговоров и людей, хотя, по сути, кроме Ани ни с кем не общался последние семнадцать часов. Правда, я и не спал. Так, передремал в самолете минут сорок, и мне виделись всполохи пожара, и кто-то продавал мне листы чистой бумаги и требовал за эти пустые странички несусветные деньги, и я платил, смирив себя мыслью столь же простой, сколь и привычной: «Теперь такие времена».
Вышел из душа и – замер. Аня в купальнике бикини стояла спиной ко мне перед бассейном, собираясь нырнуть. И дело даже не в том, что… Нет, и в том тоже… Если бы кто-то увидел сейчас мое лицо… Ну да, я стоял пораженный: такого совершенства я не видел никогда и нигде. И мысли мои все улетучились куда-то, и дыхание перехватило, словно я – здесь и сейчас – присутствовал при рождении богини любви и красоты… И если бы по садику вдруг запорхали амуры, то ничуть бы не удивился: чему быть, того уж не воротишь.
Нырнула девушка стрелой, без единого всплеска, и тут же вынырнула, гибко выгнувшись… Выбралась из бассейна по лесенке, спросила:
– Не хочешь освежиться? Вода ледяная, но если быстро – просто замечательно.
– Это неспортивно: нырять в пресный бассейн, когда море рядом, – отметил я авторитетно, считая, что совершенно справился с собою, и чувствуя, что это не так. Аня моего смущения не заметила, а скорее заметила, но… приняла спокойно, как само собою разумеющееся, поскольку, наверное, именно так на нее реагировало большинство мужчин. Просто – мы заболтались в течение этой ночи, и я, украдкой взглядывая на нее, чувствовал, как тонет рассудок вместе со всеми мыслями – умными, глупыми, вздорными, и остается единственное – нет, не ощущение даже и не понимание – восхищение: ну бывает же такое!
Опытом я понимал, что единственным спасением в подобной ситуации было – отрешиться, сказать себе: «Нет, старик, такие девчонки не для тебя…» – и спокойно или беспокойно, но существовать рядом. Но куда годится наш прошлый опыт, если вся наша жизнь в такие минуты кажется сотканной из серого, с редкими пестрыми крапинами, полотна… И именно в этот миг ты вдруг впервые разглядел на нем и сверкание золотых нитей, и матовую нежность жемчужного шитья, и таинственный перелив темных рубинов, и искристое сияние алмазов, и потаенную мудрость аметистов… Что наша жизнь рядом с таким мгновением?
Но горечь всегда в том, что ветхая мудрость уже нашептывает едва слышимо: «…и это пройдет… пройдет… пройдет…»
…Тот март был сумрачно-усталым,
Как будто копоть в образах, —
И ты явилась в платье алом
И с морем, плещущим в глазах.
И день стал пламенным, как лето,
Горящее в разрывах туч,
И ночь была полна рассвета,
И ласков невесомый луч,
И я был счастлив. И была
Тиха полночная обитель,
И музыка любви плыла,
Двух судеб расплетая нити…
И ты умчалась. И в смятенье
Тянулся долгий блеклый год.
И март стал хрупким, как виденье,
По лужам скапливая лед…
И все прошло. Сном редким сердце
Ушедшее листает вновь,
Чтобы в глаза твои всмотреться
И вспомнить – лето и любовь[12]12
Стихотворение Петра Катериничева «Тот март».
[Закрыть].
Всякому человеку необходима гавань спасения для томимой сомнениями и смутой души. А потому ветхая мудрость – ложна. И в нашей памяти или беспамятстве мы находим не только тоску несвершенного и горечь несбывшегося, но и такие вот блики озарения, восторга, света, что делают всю нашу суетную и порой тусклую до дождевой осенней мороси жизнь наполненной назначением, верой и смыслом.
Глава 27
Ощущение странной ирреальности происходящего не исчезало. Мы сидели за столом в «греческом дворике», было слышно, как шумит море, передо мною была девушка, словно сошедшая с картины старого мастера, и говорили мы… О бренном и суетном. Для себя я объяснил все простым словом: акклиматизация. Ну правильно: всегда нужно отыскивать слова, какие все объясняют: акклиматизация, бессонница, депрессия, стресс, кризис…
Фотографий в принадлежащем Дэниэлсу ноутбуке было действительно много, а вот записей или планов – никаких. Хотя я и прошерстил умную машину на предмет скрытых файлов. Или она оказалась умнее меня, или, действительно, всю информацию, касающуюся его дел, Дэвид держал в голове.
Как Аня назвала его профессию? Агент по продаже автомобилей? Коммивояжер? А по лицу не скажешь. Худощавый, загорелый, спортивный, с благородной сединой и короткой бородкой, он чем-то походил на Хемингуэя или на актера Шона О' Коннори. И немного – на Марлона Брандо, каким он был в фильме «Последнее танго в Париже». Что-то не вяжется такой облик с профессией суетного торговца автомобилями…
Но – случай из жизни. Познакомился я некогда с человеком. В тридцать шесть лет он был уже доктор наук, профессор, заведующий кафедрой, автор сотни статей и десятка монографий, специалист по монетам, дни напролет просиживающий в архивах провинциальных музеев и составлявший какой-то очень важный для науки нумизматики фолиант, какой должен был внести его имя в списки незыблемых корифеев сей дисциплины. Звали его Михаил Наумович Абрамсон.
Выдав всю эту информацию, я просил слушателей описать Абрамсона: каким они его представляют? И варианта было всего два. Первый: маленький, седеющий, худой, суховатый, в костюмчике и пуловере, в дорогих очках в металлической оправе, с характерным породистым носом. Второй: небольшого росточка, с животиком, лысый или лысеющий, потеющий, в мятом костюмчике, близорукий… Третьего варианта не выдавал никто! Совсем! Ибо стереотип восприятий и представлений, сформированный «семьей и школой», могуществен и всезнающ! Действительно, а каким еще может быть еврей-книгочей, проводящий жизнь по библиотекам и пыльным музейным запасникам, сделавший ученую карьеру уже к тридцати шести?
А на самом деле… Миша Абрамсон был высоким, атлетичным, с плоским животом и могучими плечами и являлся, кроме всего, еще и мастером спорта по дзюдо; ходил загорелый дочерна: в майке, спортивных штанах и кроссовках… К его бы фактуре еще «голду» на шею – и… браток? И – тоже нет! Лицо у него было – нет, не вдумчивого ученого, а натурального одесского каталы, а когда начинал рассказывать – привирал с три короба, весело, азартно – заслушаешься!
Стереотип поддерживается имитаторами. Как сказала Аня? «Уметь изображать похоже – это еще не значит быть художником; уметь писать в рифму – не означает быть поэтом». А всем – хочется! Да и встречают всегда по одежке… Вот люди с учеными степенями, всю жизнь пописывавшие статьи «К вопросу о…» и не сделавшие в науке не только чего-то существенного, но даже малого, рядятся в «настоящих ученых»: берет, близорукая отрешенность от мира, раздумчивость, профессорская бородка, соответствующие окуляры… Таковы и художники или писатели, всем обликом своим подчеркивающие принадлежность к некоему «избранному», «творческому» сообществу…
Н а с т о я щ и е не демонстративны. В любой профессии. Знавал я академика, похожего на дачника-отставника, и профессионального разведчика, коего принимали за члена месткома конторы «Рога и копыта»… Знавал успешного художника, выглядевшего недоучившимся студиозусом, и миллионера, казавшегося отвязанным байкером! Возможность уйти во внешнем облике от стереотипа той профессии, которой они занимаются «по жизни», дает людям творческим, с одной стороны, «вариант свободы» в отношениях с миром, с другой – позволяет сберечь то нежное пламя, какое они поддерживают в душе своей и которым освещают этот мир!
Мы засели с Аней за кофейником благородной «арабики»: ведь предпринимала же она какие-то попытки розыска отца сама до приезда в Москву. К тому же, как выяснилось, не так она одинока в заброшенной Бактрии в мертвый сезон.
– Аня, твой папа… Он действительно был коммивояжером? Что-то внешность не очень вяжется…
– Коммивояжер – это из романов Мопассана: слишком мелко и суетно. Да, мой папа продавал автомобили, но продавал их оптом и по всему миру. И зарабатывал всегда хорошо.
– Он часто бывал в командировках?
– Да.
– Подолгу?
– По-всякому. Когда две недели, когда – три месяца.
Вот и решай, в чем Дэвид Дэниэлс был настоящим… Что выходит? А выходит, что он мог быть таким же торговцем, как я – преподавателем хинди или китайской каллиграфии! Для людей иных профессий «торговое представительство» – отличное прикрытие. И мама Мэри, и Аня знают о его работе только с его слов. И вполне могут не знать ничего о реальной жизни Дэниэлса. Как говаривал Козьма Прутков, если на клетке со слоном написано «буйвол», не верь глазам своим!
А в жизни… В ней часто все не так легко, как кажется, и все не то, чем кажется. И – нужно отыскивать слова, какие все объясняют: акклиматизация, бессонница, депрессия, стресс, кризис…
Теперь такое время: не принято называть вещи своими именами. Никто из женщин не скажет: «Я боюсь быть нелюбимой». Скажет: «Я боюсь располнеть». Никто из мужчин не скажет: «Я боюсь умереть, так ничего и не создав и не воплотив, даже не попытавшись рассказать, каким я был, что чувствовал, кого любил…» Скажет: «У меня бессонница и головная боль».
Слова… Они всегда все объясняют. Даже необъяснимое.
Глава 28
За те восемь дней, что Аня пробыла в Бактрии, в первые три вообще ничего не происходило. Они просто гуляли с отцом по набережной, ужинали в ресторанах и вели тихую жизнь отдыхающих. Дэвид Дэниэлс ждал звонка на мобильный после того, как опубликовал в местной газете заранее оговоренное объявление. На четвертый день ему и позвонили, но и потом сутки прошли в ожидании. Как показалось Ане, ожидание это было для Дэвида напряженным. На пятый день он с утра уехал на встречу с кем-то.
– На чем уехал?
– На такси. Вызвали по телефону. – Аня протянула мне газету.
– По которому? Тут пять.
– Какая разница? Компания – одна. И я там уже была.
– Да?
– Давай я буду по порядку?
– Извини.
– С утра он поехал на встречу и вернулся к полудню. И настроение его было… Не знаю даже, как сказать… Взвинченным? Радостным? Тревожным? Да, он был весел, но весел как-то избыточно, что ли, азартно, как бывают веселы наркоманы… или люди, увидевшие предмет своего долгого вожделения и жаждущие получить его теперь даже больше, чем прежде… Я еще тогда подумала: никогда не видела Дэвида таким, как плохо, оказывается, я его знаю… И еще я подумала: коллекционирование – это действительно страсть. А страсть… Хотя – что я говорю… Как ни странно, но страсти в своей жизни я пока так и не испытала… А мне ведь уже третий десяток…
Последние слова были сказаны Аней так искренне и так печально… Двадцать один год. Почти старость. Хотя… На западе – год совершеннолетия. Рубеж. Где-то лет с семнадцати все юные везде и всюду переживают комплекс сверхполноценности: «Ах, как я умна и совершенна!» И все их печали заключены лишь в том, что мир почему-то еще не разглядел и не оценил этого совершенства… Но если процесс взросления затянулся и комплекс сверхполноценности не прошел – это почти диагноз.
– …А вечером он ушел снова. Было не поздно: что-то около пяти. Он сказал, что, возможно, задержится… По правде сказать, я не знала, что значит «задержится». Но ведь у него был мобильный, всегда мог позвонить. А он в этот вечер так и не позвонил. А тут еще погода испортилась, и разыгрался шторм, и я сидела одна в этом пустом доме, который вдруг сделался неуютным и страшным, и чудились мне под мерные завывания ветра какие-то призраки, что обитали здесь всегда и чей покой мы так бесцеремонно нарушили…
В тот вечер я напилась. Одна. От страха. Не знаю, как вышло, но я оказалась за столом, перед листом бумаги, и рисовала, рисовала – тонким пером «паркера»… А уже утром, как увидела, сожгла…
вспомнилось мне вдруг из прошлого, но прерывать Аню я не решился.
– Заснула я уже часа в два, несколько раз попытавшись дозвониться до Дэвида по сотовому, но – тщетно… Признаться, я не знала, что думать. Мысль о том, что он загулял, пришла в голову и как-то увяла сама собою…
– Ты этого не допускаешь?
– Отчего же? Просто… позвонить он мог?
– У наших гулянка сочетается с приемом горячительного…
– Дэвид никогда в жизни не напивался.
– Это он тебе сказал?
– Он может выпить, но… Всегда одни и те же напитки и не более трех порций.
– Виски с содовой?
– Да.
– Временами люди изменяют устоявшемуся. Особенно если меняется место, а с ним и время.
– Время?
– Ну да. Время на Западе, да и в Австралии течет векторно и прямо. У нас – зигзагом. Хотя в Крыму – медленнее.
– Ты странно рассуждаешь.
– Я – загадочный. А под влиянием спиртного время вообще изменяет ход. А если Дэвид где-то крепко выпил… Для него прошли минуты, для тебя – часы… Вот он и не решился тебя беспокоить.
– Ты считаешь, он полагал, что так мне было комфортнее?
Я пожал плечами.
– Тогда не пытайся успокаивать меня сейчас. Может быть, я и сама где-то в глубине души надеюсь, что познакомился он с какой-нибудь разбитной девахой, напился, обкурился и сидит сейчас «зеленый», но – невредимый… Но только – не в его это, нет, не характере даже – стиле. Я понятно сказала?
– Да.
– А тогда я ждала, что он все-таки появится, и думала так же, как и ты теперь: мало ли… Сама я проснулась поздно, совершенно разбитая, и пришла в себя только часам к одиннадцати. Первый раз в жизни напилась. Хотя нет, вру, второй. Сидела и ждала. Периодически названивая по телефону. К трем ждать стало невмоготу. И я пошла слоняться по Бактрии; мне почему-то казалось, что я его обязательно встречу… Бактрия – странный городок. Маленький. И все друг друга знают. А я бродила по нему, как по музею. Вернее, как по оставленным людьми развалинам. Где и людей-то нет. Одни тени.
А потом встретила Эжена. Он был нетрезв. Сидел на лавочке и пил какую-то шипучую бурду из металлической банки. Кажется, она называлась «джин с тоником». Я попробовала. Там не было ни джина, ни тоника. Бурда с химической отдушкой.
Вид у меня был скверный. Я сказала Эжену, что отец куда-то… запропастился. Слова «пропал» или, хуже, «пропал без вести» пришли мне на ум, но я отогнала их в смятении. «Запропастился» мне показалось менее фатальным. А теперь я думаю… Слово-то страшное. И корень у него – «пропасть». – Аня мотнула головой, словно отгоняя обступивший ее страх. – Эжен отнесся ко всему философски. Так это обычно называют. Когда люди совершенно равнодушны – это именуют «философским взглядом на жизнь». «Все пройдет». Только Эжен не равнодушен. Он озабочен сам собою и своим предназначением.
– Каким?
– Творить Гармонию. Ни больше ни меньше. Даже не музыку сочинять, нет, Творить Гармонию. И буквы в обоих словах для него, естественно, заглавные.
Мне вспомнилось вдруг, что поиски Ожерелья Гармонии, сработанного то ли тем же Гермесом, то ли Гефестом – здесь мифологемы расходятся, было искушением всех древних магов: оно давало власть, способность зачаровывать, но притом, как и кольцо Нибелунгов, неминуемо обрекало владельца на беды силою заклятия… Но у Ани я спросил другое:
– Эжен тебя раздражает?
– Конечно.
– Людей раздражает всякий, не похожий на них.
– Только не будь назидательным, Дронов. Эжену нет до людей никакого дела. Только до себя и своей Миссии. Он ненормальный. И я его боюсь.
– А Мориса? Или Гошу?
– Гоша очень добрый, он просто сам людей боится и не хочет иметь с ними ничего общего. Морис… Не знаю. – Девушка задумалась, взгляд ее стал отсутствующим… – Не знаю. Пожалуй, ты прав: в нем чувствуется некое превосходство над остальными, но ведь он действительно многих превосходит. И во многом. Но по отношению к нам он всегда был… великодушным. Его побаивались чужие, а нас он защищал. Ты все еще беспокоишься об этой утренней стычке?
– Немного.
Просто чтобы понять, что произошло с Дэвидом Дэниэлсом, мне нужно видеть картинку целиком. А пока она мутна и размыта, как сквозь матовое стекло; я не вижу даже, чувствую – отражение? тень? мираж? Странно: для меня, как, наверное, для многих, слова «мираж» и «Париж» – схожи. Или – это тоже иллюзия, как все в непостоянном нашем мире? Бог знает.
Глава 29
Опустошив три кофейника крепчайшего эспрессо, я решил, что дальнейшие мои расспросы не просто бесполезны, но вредны для дела. Узнал адрес дома, по которому водитель такси отвез Дэвида Дэниэлса и в который Аня так и не смогла попасть…
– Там большой забор, и у меня сложилось такое впечатление, что дом необитаем… Я стучала, звонила, но никто не отозвался.
– А с соседями пообщаться?
– Нет там никаких соседей. Дом крайний на улочке, и… Он другой, чем остальные. Богатый.
– Обычное дело. Тем более стоило. О богатых и пришлых судачат охотно.
– Ты знаешь, я была близка к панике… пошла в милицию и вдруг вспомнила тебя, взяла такси, поехала в Симферополь, потом – самолет, сидела у тебя, и мне все казалось, что это сон, ведь этого не может быть! И вот – ты здесь… У меня даже теперь это не укладывается в голове!
Как будто у меня укладывается! Вчера было преддверие весны и безвременье, а сегодня – лето, жара, полное невнятного томления будущее; сквозь витой лиственный навес – палящий зноем день и – кофейное беспокойство, когда на месте усидеть не можешь и хочется стремиться, лететь, мчаться! Вот только приключений никаких не хочется. Особенно скверных… Хотя, если вдуматься… Корень слова приключения – «ключ»! Быть при ключе всегда лучше, чем без оного… И если он от заветной двери в каморке папы Карло… Или от сердца юной красавицы… Или…
– Пора. – Я встал. – Нужна машина и мобильный.
– Телефон – вот. – Аня подала мне свой.
– Нет, ты должна оставаться на связи.
– У меня есть еще один. Нажмешь первую кнопку, и – вот она я.
– Отлично.
– Автомобиль… Может, у Мориса занять? Или у Гоши?
– Нет. Сам. Кстати, вас ведь было шестеро? Приехавших вместе из Загорья?
– Да.
– Морис, Гоша, Эжен. Кто еще двое? И – где?
– Один ушел служить и, наверное, остался в армии. По крайней мере, мне так сказал Гоша. Север.
– Крайний?
– Нет. Зовут его Север.
– Сурово.
– Он, кстати, и был такой. Немногословный и надежный. Вообще-то он в математике хорошо соображал, но… Откуда я знаю, что с ним сталось за все эти годы? А еще один – Алекс.
– А Юстаса не было?
– Нет. А почему ты…
– Это – так. Советский фольклор. «Алекс – Юстасу… Юстас – Алексу…» И все они вместе – Феликсу.
– Мы звали его просто Сашкой. Он в Москве. Гоша его там видел.
– Цветы выращивает?
– Почему цветы?
– Раз Гоша животину и фауну всякую в обиду не дает, то Саша – наверняка флору пестует. И ведет с растениями молчаливые беседы. Как я понял, только они двое обыденные имена среди вас заимели. Логично?
– Вроде бы. Но все не так. Саша – единственный среди нас был… простым. А я, если уж говорить полную правду, действительно думала, что вырасту художницей, – ведь на меня как наваждение какое-то находило – я рисовала лица, пейзажи, города – все незнакомое мне, выдуманное, и все они были то картинно красивы, то жутки, то карикатурны… И сама я от этого измаялась и уставала… Знаешь, говорят, и настоящие писатели, и графоманы испытывают те же чувства – тот же восторг творчества и ту же глубину отчаяния… Но думаю – это ложь. Графоману цедить слова легко, он предвкушает будущую славу… А писателю тяжко, чтобы читателю было легко – нет, не читать, – сочувствовать выдуманному миру и людям, какие в его воображении становятся живыми и потом остаются такими…
А я маялась, и созданные мною миры и люди были странно красивы или странно пугающи… И я отступилась. Потому что жизнь там, на другой стороне земли, спокойна, самоуверенна и монотонна. Я отступилась.
Про Мориса и Гошу я тебе рассказала. С Эженом тоже все понятно. Север думал – нет, не цифрами даже и не формулами – какими-то ему одному понятными схемами. А Сашка… Он был старательный, самый тихий и, как бы это сказать… добродетельный, что ли? И – незаметный. Неприметный. Ни в чем. Но он умел быстро и легко нравиться людям.
– Как ты?
– Разве я им нравлюсь? Одни испытывают зависть и раздражение – я женщин имею в виду, а мужчины… Ну это даже комментировать не хочу. А Сашка – нравился всем: детям, вахтерам, морякам, начальникам, врачам, учителям, собакам, бомжам, милиционерам, обывателям, жуликам, торговкам… И он, казалось, никогда не прилагал для этого никаких усилий. Нет, действительно не прилагал! Просто с искренним вниманием смотрел на каждого, с кем общался, и человек ощущал себя единственным и неповторимым на этой земле! И, если совсем честно, ведь когда нужно было принять решение, его всегда принимал Сашка. За всех нас. И все с этим соглашались.
Впрочем, он был самым старшим – ему было почти шестнадцать. Небольшого росточка, тихий… И как-то так незаметно всегда получалось, что люди тянулись к нему, ища в нем опору чему-то своему.
– Просто золотой человек! Кем он теперь в Москве?
– Не знаю. Гоша рассказывал, возглавляет фирму «Слово и дело».
– Серьезное название.
– Почему это? Красивое, но обычное.
– Если помнишь, во времена государя Алексея Михайловича Тишайшего «слово и дело» выкрикивали люди, которые хотели сообщить нечто тайное и исключительно важное, касаемое верховной власти; «слово и дело» приостанавливало казни и движения войск, пытки и истязания; выкрикнувший «слово и дело» где бы то ни было становился неподсуден местным властям и отвечал только на Москве, перед дьяком Тайного приказа… Но отвечал по полной.
– Это все давняя история. А Сашкина фирма, как рассказывал Гоша, занимается ведением переговоров и примирением сторон в… сомнительных случаях.
– Специфическое занятие. Он богат?
– Не знаю.
– Аня, а почему ты помчалась ко мне, а не обратилась к Саше? Судя по всему, связи у него значительные и решать проблемы он умеет.
– Не подумала. Знаешь, Олег, это вы, мужчины, руководствуетесь логикой и здравым смыслом, а мы… Не знаю, назвать это интуицией или прозрением… – Аня покраснела, потупилась. – Ты недоволен тем, что я тебя… напрягла? Так, кажется, теперь это принято называть?
Вместо ответа, я наклонился и погладил ее по голове. На глазах девушки блеснули слезинки.
– Ты что как с маленькой… Я уже давно не ребенок…
– Извини. Не смог удержаться. – Улыбнулся, сказал: – Пойду. Пора.
Аня кивнула. Произнесла чуть сдавленно:
– Только ты смотри… не пропади.
– Не пропаду.
«Недоволен…» Разве может быть недоволен человек, которого буквально выкрали из одиночества?
Уединение и одиночество различны, как свет и тьма. В уединении человек может отдохнуть от суетных проблем и опостылевшего псевдообщения, поразмыслить над тем миром, что вокруг, и тем, что внутри его; он может вспомнить несбывшееся, пожалеть ушедшее и самого себя – такого неразумного, несуразного, потерянного… А потом – вернуться из уединения в жизнь обновленным, полным энергии, сил, жажды свершений и способности к ним.
Одиночество – разрушительно. Оно охватывает кольцом, давит тонной тоской несвершенного и в конце концов превращает человека в загнанное отчаянием и страхом жизни существо, не способное ни к чему, кроме… А вот это «кроме» каждый выдумывает себе сам.
А что нужно выдумать мне? Победу.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































