Текст книги "Анархия. Мысли, идеи, философия"
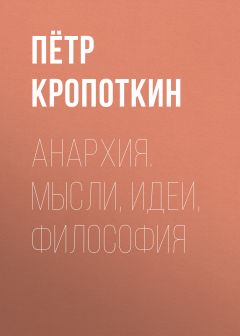
Автор книги: Пётр Кропоткин
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Ложное учение «мир во зле лежит». – Государственное насаждение того же взгляда на «коренную испорченность человека». – Взгляды современной науки. Выработка форм общественной жизни «массами» и закон. – Его двойственный характер
Спенсер, впадая в эти ошибки, был, однако, не один. Верная Гоббсу, вся философия XIX в. продолжала рассматривать первобытных людей как стадо диких зверей, которые жили отдельными маленькими семьями и дрались между собой из-за пищи и из-за своих жен до тех пор, пока не появилось благодетельное начальство, которое водворило среди них мир. Даже такой натуралист, как Гэксли, продолжал повторять все то же фантастическое утверждение Гоббса и заявил (в 1885 г.), что вначале люди жили, борясь «каждый против всех», до тех пор, пока благодаря нескольким передовым людям эпохи не было «основано первое общество». Таким образом, даже ученый дарвинист, как Гэксли, не догадывался, что общество, вместо того чтобы быть созданным человеком, существовало задолго до появления человека среди животных. Такова сила укоренившегося предрассудка.
Если проследить историю этого предрассудка, то легко можно заметить, что он черпает свое происхождение в религиях, в церквах. Тайные общества колдунов, вызывателей дождя, шаманов, а позднее ассирийских и египетских жрецов, а еще позднее христианских священников всегда стремились убедить людей, что «мир погряз в грехе»; что только благодетельное вмешательство шамана, колдуна, святого или священника мешает силе зла овладеть человеком; что только они могут умолить злое божество, чтобы оно не насылало на человека всякие несчастия в наказание за его грехи.
Первобытное христианство, несомненно, стремилось ослабить этот предрассудок относительно священника, но христианская церковь, опираясь на слова самих евангелий о «вечном огне», только усилила его. Самая идея о Боге Сыне, пришедшем умереть на земле, чтобы искупить грехи мира, также подтверждает этот взгляд. Именно это-то и позволило впоследствии «святой инквизиции» предавать свои жертвы самым жестоким пыткам и сжиганию на медленном огне – этим она давала им возможность раскаяться, чтобы спастись от вечных мук на том свете. Кроме того, не одна католическая церковь действовала таким образом; все христианские церкви, верные тому же принципу, соперничали между собой в изобретении новых мук или ужасов, чтобы исправить людей, погрязших в «пороке». До сих пор 999 человек из тысячи еще верят, что разные естественные невзгоды – засухи, землетрясения и заразные болезни посылаются свыше неким божеством, чтобы привести грешное человечество на стезю добродетели.
В то же время государство в своих школах и своих университетах поддерживало и продолжает поддерживать ту же веру в естественную испорченность человека. Доказать необходимость какой-то силы, находящейся выше общества и работающей над тем, чтобы вдохнуть нравственный элемент в общество посредством наказаний, налагаемых за нарушение «нравственного закона» (который посредством ловкой передержки отождествляется с писаным законом), убедить людей, что эта власть необходима, – все это вопрос жизни или смерти для государства. Потому что, если люди начнут сомневаться в необходимости насаждения нравственных начал силою власти, они скоро потеряют веру в высокую миссию своих правителей.
Таким образом, все наше воспитание – религиозное, историческое, юридическое и социальное – проникнуто мыслью, что человек, предоставленный самому себе, становится диким зверем. При отсутствии власти люди грызлись бы между собой; от «толпы» нельзя ожидать ничего другого, кроме животности и войны каждого против всех.
Эта человеческая толпа погибла бы, если бы над ней не были избранники: священник, законодатель и судья с своими помощниками – полицейским и палачом. Именно они не допускают всеобщей драки всех против всех; это именно они воспитывают людей в уважении к закону, учат их дисциплине и ведут их твердой рукой к тем грядущим дням, когда лучшие понятия созреют в «ожесточенных сердцах» людей и сделают кнут, тюрьму и виселицу менее необходимыми, чем теперь.
Мы смеемся над тем королем, который, уезжая в изгнание в 1848 г., говорил: «Бедные мои подданные! Они погибнут без меня!» Мы потешаемся над английским купцом, который убежден, что его соотечественники происходят от потерявшегося колена Израилева и что на основании этого судьба предназначила им дать хорошее правительство «низшим расам».
Но разве не то же преувеличенное мнение о себе мы находим в любом другом народе у громадного большинства людей, которые учились «чему-нибудь и как-нибудь»?
Между тем научное изучение развития человеческих обществ и учреждений приводит нас к совершенно другим выводам. Оно нам показывает, что обычаи и приемы, созданные человечеством в целях взаимной помощи, защиты и мира вообще, были выработаны именно «толпой» без имени. И именно эти обычаи позволили человеку, как и существующим в наше время животным видам, выжить в борьбе за существование. Наука показывает нам, что так называемые руководители, герои и законодатели человечества ничего не внесли в течение истории, кроме того, что было уже выработано в обществе обычным правом. Лучшие среди них только дали форму и санкцию этим учреждениям. Но очень многие из этих мнимых благодетелей человечества стремились все время либо уничтожить те из учреждений обычного права, которые мешали образованию личной власти, либо преобразовать их в своих личных интересах или в интересах своей касты.
Уже в самой глубокой древности, теряющейся во мраке ледникового периода, люди жили обществами. И в этих обществах был выработан целый ряд свято соблюдавшихся обычаев и учреждений, чтобы сделать возможной жизнь сообща. Позднее, в течение дальнейшего развития человечества, та же творческая сила безыменной толпы всегда помогала вырабатывать новые формы общественной жизни, взаимной помощи и охраны мира, по мере того как создавались новые условия.
С другой стороны, современная наука показывает с полной очевидностью, что всякий закон, каково бы ни было его предполагаемое происхождение, говорят ли нам, что он исходит от Бога или мудрого законодателя, никогда не делал ничего иного, как только закреплял, кристаллизовывал в постоянную форму или распространял обычаи, уже существовавшие раньше. Все своды законов древности были только собранием обычаев и преданий, записанных или нацарапанных на камне, чтобы сохранить их для следующих поколений. Только делая это, свод законов прибавлял всегда к обычаям, уже принятым всеми, несколько новых правил, сделанных в интересах богатых, вооруженных и воинов, – и этими правилами закреплялись нарождавшиеся обычаи неравенства и порабощения, выгодные для меньшинства.
«Не убий, – гласил, например, закон Моисеев, – не укради, не лжесвидетельствуй». Но к этим прекрасным правилам поведения он прибавлял также: «Не пожелай жены ближнего твоего, ни раба его, ни осла его», – и этим самым узаконял надолго рабство и ставил женщину на один уровень с рабом или вьючным животным. «Люби ближнего твоего» – говорило позднее христианство и тут же спешило прибавить устами апостола Павла: «Рабы да повинуются господам своим» и «Несть власти чаще не от Бога», – узаконяя таким образом, обожествляя разделение на господ и рабов и освящая власть негодяев, царивших тогда в Риме.
Самые Евангелия, проповедуя высшую идею прощения, которая является главною сутью христианства, говорят, однако, все время о боге-мстителе и проповедуют этим месть.
То же самое было в сводах законов так называемых варваров – галлов, лангобардов, германцев, саксонцев, славян – после падения Римской империи. Они узаконили, несомненно, хороший обычай, распространившийся в это время: обычай платить вознаграждение за нанесение раны и убийство, вместо того чтобы практиковать бывший раньше в ходу закон возмездия (око за око, зуб за зуб, рана за рану, смерть за смерть). Таким образом, варварские законы представляли собой прогресс по сравнению с законом возмездия, господствовавшим в родовом быту. Но в то же время они установили также деление свободных людей на классы, которое в эту эпоху намечалось.
Такое-то вознаграждение, говорили эти своды законов, следует платить за раба (оно платилось его господину), такое-то за свободного человека и такое-то за начальника – в этом случае вознаграждение было так велико, что для убийцы обозначало рабство до самой смерти. Первоначальной мыслью этих различий было, без сомнения, то, что семья князя, убитого в драке, теряла в нем гораздо больше, чем семья простого свободного человека в случае смерти своего главы; поэтому она имела право, по тогдашним взглядам, на большее вознаграждение, чем последняя. Но обращая этот обычай в закон, узаконялось этим навсегда деление людей на классы и узаконялось так прочно, что до сих пор мы не можем отделаться от этого.
То же самое мы встречаем в законодательствах всех времен, вплоть до наших дней: притеснение предыдущей эпохи всегда переносится посредством закона на последующие эпохи. Несправедливость Персидской империи передалась Греции; несправедливость Македонии перешла к Риму; насилие и жестокость Римской империи и восточных тираний передались молодым зарождавшимся варварским государствам и христианской церкви. Так налагает прошедшее, посредством закона, свои цепи на будущее.
Все необходимые гарантии для жизни в обществах, все формы общественной жизни в родовом быту, в сельской общине и средневековом городе, все формы отношений между отдельными племенами и позднее между республиками-городами, послужившие впоследствии основанием для международного права, – одним словом, все формы взаимной поддержки и защиты мира, включая сюда суд присяжных, были созданы творческим гением безымянной народной толпы. Между тем как все законы, от самых древних до наших дней, состояли всегда из следующих двух элементов: первый утверждал и закреплял известные обычные формы жизни, признанные всеми полезными, а второй являлся приставкой, часто даже простой, но хитрой манерой выразить словами существующий уже обычай, но эта приставка всегда имела целью насадить или укрепить зарождающуюся власть господина, воина, царька и священника, укрепить и освятить их власть, их авторитет.
Именно к этому нас приводит научное изучение развития обществ, изучение, проделанное в течение последних сорока лет многими добросовестными учеными. Правда, очень часто ученые сами не осмеливались формулировать столь еретические заключения, как приведенные выше. Но вдумчивый читатель придет неизбежно к тому же, читая их работы.
VIII. Положение учения об анархии в современной наукеЕго стремление выработать синтетическое (объемлющее) понимание всего мира. – Его цель
Какое положение занимает анархия в великом умственном движении XIX в.?
Ответ на этот вопрос намечается уже тем, что было сказано в предыдущих главах. Анархия есть миросозерцание, основанное на механическом понимании явлений (лучше было бы сказать кинетическом, так как этим выразилось бы постоянное движение частиц вещества; но это выражение менее известно), охватывающее всю природу, включая сюда и жизнь человеческих обществ. Ее метод исследования – метод естественных наук; этим методом должно быть проверено каждое научное положение. Ее тенденция – основать синтетическую философию, т. е. философию, которая охватывала бы все явления природы, включая сюда и жизнь человеческих обществ, и их экономические, политические и нравственные вопросы, но не впадая, однако, в ошибки, сделанные Контом и Спенсером вследствие вышеуказанных причин.
Очевидно, что анархия поэтому необходимо должна дать на все вопросы, поставленные современной жизнью, другие ответы и занять иную позицию, чем все политические, а также, до известной степени, и социалистические партии, которые еще не отделались от старых метафизических верований.
Конечно, выработка полного механического понятия природы и человеческих обществ едва началась в его социологической части, изучающей жизнь и развитие обществ. Однако то немногое, что было сделано, носит уже – иногда, впрочем, бессознательно – характер, который мы только что указали. В философии права, в теории нравственности, в политической экономии и в изучении истории народов и учреждений анархисты уже доказали, что они не будут довольствоваться метафизическими заключениями, а будут искать естественно-научное обоснование для своих заключений.
Они отказываются подчиняться метафизике Гегеля, Шеллинга или Канта, считаться с комментаторами римского права и церковного права, с учеными профессорами государственного права и с политической экономией метафизиков, – и они стараются отдать себе ясный отчет во всех вопросах, поднятых в этих областях знания, основываясь на массе работ, сделанных в течение этих последних сорока или пятидесяти лет, с точки зрения натуралиста.
Подобно тому как метафизические понятия о «всемирном духе», «созидательной силе природы», «любовном притяжении материи», «воплощении идеи», «цели природы и смысле ее существования», о «непознаваемом», «человечестве», понимаемом в смысле существа, одухотворенного «дуновением духа», и тому подобные понятия отброшены ныне философией материалистической (механической или, скорее, кинетической), а зачатки обобщений, скрывающихся позади этих слов, переводятся на конкретный язык фактов, – так точно мы пробуем поступать, когда обращаемся к фактам общественной жизни.
Когда метафизики желают убедить натуралиста, что умственная и чувственная жизнь человека развивается согласно «имманентным законам духа», натуралист пожимает плечами и продолжает терпеливо заниматься своим изучением жизненных, умственных и чувственных явлений, чтобы доказать, что все они могут быть сведены к физическим и химическим явлениям. Он старается открыть их естественные законы.
Точно так же, когда анархисту говорят, что, согласно Гегелю, всякая эволюция представляет собой «тезис, антитезис и синтезис», или что «право имеет целью водворение справедливости, которая является материальным овеществлением высшей идеи», или когда у него спрашивают, какова, по его мнению, «цель жизни», анархист тоже пожимает плечами и спрашивает себя: «Как это возможно, что, несмотря на современное развитие естественных наук, находятся еще старики, продолжающие верить в эти “жупелы”, и отсталые люди, говорящие языком примитивного дикаря, который “очеловечивал” природу и представлял ее себе как нечто, управляемое существами человеческого вида?»
Анархисты не поддаются таким «звучным словам», потому что знают, что эти слова служат всегда прикрытием или незнания – то есть незаконченного исследования, – или, что еще хуже, суеверия. Поэтому, когда им говорят такие слова, они проходят мимо, не останавливаясь; они продолжают свое изучение общественных понятий и учреждений прошлого и настоящего, следуя естественно-научному методу. И они находят, очевидно, что развитие жизни человеческих обществ в действительности бесконечно сложнее (и интереснее для практических целей), чем можно было бы думать, если судить по этим формулам.
Мы много слышали за последнее время о диалектическом методе, который рекомендуют нам социал-демократы для выработки социалистического идеала. Мы совершенно не признаем этого метода, который также не признается ни одной из естественных наук. Для современного натуралиста этот «диалектический метод» напоминает что-то давно прошедшее, пережитое и, к счастью, давно уже забытое наукой. Ни одно из открытий XIX в. – в механике, астрономии, физике, химии, биологии, психологии, антропологии – не было сделано диалектическим методом. Все они были сделаны единственно-научным индуктивным методом. И так как человек есть часть природы, а его личная и общественная жизнь есть так же явление природы, как и рост цветка или развитие общественной жизни у муравьев и пчел, то нет основания, переходя от цветка к человеку или от поселения бобров к человеческому городу, оставлять метод, который до сих пор так хорошо служил нам, и искать другой в арсенале метафизики.
Индуктивный метод, употребляемый нами в естественных науках, так хорошо доказал свою силу, что XIX век мог двинуть науки в течение ста лет больше, чем они подвинулись в течение двух предыдущих тысячелетий. И когда во второй половине XIX в. его начали прилагать к изучению человеческих обществ, то нигде не встретилось ни одного пункта, где было бы необходимо отбросить его и вернуться к средневековой схоластике, возрожденной Гегелем. Более того. Когда натуралисты, платя дань своему буржуазному воспитанию, желали учить нас, основываясь якобы на научном методе дарвинизма, и говорили: «Дави всякого, кто слабее тебя: таков закон природы», – то нам было легко доказать при помощи того же научного метода, что эти ученые шли по ложному пути; что такого закона не существует; что природа учит нас совершенно другому и что подобные заключения ни с какой стороны не научны. То же самое можно сказать про утверждение, которое желало бы заставить нас поверить, что неравенство имуществ есть «закон природы» и что капиталистическая эксплуатация представляет собой самую выгодную форму общественной организации. Именно приложение метода естественных наук к экономическим фактам и позволяет нам доказать, что так называемые «законы» буржуазных общественных наук – включая сюда и политическую экономию, – вовсе не законы, а простые утверждения или даже предположения, которые никогда не проверялись на практике.
Прибавим еще несколько слов. Научное исследование бывает плодотворно только при условии, что оно имеет определенную цель, и только тогда, когда оно предпринято с намерением найти ответ на определенный, точно поставленный вопрос. Каждое исследование тем более плодотворно, чем яснее понимаются отношения, существующие между поставленным к разрешению вопросом и основными линиями нашего миросозерцания. Чем лучше этот вопрос входит в наше миросозерцание, тем легче его разрешить.
И вот вопрос, который ставит себе анархия, мог бы быть выражен следующими словами: «Какие общественные формы лучше обеспечивают в данном обществе и, следовательно, в человечестве вообще наибольшую сумму счастья, а потому и наибольшую сумму жизненности?» – «Какие формы общества позволяют лучше этой сумме счастья расти и развиваться качественно и количественно; то есть позволяют счастью стать более полным и более общим?» Это, между прочим, дает нам и формулу прогресса. Желание помочь эволюции в этом направлении определяет характер общественной, научной, артистической и т. д. деятельности анархиста.
IX. Анархический идеалЕго происхождение. – Предшествующие революции. – Как он вырабатывается естественно-научным методом
Анархия, как мы уже сказали, родилась из указаний практической жизни.
Годвин, современник Великой революции 1789–1793 гг., видел своими собственными глазами, как правительственная власть, созданная во время Революции и силами Революции, сделалась в свою очередь препятствием к развитию революционного движения. Он знал также то, что происходило в Англии под прикрытием парламента: грабеж общинных земель, продажа выгодных правительственных должностей, охота на детей бедняков, которые отнимались специальными агентами, разъезжавшими для этого по Англии, и посылались на фабрики в Ланкашир, где они гибли массами; и так далее. Годвин понял, что правительство, будь это даже правительство «Единой и Нераздельной Республики» якобинцев, никогда не сможет совершить необходимую революцию социальную, коммунистическую революцию; что даже революционное правительство уже по одному тому, что оно является охранителем государства и привилегий, которое всякое правительство должно защищать, само становится скоро препятствием для революции. Он понял и высказал основную анархическую мысль, что для торжества революции люди должны прежде всего отделаться от своих верований в закон, власть, порядок, собственность и другие суеверия, унаследованные ими от рабского прошлого.
Второй теоретик анархии, пришедший после Годвина, – Прудон пережил неудавшуюся революцию 1848 г. Он также видел своими глазами преступления, совершенные республиканским правительством, и в то же время он мог убедиться в бессилии государственного социализма Луи Блана. Под свежим еще впечатлением того, что он пережил во время движения 1848 г., он написал свою «Общую идею революции», где смело провозгласил уничтожение государства и анархию.
Наконец, в Интернационале анархическая идея созрела также после революции, то есть после Парижской Коммуны 1871 г. Полное революционное бессилие совета Коммуны, который имел, однако, в своей среде в справедливой пропорции представителей всех революционных фракций того времени (якобинцев, бланкистов и интернационалистов), а также неспособность Генерального совета Интернационала, заседавшего в Лондоне, и его столь же нелепые, сколько вредные претензии управлять парижским движением посредством приказов, посылаемых из Англии, – эти два урока открыли глаза многим. Они заставили многих членов Интернационала, считая в том числе Бакунина, задуматься над злом всякой власти, даже если она избрана свободно, как это было в Коммуне и в рабочем Интернационале.
Несколько месяцев спустя решение Генерального совета Интернационала, принятое на тайной конференции, созванной в Лондоне в 1871 г. вместо ежегодного конгресса, сделало еще более очевидным неудобство правительства в Международном союзе рабочих. После этой несчастной резолюции силы рабочего союза, до сих пор направлявшиеся на экономически-революционную борьбу, на прямую, открытую борьбу рабочих союзов против капитализма хозяев, были брошены в политическое, избирательное и парламентарное движение, где они могли только обесцветиться, распылиться и погибнуть.
Это решение вызвало открытое восстание латинских федераций – Испанской, Итальянской, Юрской и отчасти Бельгийской – против Генерального Лондонского совета (во Франции Интернационал был строго запрещен), и с этого восстания начинается анархическое движение, которое продолжается до наших дней.
Таким образом, анархическое движение начиналось каждый раз под впечатлением какого-нибудь большого практического урока. Оно зарождалось из уроков самой жизни. Но раз начавшись, оно стремилось также немедленно найти свое теоретическое, научное выражение и обоснование – научное не в том смысле, чтобы усвоить себе непонятный большинству язык, и не в смысле обращения к отвлеченной метафизике, а в том смысле, что оно находило свое обоснование в естественных науках данного времени и само становилось одной из отраслей естественных наук.
В то же время анархисты работали над развитием своего идеала: своего понимания будущего строя жизни.
Никакая борьба не может иметь успеха, если она остается бессознательной, если она не отдает себе конкретного, реального отчета в своих целях. Никакое разрушение существующего невозможно без того, чтобы уже в момент разрушения и борьбы, ведущей к разрушению, люди не представляли себе в уме, что займет место того, что желают разрушить. Невозможно даже теоретически критиковать существующее, не рисуя уже себе в уме более или менее определенный образ того, что желают видеть на месте существующего. Сознательно или бессознательно идеал – понятие о лучшем – рисуется в уме каждого, кто критикует существующие учреждения.
Это особенно относится к человеку действия. Сказать людям: «Давайте сначала разрушим капитализм или самодержавие, а потом мы увидим, что поставить на их место», – значило бы просто обманывать себя и других. Но силы нельзя создать обманом. И действительно, даже тот, кто говорит таким образом, имеет какое-нибудь представление о том, что он желал бы увидеть на месте того, на что он нападает. Так, например, работая над разрушением в России самодержавия, одни рисуют себе в близком будущем конституцию на английский или немецкий лад. Другие мечтают о республике, подчиненной, может быть, могучей диктатуре их партии, о монархической республике, как во Франции, или о федеративной республике, как в Соединенных Штатах Америки. Наконец, другие думают об еще большем ограничении власти государства – о еще большей свободе городов, коммун, рабочих союзов и всяких групп, соединившихся между собой федеральными узами.
Точно так же каждый, кто нападает на капитализм, имеет какое-нибудь определенное или неясное представление о том, что он желал бы видеть на месте существующего буржуазного капитализма: государственный капитализм, или какой-нибудь род государственного коммунизма по плану Бабефа, или, наконец, федерацию более или менее коммунистических ассоциаций для производства, обмена и потребления того, что они доставляют из земли, или того, что они производят в промышленности.
Каждая партия имеет, таким образом, свое представление о будущем, свой идеал, который помогает ей судить обо всех фактах политической и экономической жизни народов, а также и находить способы действия, которые подходят к ее идеалу и позволят ей лучше идти к своей цели.
Вполне естественно, что, хотя анархия родилась среди каждодневной борьбы, она также работала над выработкой своего идеала; и этот идеал, эта цель, эти стремления скоро отделили анархистов в их способах действия от всех других политических партий, а также, в большинстве случаев, от социалистических партий, которые верили в возможность удержать старинный римско-церковный идеал государства и перенести его в будущее общество своих мечтаний.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































