Текст книги "Пушкин и тайны русской культуры"
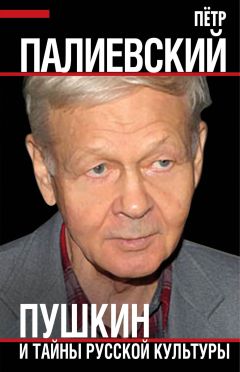
Автор книги: Пётр Палиевский
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Пушкин и движение европейского сознания
Если расположить на карте Европы национальных гениев её литератур и проставить даты их жизни, получится картина странного движения. Оно опоясывает границы континента каким-то прерывистым ходом по часовой стрелке. Начинается на юго-востоке в Греции (VII в. до н. э.,Гомер), идёт дальше южной границей на запад через Рим (I в. до н. э.,Вергилий и Гораций), где приостанавливается до появления Данте (конец XIII – начало XIV в.); движется дальше к Португалии (XVI в. Камоэнс), Испании (Сервантес, конец XVI – начало XVII в.), поднимается на север к Англии (Шекспир, конец XVI – начало XVII в.), поворачивает снова на восток через Францию (Корнель, Расин, Мольер – XVII в.), Германию (Гёте, XVIII – начало XIX в.) и завершается в России (начало XIX в. Пушкин). На небосклоне мировой поэзии зажигаются светила, складываясь – то ли в виде неровного эллипса, повёрнутого в сторону Азии, то ли началом развёртывающейся спирали – в одно европейское созвездие, Большую Плеяду.
Пушкин является в ней последним. Он как бы замыкает движение, возвращает его классической Греции. Через него просматривается известная дорога «из варяг в греки»; он даже проделывает её заново сам, добираясь из Петербурга в крымский Гурзуф (первоначальное греческое название Крисифина, т. е. «Прекрасная»). В нём европейское духовное пространство выходит на свой крайний восточный предел, заканчивает формирование.
Установившиеся на его рубежах звёзды светят теперь единым светом. Это константы единого высшего, расположенного для всех. Они раскрывают смысл движения, позволяют видеть, по крайней мере в пределах Европы, что передавалось друг другу, возобновлялось, раздвигало горизонт. Они же дают понять, что движение не прекращалось никогда, только меняло формы. Внутри – заставляло прокладывать своим умом ту же дорогу, искать ориентиры, принимать в сообщество светила новые, пусть не столь крупные, но просветляющие вместе с ними жизнь; вовне – выводило к созвездиям иным и далёким, к их представлениям о мировом развитии.
При этом мы не можем, конечно, забывать, что в реальной истории, т. е. на освещаемой звёздами земле, движение шло не без больших трудностей. Представления о том, что относить и к Европе, а что к недостойной её дикости, многократно и в тяжёлом опыте менялись. Так, византийцы, первые в христианском мире поднявшиеся к высотам культуры, вплоть до XII века именовали народы Запада «тёмными и бродячими племенами»; из Франции мы не раз слышали голоса, что Европа, собственно, кончается за Рейном; в Англии было изобретено, и не без основания, понятие «островитян», мало склонных подчинять свой интерес каким-то общим целям, а в Германии, как мы хорошо знаем, были достаточно распространены стремления рассматривать себя как европейский форпост против славянского вообще и русского в частности варварства. Там даже не успели заметить, что те же настроения переместились из Европы за океан, и известный Теодор Рузвельт писал своему другу, английскому дипломату Сесилю Райсу, что русские «настолько же ниже немцев, насколько немцы – нас».
Великие поэты эти представления преодолевали. Они, как мы понимаем теперь, были призваны к тому, чтобы разделённые силы на общую высоту поднять. Но в приграничном положении Пушкина была и добавочная сложность. Европейское сознание разворачивалось в нём в общение с чем-то явно не европейским, мало того – внутри самого европейского круга обнаруживало разошедшиеся из единого центра начала. Задумавшись над этим в зрелом возрасте, Пушкин написал: «Поймите же и то, что Россия никогда ничего не имела общего с остальною Европою; что история её требует другой мысли, другой формулы, как мысли и формулы, выведенные Гизотом из истории христианского Запада». То есть Россия, по его убеждению, к «остальной» Европе безусловно принадлежит, а с другой – христианство её иное, восточное, и опыт истории, нуждающийся в осмыслении, иной. Трудность открылась ещё и в том, что сам Пушкин, воплощая «формулу России», удерживает эти расстояния в себе слитно, превращёнными в одно лицо, и понять их одно без другого оказывается невозможным, как о том с исключительной проницательностью сказал Адам Мицкевич: «Ни одной стране не дано, чтобы в ней больше, нежели один раз, мог появиться человек, сочетающий в себе столь выдающиеся и столь разнообразные способности, которые, казалось бы, должны были исключать друг друга».
Если отдавать себе отчёт в характере и размерах этих противостояний, нужно признать вполне естественным и объективным нескорое вхождение Пушкина в европейское сознание, особенно на Западе. Задачи такого рода решаются не вдруг. Мы помним, как долго во Франции, вплоть до XVIII века, не принимался Шекспир, едкую критику его Вольтером; лишь Гёте и немецкие романтики сделали его общим достоянием. У Пушкина несомненным барьером для европейцев встал и русский язык, который никогда не получал в Европе живого распространения, подобно французскому, немецкому или в наши дни американскому варианту английского (употребляемому, правда, больше в деловом и бытовом, чем в культурном общении).
Между тем Пушкин в высшей степени поэт, он поэт и когда пишет прозу. Слова совершенно растворены у него в жизни образа и говорят оттенками, «щелями», сочетаниями, пробуждёнными из застылых форм, бесконечно больше, чем прямая речь. В прямом переложении их на значения другого языка всё это мгновенно исчезает. «Il est plat,votre poete» – говорил Флобер Тургеневу о попытках последнего донести до своего французского друга содержание пушкинского стиха. Сделать это должен был бы равновеликий французский поэт, а время таких централизующих национальное сознание классиков на Западе было далеко позади. Пушкин и Мицкевич хорошо понимали и переводили друг друга, чему помогало, конечно, ещё не утерянное для уха родство славянских языков. Расслышать подобную близость в звучащих корнях романо-германских наречий было намного труднее, и достигалось скорее умозрением.
Мешала и мешает переводу до сих пор чрезвычайная краткость Пушкина. Его суждения, как правило, брошены мимоходом, не выделены, не выставлены наперёд; они освещаются общей мыслью и лишь очень редко выдают, что за ними стоят целые будущие направления. Например, говоря в заметках по русской истории XVIII века о том, как гнала Екатерина духовенство, Пушкин замечает: «Жаль! ибо греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, даёт нам особенный национальный характер». Понадобилось не менее полувека, деятельность учёных монахов по переводу византийских источников в религиозном центре Оптина пустынь, усилия философов И. Киреевского, А. Хомякова и других, чтобы направление так называемых «славянофилов» выдвинуло основой национальной идеи русских принадлежность к православию. 23-летний Пушкин высказал это между прочим и одной фразой.
Или международный пример того же рода – пушкинская статья 1836 г. о Джоне Теннере (John Tanner). Пушкин высказал в ней опасения по поводу перенесения в Новый Свет, т. е. в Америку, меркантильной цивилизации и беспрепятственного расцвета там этих отношений. Его формула-определение происходящего прозвучала так: «Всё благородное, бескорыстное, всё возвышающее душу человеческую, подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (comfort)». Слово comfort он поставил в скобках и написал его ради ясности значения по-французски. И вот в XX веке мы прочли в трудах философа Макса Вебера подробное обоснование понятия «комфорт» как главной характеристики протестантской этики, перенесённой в Америку. В современной России вы можете встретить его употребление в сугубо положительном, даже восторженном смысле. У Пушкина – мимолётный штрих.
Всё это, разумеется, не означает, что Пушкин отрезан от западной части Европы, что он туда не проникает, не доходит, не участвует в общем развитии. Он участвует, и деятельность филологов высокого класса или лично увлечённых Пушкиным писателей, таких, как Проспер Мериме, приносит свои благодарные плоды. Необходимо только сознавать, что формы этого участия сообразно срокам могут быть неявными, рассредоточенными, использующими непредусмотренные возможности.
Так можно заметить, что Пушкин давно и прочно действует в Европе через своих последователей. Его сжатые формулы питают изнутри достижения, завоёвывающие признание.
Например, получивший мировую славу роман «Преступление и наказание». Одержимый наполеоновской идеей студент Раскольников совершает в нём теоретическое, умышленное убийство «из принципа» и терпит нравственное крушение. Между тем задолго до студента у Пушкина в «Пиковой даме» её главный персонаж Германн, если вспомнить, подчёркнуто «похожий на Наполеона», убил свою старуху и перешагнул через свою Лизу. И Пушкин первый сказал в своём центральном произведении «Евгений Онегин»: «Мы все глядим в Наполеоны, двуногих тварей миллионы». Эпиграф к этому роману и его содержание, поэма «Цыганы», многое иное было сосредоточено вокруг «чувства превосходства, быть может мнимого». Правда, без идеологических обоснований и духовных катастроф Достоевского.
Или другой не менее известный в мире русский роман – «Анна Каренина». Мало кто различает, что этот роман, в котором, как говорил Толстой, он «любил мысль семейную», есть отрицательный вариант пушкинской Татьяны из «Евгения Онегина», попытка ответить на вопрос, что бы было, если бы она покинула своего генерала. В пушкинском романе она, как известно, сделать это отказалась. Замечательно, что Толстому, несмотря на весь его художественный гений, не удалось убедить в своём замысле миллионы читателей, в том числе зарубежных. Он поставил к книге устрашающий эпиграф: «Мне отмщение и аз воздам» (Рим; 12, 19. Вт. 32, 35), что означало, что небеса сами отомстят за поругание семейного очага. Большинство читателей перешло, однако, на сторону Анны. Когда американцы создали по роману фильм со знаменитой Гретой Гарбо в главной роли, волна возмущения зрителей её самоубийством оказалась такой неудержимой, что пришлось срочно придумывать новый хеппи-энд. Только Пушкин всем обликом Татьяны и её ответом Онегину «Я другому отдана и буду век ему верна» остался единственно и неопровержимо убедительным. Окончание его романа образовало скрытый двигатель проблемы, кто бы и когда бы к ней в России ни обращался.
Критика последних лет обнаружила, что ещё больше служат продвижению Пушкина на Запад другие виды искусств, прежде всего музыка. Таков, например, «Борис Годунов» Мусоргского, в котором слышна мощная стихия народного движения, впервые открытая Пушкиным для исторической драмы. Она стала различимой в мире уже с начала XX века благодаря русским музыкальным сезонам в Париже и международной славе Шаляпина. Тем не менее её подлинным автором, обычно не называемым, остаётся Пушкин.
Без малейшего преувеличения можно сказать, что Пушкин звучит и там, где нет его прямых слов. Вслушайтесь в одного из величайших музыкальных выразителей стихии моря – Н.А. Римского-Корсакова. Он был морской офицер, участвовал в плавании к берегам Америки и как никто умел передать симфоническими средствами волнение или тишину океана, например, в любимой всеми дирижёрами и использующей арабский сюжет «Шехерезаде». На стихи Пушкина у него известно множество романсов и три оперы. В одной из них, «Сказке о царе Салтане», есть оркестровая картина, которая слово в слово, звук в звук воспроизводит пушкинский стих. Слушатель может о нём и не знать, но полностью воспринимать пушкинский образ:
В синем небе звёзды блещут,
В синем море волны хлещут,
Туча по небу идёт,
Бочка по морю плывёт…
Наконец, в поэзии Пушкина заключён ряд идей, которые на западе Европы могут восприниматься с трудом, казаться странными, а у части влиятельных кругов и неприемлемыми. О них нужно говорить открыто и не бояться их обсуждать, потому что они являются европейскими и, может быть, выводят из самообособления – к общему благу – европейские ценности.
В 1835 г. Пушкин записал на листке, вложенном в книгу, подаренную ему австрийским послом: «Освобождение Европы придёт из России, потому что только там совершенно не существует предрассудков аристократии. В других странах верят в аристократию, одни презирая её, другие ненавидя, третьи, из выгоды, тщеславия и т. д. В России ничего подобного. В неё не верят».
В литературе это означало необходимость заглянуть дальше миропонимания «отца нашего Шекспира», как называл его Пушкин. К тому времени Шекспир достиг высшего признания и был принят в России как первый авторитет. Но в необходимом развитии его идей ощущалось некоторое препятствие.
Идеал Шекспира оставался аристократическим. Всё благородное, достойное человека связывалось с господствующим слоем. Прощальная пьеса Шекспира «Буря» (1612) полна глубокого разочарования в обитателях подножия пирамид. Князь и властитель острова, взятого в управление высшим знанием, Просперо, не в состоянии поднять к своему уровню первоначального владельца, дикого Калибана. «Все мои усилия, самые гуманные, все, все провалились, провалились совершенно». Калибан завистлив, нагл, мечтает овладеть дочерью князя, готов лизать ботинок всякому, кто обещает вернуть ему остров, предлагает сжечь ненавистные книги, а попытки обучить его языку вызывают в нём поток неистовой брани. Жестокие уроки ставят его на место.
Взгляд сверху вниз, да ещё отстаиваемый любой ценой, казался самим собой разумеющимся, предустановленным. Некоторые литераторы так называемого «третьего мира» находили возможным даже и в XX веке обсуждать своё зависимое и неравноправное положение в понятиях Просперо – Калибан10. Интересно, что жертвой этих представлений стал сам Шекспир, которого объявили несуществующим за то, что его пьесы не мог написать сын кожевенника и необразованный актёр.
Но вот Гоголь, пытаясь разгадать притягательность пушкинской «Капитанской дочки», написал: «Чистота и безыскуственность взошли в ней на такую высокую степень, что сама действительность кажется перед нею искусственной и карикатурной… простой комендант крепости, капитанша, поручик; сама крепость с единственной пушкой, бестолковщина времени и простое величие простых людей, всё – не только самая правда, но ещё как бы лучше её».
«Простое величие простых людей» было точным обозначением поворота, который совершал, ничего не говоря о нём, Пушкин.
Для самого Гоголя он стал принципиальным. Исследователи возводят имя Акакий (Незлобивый) из его «Шинели» к Св. Акакию, одному из мучеников, чтимых православием. Но не менее важным было то, что «акакием» именовался мешочек пыли, который держал в руке при коронации (символ бренности, ничтожности земного) византийский император. Гоголь, не забудем, был ещё и историком, увлекавшимся Средними веками. Есть и в человеческой пыли душа, которая повыше пирамид, – явилось его открытием, поразившим изверившихся.
Пушкин дал русским писателям этот взгляд снизу вверх и идею роста, развития снизу вверх, а не привычного захвата верхов, подавления и диктата «просвещением». За ним пошли: Толстой, говоривший Чехову: «Вот я позволял себе критиковать Шекспира» (по тем же соображениям), Достоевский, Некрасов, Салтыков-Щедрин…
Русская литература была в этом повороте, без сомнения, не единственной. Встречные идеи шли с середины XIX века из Франции, Германии, славянских стран, из Америки (например, «Принц и нищий» Марка Твена). Внимательный взгляд мог различить как мягко, но уверенно скорректировал своего национального гения Бернард Шоу в знаменитом «Пигмалионе», где новый Просперо берётся преобразить существо, подобное Калибану, «несообразное в облике и манерах», обучает его, как Просперо Калибана, языку и вдруг оказывается ниже своего создания. Настоящим «освобождённым и оправданным Калибаном» явился Швейк, объявленный идиотом на медицинской комиссии.
Но вывели идею из исторического плена и дали ей неостановимый ход наследники Пушкина. Когда на медицинской комиссии в «Тихом Доне», типа той, что высмеял Гашек, решили: не брать Григория Мелехова в гвардию. «Рожа бандитская… очень дик… Переродок! С Востока, наверное… Нельзя-а. Вообразите, увидит Государь такую рожу», – скоро выяснилось, что этот «переродок» оказался носителем единой правды среди слепо противостоящих друг другу сил, а о размножившихся, измельчавших Просперо он высказался так: «Спутали нас учёные люди… господа спутали. Стреножили жизню, и нашими руками вершают свои дела».
В природе пушкинского дара есть ещё одна черта, не находящая до сих пор объяснения, но немаловажная для нужд развития. Известно изречение Екклесиаста: «Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь» (1, 18). Сколько раз оно подтверждалось. У Пушкина всё наоборот. Чем глубже его мудрость, тем она светлее. Ему принадлежат слова: «Говорят, что несчастье хорошая школа. Может быть. Но счастие есть лучший университет». Его произведения дышат счастьем, несмотря на многие несчастья, в них изображённые; несмотря на то, что нередко они кончаются весьма печально. В его юношеской поэме «Руслан и Людмила» седовласый Финн, кудесник, говорит: «И тайну страшную природы я светлой мыслию постиг». У Пушкина она ничуть не страшна, хотя не раз и не два проваливается в гибельные бездны. Возможно, что русская литература, которая последней из европейских литератур достигла классической высоты, стремилась сделать этим некоторые выводы из общих усилий, наметив новые дороги. Достоевский говорил: «Шекспир – поэт отчаяния». Величие его не вызывало сомнений. Но хотя английская критика, и особенно в XX веке (Раймонд Чемберс и др.), доказала, что горизонт Шекспира с годами светлеет, общее впечатление от его мира оставалось безысходно трагическим. Знаменитый русский актёр XIX века Мочалов, играя Гамлета, произносил фразу, потрясавшую современников, – хотя в пьесе её не было и переводчик вставил её туда как общий вывод и стон: «За человека страшно!» Картина мира была правдивой, но для развивающейся жизни всё-таки неполной. Поднимающееся русское сознание не вполне удовлетворял и её немецкий героический вариант.
Но чем питается пушкинская радость, из каких глубин набирает силу, осталось загадочным. Предлагаемые объяснения обычно подвёрстывают Пушкина под какое-либо излюбленное истолкователю направление (например, «прогрессивное») и, как правило, не достаточны. Большинство склоняется к тому, что прав был Достоевский: «Пушкин унёс с собой некоторую тайну, и вот мы её разгадываем».
Гёте и Пушкин
Юбилеи Гете (250 лет) и Пушкина (200 лет) в этом году совпали, к чему добавился Бальзак (тоже 200), что можно понимать как знак, что они хотят что-то сказать друг другу, а возможно, и нам. Во всяком случае, не воспользоваться этим поводом, чтобы взглянуть снова на оставленные ими позади вопросы, было бы большим упущением.
Среди них есть один частный, но немаловажный, именно – о неудачной, несбывшейся судьбе в России «Лесного царя» («Erlkonig») Гете. Это произведение – едва ли не главный после «Фауста» символ Гете; из стихотворений безусловно первый; оно всплывает в памяти вместе с именем Гете сразу и везде, подобно «чудному мгновенью» Пушкина. Гете написал его в состоянии высшей зрелости в 1782 году для «зингшпиля», то есть сопровождаемой песнями пьесы «Рыбачка». Ему было 33 года; он переходил как раз от «бури и натиска» юности к строгой классике, и его поэзия удерживала достоинства обоих направлений. Свежесть взгляда совершенно совпала в нем с глубиной мысли.
В России стихотворение стало известно по переводу В.А.Жуковского (1818). Оно включилось в перечень его переводческих заслуг, свидетельства дани Гете, и стало неизменно поминаться в этом качестве критиками, литераторами и историками литературы. Но оно никогда не превращалось в факт русского сознания, не западало в душу, не переживалось и не становилось родным, подобно многим иным переводным стихотворениям, которые нетрудно назвать (например, «Вечерние колокола» Томаса Мура, перешедшие через И.Козлова в наш «Вечерний звон», 1827).
В статье 1933 года «Два Лесных царя» Марина Цветаева показала, что стихотворения Гете и Жуковского разные. Если поэты XX века далеко не всегда могут претендовать на заявленные ими места, то в зоркости наблюдений над поэзией им отказать невозможно. Цветаева составила точный подстрочник «Erlkonig" a и доказала, что поэтический дух, смысл произведения Жуковского иной, вплоть до самого образа «царя», который у Гете «неопределенное-неопределимое! – неизвестно какого возраста, без возраста… хвостатое существо», «демон», а у Жуковского чуть не величественный старик «в темной короне, с густой бородой».
К этому многое можно было бы добавить. Начиная с первых же строк, например: откуда «сын молодой»? Как может ребенок, удерживаемый на луке седла, быть «молодым»? У Гете – дитя, «das Kind», самое дорогое, что хочет человек передать в жизнь; его отбирают. Почему «под хладною мглой», что это за нависшая сырость? У Гете не «под», а «сквозь», и не туман, а «ветер и ночь», «durch Nacht und Wind»; и не «запоздалый», как будто человек нарушил какие-то обязывающие его сроки, а «так поздно», ночью, «so spat»; и не «ездок», а «отец», – отец и сын, чтобы сразу стало понятно, какая пришла беда.
Но главное не в замененных деталях. Их можно было, в конце концов, выбрать по-своему и восстановить исходное настроение. Нет того первозданного ужаса, которым дышит стихотворение Гете, который поднят его поэзией из праисторических глубин. Нет приближения неотвратимой смерти, которую человек хочет отбить, проскочить мимо, но только спешит ей навстречу. Строй и образ стиха Гете ведут туда неостановимо, и последние слова звучат как абсолютная точка, не подлежащий обжалованию приговор, конец: «das Kind war tot». Удар этот проставлен так сильно, что, кажется, его не смог бы передать и буквальный перевод, «был мертв», – настолько он безжалостен и необратим. Для не знающих немецкого языка впечатление о нем может дать романс Шуберта, созданный еще при жизни Гете (1815) на те же слова, где нарастающая тревога обрывается в конце в пустой провал. Ничего этого у Жуковского нет. Его завершающие строки сообщают нечто повествовательно и мирно о несчастье, которое со всяким может произойти, и выглядит неким добрым предостережением, напоминанием о тщете мирской перед лицом неведомого промысла. Мысль оригинала не только утеряна, она как бы не предполагалась.
Неудача Жуковского, вообще говоря, удивительна. Что он поэт, Богом данный, лучше, чем кто-либо у нас, умеющий донести дух чужого подлинника, и особенно из Германии, установлено незыблемо. Его «Дети, овсяный кисель на столе» (1816) из Гебеля вошли в русский семейный быт. Его «Ночной смотр» (1836) из Цейдлица с таким неподдельным чувством передал трагедию Наполеона, что престарелый поэт И.И. Дмитриев писал Пушкину: «Знает ли Василий Андреевич, что он на Ночном смотре получил одинаковое вдохновение с каким-то Зейдлицом? Сообщаю Вам перевод стихотворения Зейдлица», – и мысли не возникало, что это не русское сочинение. Пушкин, сразу оценивший достижение учителя, помещает его в «Современнике» (№ 1); М.И.Глинка при первом же ознакомлении с ним у Жуковского создает «к вечеру» великий романс, а Ф.И.Шаляпин возвращает Европе эту немецкую романтику о Франции в чисто русском исполнении. А вот «Лесной царь» оказался для него недосягаемым и в России не услышанным. Другие переводы (проф. К.-Д.Зееманн из Берлинского Свободного университета в специальном докладе насчитал их девять и тщательно проанализировал) улучшить положение, увы, не смогли. Все они напоминают не более чем золотоносный песок, в котором мерцают какие-то крупицы мысли Гете, – у Жуковского, конечно, чаще других, – например, самое начало «Кто скачет, кто мчится…» или «ветлы седые», – но от цельно отлитой фигуры поэзии в них нет даже очертаний.
В то же время мы знаем, что совершенными переводами Гете в России не обижен. Их поют в романсах (например, «Нет, только тот, кто знал» Чайковского, о котором дикторы вполне обоснованно говорят, но он написан «на слова Льва Мея», переводившего «Nur wer die Sehnsucht kennt… Weiss, was ich leide»); их повторяют про себя в подходящую минуту, не задумываясь над происхождением, поколения людей. В одном случае они стали даже русской классикой и переместились дальше на восток. Это, конечно, «Горные вершины» Лермонтова («Из Гете»). Идеальная торжественная красота покоя, безупречно найденная замена слов, где они не укладывались в русский размер (у Гете: «ни одно дыхание не колышет верхушки растений, птицы молчат в лесу», у Лермонтова: «не пылит дорога, не дрожат листы»), свободно и полно, ничего не теряя, воспроизводят в русском сознании оригинал. Стихотворение получило 94 (!) русских музыкальных переложения, – среди них у Рубинштейна, Танеева, В.Калинникова, Ляпунова, Ребикова, Асафьева, Шебалина… И с ним как будто протянулась радуга от Альпийских лугов к Тянь-Шаню. Пораженный «свежей мглой долин», казахский классик Абай Кунабаев воспроизвел эту картину на своем языке, и вот уже в 1944 году является опера «Абай» А.Жубанова и Л.Хамиди, которую венчает хор на те же слова, ставшие своими, о своих горных вершинах, звучащие как национальный гимн.
Вполне возможно, что движение мысли Гете в этом направлении, к величайшим пикам Земли, мог обеспечить лишь уникальный «надмирный» талант Лермонтова. Если предположить, что Пушкин взял бы себе что-либо для перевода из Гете, оно могло бы, кажется, пойти другой дорогой, скорее на юго-восток, «к Гафизу», как намечал гетевский «западно-восточный диван». Косвенные свидетельства это подтверждают. Одна из немногих строк Гете, процитированных Пушкиным, и единственно оставленная им для себя в эпиграфе, – Kennst du das Land («Ты знаешь край», песня Миньоны) – устремлена на юг. Следуя за ней, мы могли бы обнаружить, что и само стихотворение Гете было переложено Пушкиным по ведущим мотивам в русский вариант, подобно «Горным вершинам» Лермонтова; только произошло это шестью годами раньше цитированной строки и без выведения ее в эпиграф. В.М.Жирмунский подметил, что в рукописи цитаты допущена ошибка – «konnst» вместо «kennst» (если обратно перевести на русский, было бы «ты смог бы… край»), откуда можно понять, что Пушкин в 1828 году приводит эту строчку по памяти. Однако то, что память его удерживала в 1821 году гетевское стихотворение очень прочно, сомнению не подлежит. Для этого нужно лишь перечитать вместе песню Миньоны (1782 г., как и «Erlkonig») и пушкинское стихотворение, печатавшееся иногда под названием «Желание» (1821). Бросающееся в глаза сходство первых слов и настроения литераторы услышали давно, но сравните текст:
Гете —
Kennst du das Land, wo die Zitronen bluhn,
Im dunklen Laub die Goldorangen gluhn,
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht,
Kennst du es wohl? Dahin! Dahin
Mochtlich mit dir, о mein Geliebter, ziehn.
(Ты знаешь край, где цветут лимоны, / В темной листве переливаются золотые апельсины, / Мягкий ветер веет с голубых небес, / Недвижен (тих) мирт и высоко стоит лавр. / Знаешь ли ты, слышишь ли ты это душой? / Туда, туда желала бы унестись я с тобой, / О мой любимый, туда!)
Пушкин —
Кто видел край, где роскошью природы
Оживлены дубравы и луга,
Где весело шумят и блещут воды
И мирные ласкают берега,
Где на холмы под лавровые своды
Не смеют лечь угрюмые снега?
Скажите мне: кто видел край прелестный,
Где я любил, изгнанник неизвестный.
Пушкин сохраняет даже строение гетевской строфы, ее повторяющийся вопрос-восклицание: «Ты знаешь край… Знаешь ли ты, слышишь ли ты это душой…» – «Кто видел край… Скажите мне, кто видел край прелестный», – даже сдвоенную рифму окончания: «Dahin! Dahin – о, mein Geliebter, ziehn» – «прелестный-неизвестный», а призыв Миньоны к «любимому» (Geliebter) точно соотносится с «где я любил», как «высоко стоящий лавр» с высоко (именно) расположенными «лавровыми сводами».
Дальше Пушкин свободно переносит в свой образ знаменитый «Dahin» (туда! туда…) – «К тебе летят желания мои», и «мирт», который, правда, у него не «тих», а, напротив, «шумит над падшей урной», и «ясные, как радость, небеса», которые он наблюдает подобно золотым апельсинам Гете «в темной листве» – «сквозь темные леса», и «скал прибрежные стремнины», и «вод веселые струи» (у Гете, переводя буквально, «низвергается скала и через нее поток» – «Es stiirzt der Fels und liber ihn die Rut»).
Объясняется это, конечно, тем, что Крым был для него тем же, что для Гете Италия, – внезапно открывшимся счастьем юга, и набегавшие один за другим образы не принимались за заимствования, были общим переживанием.
Но так или иначе, укоренение в России идей Гете, этого, по словам Федора Глинки, «нежного друга чувствительных сердец», переложение их во «всяк сущий в ней язык» знает многие примеры; общение умов поддерживает их. И только темный великий «Erlkonig» не присутствует в этом ряду. Он не находит ни продолжений, ни соответствий; что-то останавливает, отводит от него встречный взгляд, а переводы соскальзывают с ядра, уводя в сторону.
Опыт Жуковского, поэта подлинного, с европейским кругозором, доказал, что причина лежит глубже личного таланта. Обращения к «Erlkonig» иноязычной культуры наталкивались на пласты древнего народного сознания, не совпадавшие с другими. Нелегко было разглядеть их сквозь влиятельные «течения дня». Они требовали для своего понимания либо подчинения, слияния с ними, либо ответа – развития в общей истине. Задача, едва ли готовая открыться тогда сразу и к тому же нуждавшаяся в соразмерном гении. Жуковский пошел, очевидно, по среднему пути: приспособления к своему, привычному. Результатом стало некоторое смешение частиц, мало прозрачное для обеих сторон.
Мы свыклись и не обращаем внимание на заглавие «Лесной царь»; русское ухо оно не тревожит. Но у Гете нет никакого царя, есть король (далеко не то же, что «царь» или «император»), и вовсе не «лесной». Если даже допустить, что Жуковского мог увлечь начальный слог «Erl», который совпадает с немецким cловом «Erie» (ольха), то и тогда, соорудив воображением некоего «ольхового короля», мы его сразу же и отбросим, потому что ольхового леса вообще не бывает, и всадник у Гете скачет не в лесу, а вдоль реки («сын мой, это так мерещатся тебе старые серые ивы…» – те самые «ветлы седые» Жуковского), по которой стелется ночной туман («Nebelstreif»). Слово «Erlkonig» («король эрлов»), употребленное впервые Гердером, старшим современником Гете, было взято им из датской баллады и означало главу таинственных существ, странных окололюдских духов, которые являются путнику из тьмы и несут неминучую гибель.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































