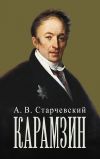Читать книгу "Иван Иванович Дмитриев"

Автор книги: Петр Вяземский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Петр Вяземский
Иван Иванович Дмитриев
В одном письме Карамзин говорит Дмитриеву: «ты мастер жить»: и мог это ему сказать с некоторою завистью. Карамзин вообще не имел этого мастерства. Он не старался сглаживать свой путь и осыпать его мягким песком и цветами. Он всегда был озабочен чем-нибудь и кем-нибудь: и никогда не отгонял от себя эти заботы. Можно сказать, что он до самой кончины своей кое как перебивался, чтобы с году на год сводить денежные концы с концами. А в Петербурге расходы его пополнялись капиталом. Для чадолюбивого отца, каким был Карамзин, это была постоянная сердечная болячка. Благосостояние, вследствие истинно царской и просвещенной щедроты Императора Николая, пришло к нему только пред самою кончиною. Оно тем более было ему утешительно, что не он им воспользуется, но что оно вполне обеспечивало участь семейства его. Он всегда страшился долгов как за себя, так и за друзей. Дмитриев, по крайней мере в молодости своей, был в этом отношений бесстрашнее. Карамзин пришел к нему однажды и с ужасом застал в передней комнате несколько кредиторов. «Как с ними развяжешься ты и как отпустишь?» спросил он его. «А вот как, – ты сей час увидишь!» и вышел к ним с Карамзиным. Он так шутливо, так забавно объяснял каждому из них, почему на этот раз не может расплатиться с ним, что кредитор за кредитором уходил от него с хохотом и почти довольный как будто с деньгами. Особенно позднее он в самом деле устроил жизнь свою независимо и согласно со вкусами и склонностями своими. Как мы уже заметили, в нем была какая-то чопорность, но более внешняя и обстановочная. По-видимому он строго держался некоторых условий светского уложения и чинопочитания. Но это касалось исключительно одной официальной жизни и проявлялось в случаях представительства. Тогда стоял он прямо и чинно на часах. Но отслужив эти часы или минуты, он радушно возвращался в своей любимой независимости. Самое положение его, как холостяка, обеспечивало за ним эту независимость. Семейство, семейные заботы, столь близкие сердцу друга его, были чужды ему. Он был себе хозяином и барином. Но в нем не было ни сухости, ни черствости, которые многие ему приписывали. Они не знали его, но судили о нем по внешней холодности и по некоторой гордости в приемах. Эта гордость была не суетность, а чувство достоинства. Она сказывалась особенно с высшими или и с равными, но которые, по счастливым обстоятельствам жизни, почитали себя выше его. Он был добр, сострадателен и чувствителен, но все же опять не так как Карамзин. Узнает ли сей последний, что в какой-нибудь полосе России неурожай, он, словно помещик того края, озабочен был этим горем и говорил о нем с искренним и живым соболезнованием: «Помилуй, братец, возражал ему Дмитриев прерывая сетования его, – о чем ты тоскуешь, все же калачи будут еще продаваться на Тверской» – и меланхолик Карамзин от души смеялся утешению друга своего. Дмитриев по-своему был и мастер жить, и любил жизнь. «Каждый раз, что утром просыпаюсь, говорил он мне однажды, первая мысль моя и первое движение сердца благодарить Бога за то, что Он даровал мне еще день». Он не был особенно набожен: эта благодарная молитва не была у него делом обряда и заведенной привычки. Тем более она трогательна, тем более свидетельствует она о его внутренней безмятежности и ясности. Вот еще черта, доказывающая, что он способен был живо и глубоко чувствовать. Он однажды говел великим постом; в самое то время, когда кончал составление своих записок. Я пришел поздравить его с приобщением святых тайн. «А знаете ли вы – сказал он мне – что я сделал сегодня? я уничтожил в записках своих все то, что было сказано слишком резкого и предосудительного о князе Салтыкове. Мне казалось неприличным, исполнив христианские обязанности, оставить на совести и на бумаге следы досады моей на того, которого считал я виновным предо мною». Во время отсутствия Императора Александра, в продолжение Европейской войны, князь Салтыков облечен был почти полномочною властью по административному управлению России. Действия Дмитриева, тогда министра юстиции, встречали в нем постоянное недоброжелательство и противодействие. На эти неприятности находятся еще и ныне указания в записках его: но они в изложении своем смягчены и частию утаены. На деле эти неприятности были так чувствительны ему, что он, вследствие их, вышел в отставку.
Другим поводом к отставке было и то, что Государь, по возвращении в Петербург, отменил по некоторым министерствам личные по делам ему доклады.
Припомнив сказанное выше, что Дмитриев не был в строгом смысле набожен, нельзя не признать в добровольном самопожертвовании авторского самолюбия и личного честолюбия подвига, который свидетельствует об истинном его благодушии. Здесь не христианское раскаяние, предписанное церковными законами и всегда достойное почтения, а чисто и просто человеческое, истекающее из собственного побуждения.
Мы уже говорили о независимости его от многих общепринятых житейских условий. Он не покланялся и не жертвовал собою светским повинностям, когда считал их для себя притеснительными. Он не был угодником ни привычек, ни обычаев, ни предубеждений в ходу и в чести. Здесь характеры двух друзей совершенно сходятся. В том и в другом было много самобытности и независимости. Обедал он в свой час, не заботясь о том, что это час был старосветский. Одевался он по своему покрою, носил платье того цвета, какой ему более нравился: у него были и серые, и коричневые, и зеленые фраки, парики всех цветов, даже иногда цветов невозможных, почти фантастических. Строгий классик по своим литературным верованиям, он во многом был самовольный романтик.
В обществе знался он с кем хотел, ездил куда сочувствие призывало его. Долго был он постоянным членом Английского клуба: вдруг, за что то – на него прогневавшись, отослал свой билет; вскоре после, соскучась, опять записался.
В домашнем быту был он причудлив, как бывают обыкновенно причудливы перезревшие холостяки обоего пола. Но он был оригинально и мило причудлив. Здесь нравы друзей расходятся. В Карамзине, в обычаях, в приемах его, во всей внешности и личности не было ничего своенравного, ничего, так сказать, анекдотического. Вся жизнь его отличалась стройною простотою, спокойствием и равновесием. Дмитриев был физически мнителен и боялся всякого внешнего неприятного впечатления. В этом отношении он берег и нежил себя. Однажды, в самый тот час, как готовился обедать, вбегает к нему камердинер его, нам всем сторожилам известный, Николашка. Он докладывает, что. приехал из деревни Иванчин-Писарев, литератор, которого Дмитриев особенно любил. «Да какой страшный, прибавляет он, весь желтый!» Дмитриева кольнуло в сердце. Он хотел было отказать, но приязнь победила отвращение: «проси», сказал он. Но тут же повязал себе глаза платком. Так и произошло свидание после долгой разлуки. Этого мало: разговор завязался, и он оставил его у себя обедать: «только извини меня сказал он ему – мы будем за двумя столиками сидеть спиною друг в другу».
Этот камердинер Николашка играл не последнюю роль в жизни его. Однажды зашел я в нему в Петербурге утром, на другой день приезда его. После первых приветствий, указал он мне на слугу своего, который, с видом похмелья и синими пятнами на лице, стоял в углу. «Рекомендую вам, сказал он мне, – нашего Говарда, любознательного посетителя и исследователя тюремных заведений. Вчера только приехали мы, а он уже провел ночь на съезжей. Что прикажите с ним делать? а иногда из этих пакостных уст еще вылетает имя Шатобриана». Нужно заметить, что камердинер состоял и в должности библиотекаря. Выучась кое как разбирать по складам Французские буквы, он мог приносить ему ту или другую книгу, которая спрашивалась. Дмитриев говорил однажды о пристрастии своем ко всему молочному. «Это доказывает, сказал князь Одоевский, пришедший к нему вместе со мною, что в вас нет желчи».
«Вот он один, сказал он, указывая на Николашку, приводит желчь мою в движение, да еще Полевой». Полевой, готовясь тогда к Истории Русского народа, пробовал силы свои в «Телеграфе», нападая на Историю Государства Российского.
В Москве собирались по вечерам у него не только все известные литтераторы, но и всякие. Один из них особенно был скучен и тяжел с глазу на глаз. Когда он бывал один у него, хозяин от этой тягости облегчал себя, по возможности, хотя наружно сначала скажет, что голова болит и попросит дозволения снять парик и надеть колпак. Потом скажет, что болит поясница и просит позволения прилечь на диване. Он называл все эти льготы единственным утешением своим в пытке беседы с докучливым и слишком усидчивым гостем.
В Москве он был очень популярен, особенно у людей по грамотной части. К нему прихаживали все уличные поэты, или шинельные, как он их называл. Он благосклонно выслушивал их стихи и помогал им денежными пособиями. Особенно жаловал он одного Фомина. Сей Фомин ходил всегда в черном фланелевом капоте, вероятно доставшемся ему, замечал Дмитриев, после траурного церемониала; за недостатком пуговиц капот сверху зашпилен был булавкой с каким то цветным камешком. Дмитриев особенно любовался ею, угадывая, что она подарена была поэту кухаркою или прачкою, которую он воспел.
Дмитриев вообще как то мало сочувствовал драматическим сочинениям, особенно трагедиям. Когда молодой трагик являлся ему и просил позволения прочесть ему свое произведение, он, чтобы озадачить его, предлагал ему прежде чтения рассказать план своей трагедии, ход и постепенные развития сцен и обозначить вкратце характеристику действующих лиц. А как эта домостроительная часть художественного создания вообще у многих, а в особенности у Русских деятелей, слаба, несчастный автор запутывался в своем отчете; он не в силах был давать отпор представляемым ему возражениям, и наконец рад был вовсе отказаться и от чтения, только с тем, чтобы отделаться от пристрастных допросов своего следователя. Дмитриев с торжеством радовался каждый раз успеху своей уловки. Припомним здесь еще одну забавную литературную сцену, которой кабинет Дмитриева был свидетелем и местом действия. В это время молодой поэт Раич сделался известен переводом Виргилиевых Георгик. Тогда же проживал в Москве некто, которого имя очень сбивалось на имя поэта. Он известен был любовью своею в Египетскому племени вообще, говоря языком академическим, и к одной Египтянке в особенности. Тот и другой были только по слуху известны Дмитриеву. Эти два лица сочетались в уме его в одно лицо. Когда кто-то просил его о дозволении представить ему переводчика, он с большим удовольствием принял это предложение: ему любопытно было узнать лично и ближе человека, в котором сочетались поэзия Мантуанского лебедя и разгульная поэзия героев, некогда воспетых Майковым. Познакомившись с ним и вглядываясь на него, он начал мало по малу свыкаться с этою психологическою странностию; он находил в смуглом лице, в черных глазах Раича что то цыганское, оправдывающее сочувствие и наклонность его. Ему нравились эти противоречия и независимость поэта, который не стеснял себя светскими предубеждениями и которого восприимчивая и сильная натура умела совмещать в себе и согласовать такие противоречия и крайности. В третье или четвертое свидание захотелось ему вызвать Раича на откровенную исповедь. Он начал слегка заводить с ним речь о Цыганах. С сочувствием говорил о них. Кто знал застенчивого, неловкого и целомудренного Раича, тот легко представит себе удивление и смущение его при подобных намеках. Наконец дело объяснилось.
Дмитриев обращался со своими домочадцами милостиво и патриархально, как бывало в старые годы, но был с ними и вспыльчив, и скор на расправу, как бывали патриархи того времени, когда положение 19 февраля еще никому в голову не приходило. Здесь опять совершенное разногласие в характерах двух друзей. Карамзин скорбел о проступках и худом поведении своей прислуги, но никогда не было у него вспышек горячности.
Однажды вечером зашел я к Дмитриеву. Тут тоже, по Русскому и патриархальному обычаю, тотчас велел он подавать чай. Мы разговорились. Вдруг послышались за дверью звуки разлетевшейся в дребезги посуды. Он продолжал разговор, но в голосе его уже отзывалось некоторое смущение. Наконец встал он, говоря: «извините, князь, но я не могу выдержать». Он вышел из комнаты, и раздались две звонкие пощечины. Возвратившись, возобновил он разговор, неожиданно прерванный. После каждой подобной выходки он примирялся с обиженным и в пользу его сам возлагал на себя денежную пеню за поличное оскорбление.
Упоминаю этот случай с точностью и бесстрастием, вполне историческими. Знаю, что он возбудит негодование и вызовет вопли ужаса у многих хулителей старины и глашатаев нравственного превосходства нынешнего времени. Нельзя одобрять ручной управы и еще менее жалеть о ней, если она окончательно вышла из домашнего обихода. Но не должно придавать ей особенной важности и признавать в ней сокрушительной улики на людей старого поколения. Дурные привычки, порожденные внешними обстоятельствами, могут согласоваться с благородством духа и другими возвышенными качествами. Хорошие привычки легко прививаются, но не так легко усвоиваются доблестные начала прямодушного и благородного характера, Не смотря на проделки его с Николашкою, которого вероятно ныне называл бы он Николаем, а пожалуй еще и по отчеству, Дмитриев не был жестокосердым барином. Домочадцы любили его: они обращались с ним с покорностию, может быть и со страхом, но и с любовью, как с главою домашнего семейства. Дмитриев, я в том убежден, приветствовал бы с искреннею радостью новое положение; но не ручаюсь притом, чтобы, при старых привычках его, не доводилось ему иногда иметь дело с мировым судьей. Скажу более, каков он ни был в своем домашнем быту, он был либерал в честном и неискаженном значении этого слова, хотя иногда и клеймил умствования и притязания заносчивой молодежи шуточным прозванием: завиральных идей. Во всем этом есть противоречие, но в чем и в ком его нет. Вся наша жизнь, вся человеческая мудрость наталкиваются на противоречия. Противоречия в нравах и обычаях не мешают и дружбе. В средних слоях обыкновенной жизни Карамзин и Дмитриев были во многих отношениях едва ли не совершенно противоположны друг другу. Но в высших, нравственных слоях они сходились и стояли на одинаковой высоте. Дмитриев нежно, даже по характеру своему умилительно, любил Карамзина. Он благоговел пред его высоким дарованием, пред его чистою, возвышенною душею. Карамзин любил и уважал в нем честность и прямоту правил его. Любил в нем и эти странности и причуды, которые резкими оттенками обозначали его.
Чувствую и жалею, что мои беглые очерки не дадут тем, которые не знали Дмитриева, полного и удовлетворительного понятия об этой замечательной и любезной личности. Время наше так переиначило, так перетасовало вверх дном все понятия, все значения и оценки, что трудно, чтобы не сказать невозможно, передать с верностью сочувствия свои тем, которые в свое время с нами их не разделяли. Нетерпимость есть одно из отличительных свойств нашего времени. Мы не поддаемся ни на какие уступки. Каждый оттенок, резко выдающийся и не приспособленный к нашим глазам, портит для нас всю картину как-бы впрочем ни была она изящна и жива. В этом отношении наше старое поколение уживчивее и богаче настоящего. Мы отдаем справедливость и новому, когда оно хорошо; наслаждаемся тем, что есть, когда находим в нем пищу наслаждению; мы любим настоящее, но без идолопоклонства; веруем в будущее, но без самонадеянья; с любовью помним и старое, хотя и не вмещается оно в заготовленную рамку новых требований и условного размера.
После умилительной проповеди одного церковного пастыря, все слушатели были растроганы до слез. Один из плакавших спросил соседа своего: что-же вы не плачете? – да я не здешнего прихода, отвечал он. Боюсь, что и на мои рассказы найдутся многие, которые скажут мне: мы с вами не одного поколения.
Нечаянно нахожу я в старых своих бумагах несколько строк написанных мною вслед за свиданием моим с Дмитриевым. Привожу их целиком и в том виде, в котором они, по горячим впечатлениям, написаны мною на скорую руку. Из этих строк можно составить себе понятие о разнообразии, живости и анекдотической прелести разговора его.
15 июня 1833 года. Я сегодня обедал у Дмитриева. Каждые два часа беседы с ним могут дать материалов на несколько глав записок. Сегодня между прочим говорил он о каком то Беклемишеве, жившем в Петербурге, в царствование Екатерины, хлебосолом, к которому ежедневно сходились многие обедать и в числе их Дмитриев, тогда еще гвардии сержант. Мать Дмитриева была дружна с женою его. Беклемшпев ходил всегда в гродетуровом кафтане одного цвета с прочими частями одежды. По возвращении от должности уже находил он у себя накрытым длинный обеденный стол: подавали закуску и от закуски до обеда занимался он переводами. К обеденному часу съезжались обыкновенно камергер Валуев, Польский посланник Деболи, влюбленный в дочь Беклемишева, красавицу, и другие гости. Когда Дмитриев приехал в Петербург министром юстиции, получает он письмо от Беклемишевой вдовы, которая просит у него сто рублей на погребение этой дочери. Сто рублей даны, а на другой день он подает Государю докладную записку о вспомоществовании матери, лишившейся дочери своей, бывшей красавицы. Та что всегда облизывалась, говорит Государь и приказывает выдать 500 р. Во время коронации Императора Николая, Князь Лопухин спрашивает Дмитриева: а помнишь ли, как ты прихаживал ко мне с тетрадкою перевода в руке? Лопухин был тогда Петербургским полициймейстером, а вследствие того и цензором. Бывало – говорит он – только что прочтешь кое как рукопись и подпишешь разрешение к напечатанию, не опасаясь никакой ответственности: а теперь что на важная должность цензора – тут описывает Дмитриев аудиенцию Лопухина: частные пристава подходят к нему один за другим: у каждого своя добыча: один ведет женщину, у которой глаз подбит; другой – двух купчиков – как теперь вижу их говорит он: в халатах, белокурые волоса распущены по плечам, они пойманы в чужом саду, куда перелезли чрез забор. Лопухин слушает доклады и, прищуриваясь, дает решение свое. Между тем я стою в углу и ожидаю своей очереди. А между тем сегодня рассказывает он мне с живостью и олицетворением сцену происходившую за полвека. Лопухин был цензор снисходительный: он знаком был с философией 18 века. В письмах его к отцу моему, князю Андрею Ивановичу, встречаются нередко цитаты из Дидерота и других писателей.
Один литтератор обедал у него в Москве и во весь обед рассказывал анекдоты о своем приятеле и товарище по литтературе, анекдоты не весьма благовидные, и после каждого прибавлял: да вы не подумайте, что он подлец, совсем нет, а урод сумасшедший – да не подумайте, что он злой человек, напротив, предобрая душа, а урод и пр. и проч. все в таком-же смысле.
Что делает в Москве Александр Иванович Салтыков? Все вздыхает о изменениях Французского языка.
Салтыков был человек очень образованный, честный и благородный. Образование его было чисто Французское по классическим преданиям и образцам, он не мог привыкнуть к неологизмам новейшей школы: с ужасом выписывал их из журналов и новых книг, и развозил их по Московским дамам, прихожанкам одного с ним классического прихода.
Здесь к сожалению прекращаются мои заметки; но можно видеть и из них, как был разнообразен и животрепещущ разговор его. Он переносил вас в другой мир, в другой век и делал вас современником, зрителем и почти участником того века, а между тем теперь и рассказы мои о самом Дмитриеве переносят нас в какую то глубокую даль.