Текст книги "В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2"
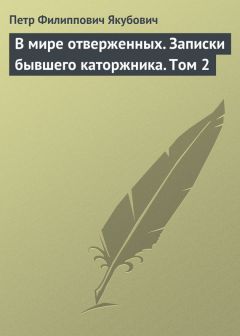
Автор книги: Петр Якубович
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Но вот явилась наконец долгожданная новая партия в шестьдесят четыре человека. В тюрьме поднялась невообразимая беготня и возня; не только Шестиглазый, но и все надзиратели чего-то ликовали и торжествовали. Освободили для новичков три крайних камеры, выгнав оттуда старых арестантов и разместив по остальным шести номерам. Смешивать всех вместе почему-то не торопились, и в течение нескольких дней новая партия жила совершенно отдельной жизнью в отдельном коридоре, имея даже своего особого старосту. Мне также предстояло оставить насиженное гнездо и перейти в другую камеру. Штейнгарт настаивал, чтобы я воспользовался этим случаем и записался на некоторое время в больницу, чтобы там на более питательной пище поправить свое довольно расстроенное здоровье. Не сладка была, впрочем, и перспектива лежания в тесном, душном лазарете, совершенно переполненном больными, среди которых были и тифозные из только что пришедшей партии смерти одного из них ожидали с минуты на минуту. Особенно покоробило нас, когда мы узнали от Биркина, что белье этого больного, испачканное экскрементами, вот уж третьи сутки лежит здесь же, в лазаретном чулане. Возмущенный Штейнгарт тотчас же заявил фельдшеру, что белье необходимо немедленно убрать. Землянский, давно уже косившийся на то, что "арестант" свободно заходит в аптеку и распоряжается в ней по своему усмотрению, отвечал очень грубо:
– А вот когда накопится больше, тогда и велю убрать!
Штейнгарт вспылил:
– Сейчас же извольте очистить чулан! Если вы будете распространять здесь заразу, я на вас врачу пожалуюсь.
Тотчас же после стычки, но еще не зная о ней, пришел и я просить Землянского записать меня в лазарет. Он рвал и метал в аптеке, бил в бессильном бешенстве склянки, бросал на пол вату и бумагу.
– Места нет в лазарете! – коротко отрезал он.
– Неправда, Штейнгарт говорит, что есть. Черные воровские глаза Землянского забегали в разные стороны, сверкая злым огоньком. Он как будто обдумывал план борьбы.
– Ну, есть. Да какая вам будет польза от этого места? – сказал он наконец, стараясь быть хладнокровным. – Вам нужна улучшенная пища, хлеб и молоко, а "третьи порции" все в разборе. Ложитесь, пожалуй, если хотите, на койку, только станете получать ту же пищу, что и в тюрьме. Начальник и то сердится, что я больше, чем следует, третьих порций назначаю.
И достав из шкафа какие-то отчеты, он быстро начал перечислять мне все имеющиеся в его распоряжении денежные средства, "вторые" и "третьи" порции и т. д. Эти порции, о которых постоянно толковали и фельдшер, и староста, и больничные повара, служили всегда камнем преткновения для моего понимания: даже Штейнгарт не совсем ясно понимал порядок их назначения, а потому я предпочел просто спросить Землянского:
– Так, значит, вы начальника боитесь – назначить мне молочную порцию?
– Да, начальника… Вот странное дело, Штейнгарт тоже пристает ко мне насчет белья… А что ж мне делать, если начальник велит держать в чулане?
Я тотчас же отправился к воротам и попросил дежурного доложить начальнику о моем желании видеть его по важному делу. Лучезаров, как всегда, без замедления вызвал меня в контору. Когда я сообщил ему, что фельдшер ссылается на его авторитет, отказываясь убирать экскременты тифозных и принять меня в больницу, он пришел в страшное бешенство и обещал сию же минуту нарядить "следствие". Действительно, через час времени в тюрьму явился из конторы письмоводитель и стал поодиночке допрашивать в дежурной комнате меня, Юхорева и некоторых больных, лежавших в лазарете. Между прочим, письмоводитель задал мне вопрос; не слыхал ли я чего-нибудь о том, что Землянский приносит в тюрьму водку или продает Юхореву казенный аптечный спирт?
Из этого вопроса очевидно было, что у Шестиглазого уже имелись на этот счет какие-то сведения. Я отвечал, конечно, что не слыхал ничего. Что говорили Юхорев и другие допрошенные арестанты, я не знаю, но о фельдшере большинство отозвалось, что он ведет свое дело отлично, и никаких претензий к нему арестанты не имеют. Таким образом, моя жалоба осталась единичной, и "следствие" не привело ровно ни к каким благотворным результатам.
А между тем в тюрьме началось сильное волнение. Юхорев произнес в кухне против меня с товарищами целую речь.
– Вот они, хваленые-то благодетели! – гремел он, потрясая своей могучей головой. – Мы да мы!.. Мы за парод стоим, мы доносчиков ненавидим… А кто же, скажите, о спирте донес? Почему письмоводитель так сразу и выпалил мне: "А правда ль, Юхорев, что ты у Землянского спирт покупаешь?" Ведь ни один честный арестант не возьмет во внимание доносами заниматься… Ах вы, фискалишки паршивые, бумагомараки! Знаю я теперь настоящую цену вам!
Обвинение в фискальстве, исходящее даже из юхоревских уст, признаюсь, как ножом резнуло меня по сердцу. Штейнгарт был где-то вне тюрьмы у своих многочисленных пациентов, и посоветоваться было не с кем. А душа так наболела за последние дни, нервы так расходились, что под влиянием горького чувства обиды я потерял голову и предпринял большую глупость, которая могла кончиться самым неприятным для нас всех образом: в пылу негодования я обошел все шесть камер, где жили старые арестанты, и пригласил их в свой номер на сходку "по очень спешному делу". Кобылка, очевидно, сразу догадалась, о каком щекотливом деле шла речь, потому что большинство не шевельнулось даже с места, и на сходку из семидесяти человек собралось не больше пятнадцати – двадцати… Среди них было очень мало безусловно сочувствовавших мне лиц, но зато все друзья Юхорева – Быков, Азиадинов, Шматов, Биркин и во главе их сам он – были на виду. С неостывшим еще чувством возмущения я спросил у собравшихся, какой повод дал я арестантам за несколько лет жизни в их среде оскорбить меня прозвищем фискала… Не успел я кончить свою маленькую речь, как Шматов, стоявший на нарах, крикливо загнусавил:
–: Они думают, что купили нас своим табаком да мясом! Мы рта не смей разинуть!
– Ха! Купили! – иронически поддакнул ему верзила Быков. Фыркнуло и еще несколько человек.
– А я скажу вот что, – продолжал шипеть Гнус, – перестану я вовсе курить, помру я с голоду на шестиглазовском брульоне, да останусь зато вольным человеком… Вот что!
– Молчи, гнусина проклятая! – вдруг притопнул на него Юхорев, любивший во всем обстоятельность и желавший соблюсти цивилизованные формы прений со мною. И смело выступил вперед. – Дай прежде людям слово сказать.
– А я говорю: помру лучше!.. – прошипел еще раз Шматов, патетически ударяя себя в грудь.
– Ты еще станешь мешать мне?! – вне себя закричал Юхорев и сделал гневное движение, намереваясь схватить Гнуса за шиворот. Гнус юркнул куда-то в угол и замолчал.
– Теперь я, старики, говорить буду, – начал Юхорев, и, признаюсь, он был живописен в эту минуту, гордо выпрямившийся во весь свой огромный рост: побледневшее от волнения смуглое лицо, точно изваянное из бронзы, казалось страшным и величавым; свирепые серые глаза загорелись враждою; железная рука вытянулась вперед – и в этом неподвижном положении он живо напомнил мне (рискую показаться смешным, но это так) грозную статую Антокольского "Петр Великий"… Против воли я почти залюбовался своим противником.
– Я буду теперь говорить, старики. Жалуется Иван Николаевич, что я его фискалом обозвал. Это точно, обозвал. Ну и как было не подумать и не высказать? Бежит Иван Николаевич к начальнику на фельдшера доказывать. А наша кобылка доказательств не обожает!
– Да, на своего брата! – негодуя, прервал я. – А Землянский ведь – начальство.
– Позвольте, Иван Николаевич, – вежливо отстранил меня Юхорев, – я теперь говорю… Для нас Землянский не начальство, а почти, можно сказать, свой брат! Не знаем, как вы, а мы вполне довольны этим фершалом.
– Душа-человек для нас, арестантов! – загнусавил Шматов.
– Чего и говорить! – поддержал Быков.
– Про этого фельдшера вы ничего дурного не скажете? – спросил я, оглядываясь кругом и снова до глубины души возмущаясь, – и заметил, как некоторые из арестантов скосили глаза, чтобы избегнуть моего взгляда.
– Разные у нас с вами требования от фершала, – заговорил опять Юхорев, – в этом и все дело. Вы наших арестантских нравов не знаете. Не о том, однако, речь. Очень, конечно, приятно слышать, что вы не доносили Шестиглазому об моем пьянстве, но я все-таки виновным себя в поклепе не признаю. Является по вашему зову в тюрьму письмоводитель и вдруг, допросив сначала вас, начинает всех спрашивать о спирте. Ясное дело, на кого тут подумать! А вот что скажут ребята, ежели я объясню им другую штуку. Этот же самый Иван Николаевич, который так возмущен моими словами об его фискальстве, сам пустил по тюрьме бумо, что Юхорев, мол, когда ходит к начальству с пробой, обсказывает ему разные ябеды на арестантов.
– Вы в своем уме, Юхорев?!
– Не беспокойтесь. Вы сказали Огурцову, что я просил начальника убрать его с кухни, как ленивого и супротивного мне человека.
На минуту я почувствовал себя ошеломленным, подавленным. Смутно я припомнил, что действительно было нечто подобное! Чуть ли еще не за полгода до этого времени Лучезаров в одной из бесед со мною у себя в конторе сказал:
– В тюрьме только и осталось теперь два настоящих богатыря – Юхорев да Огурцов. Их следовало бы, собственно, в рудник отправить, но и на этих местах они очень нужны. А кстати, какого вы об них мнения?
– Ничего, добрые, кажется, малые, – отвечал я уклончиво.
– В Юхорева, откровенно скажу вам, я просто влюблен: этакий молодчинища на вид! Да и умей, бестия. Но вот на Огурцова он все жалуется: очень ленив и затевает свары на кухне.
Признаюсь, эти слова в то время неприятно поразили меня: до тех пор я не думал, чтобы Юхорев в борьбе с противниками не прочь был прибегнуть и к наушничеству. Как раз в тот же день Огурцов подошел ко мне и начал жаловаться на то, что в последнее время Шестиглазый все придирается к нему, бранит за леность и грозит карцером. Парень казался так искренно огорченным и недоумевающим, что я почувствовал все былое расположение к нему и для чего-то сказал:
– Я бы мог назвать вам человека, который вредит вам, да боюсь, вы разболтаете…
Огурцов закрестился обеими руками и стал божиться, что будет нем, как могила.
Какой смысл, какая цель была сообщать ему о моем разговоре с Лучезаровым? Разумеется, это было в высшей степени глупо, но бывают иногда в жизни сумасшедшие минуты, и я назвал Огурцову Юхорева. Назвал – и сейчас же понял, какую непростительную бестактность сделал, но вернуть сказанное было уже невозможно. Тщетно старался я по возможности смягчить вину Юхорева, придать ей характер шутки, допустить даже ложь со стороны бравого капитана, – Огурцов твердил одно:
– Нет, это не ложь… Так вот где сука-то кроется! Я так ведь и думал… Ну, укараулю ж и я стервину, не прощу!
Мне оставалось заставить Огурцова еще раз возвести глаза к небу и подтвердить торжественной клятвой, что он будет молчать и имени моего никогда не коснется в своих стычках с Юхоревым, и я ушел, продолжая проклинать в душе свою откровенность. Так прошло полгода, и я забыл совсем об этой истории, считая ее навеки похороненной.
– Огурцова, Огурцова сюда, на очную ставку! – с диким торжеством заголосили Быков, Шматов и другие благожелатели Юхорева. Народу между тем набилось в камере порядочно.
Кто-то побежал в кухню за Огурцовым. Я обдумывал план действий. Дело запутывалось самым отвратительным образом. Конечно, я мог бы рассказать теперь же, при всей сходке, то, что сообщил некогда Огурцову, но некоторые, с быстротой молнии мелькнувшие в голове, соображения подсказывали, что лучше не делать этого. В самом деле, какие я мог привести доказательства? Не сказал ли бы мне Юхорев с товарищами: "А, так ты разговариваешь с начальством об арестантах? Как же ты после этого не фискал?" А что сказал бы сам Лучезаров, если бы узнал когда-нибудь, что я передал кобылке конфиденциально брошенную им мне фразу? Я ждал поэтому прихода Огурцова с понятным волнением. Он не скоро явился на зов. Вошел он в камеру неохотной, грузной походкой, флегматичный, заплывший жиром, в белом кухонном фартуке и с высоко засученными рукавами.
– Огурцов, говорил тебе Иван Миколаевич про Юхорева, будто он сплетки наводит на тебя начальнику?
Минута молчания, последовавшая за этим вопросом Быкова, показалась мне вечностью.
– А зачем Ивану Миколаичу говорить мне, когда я сам это хорошо знаю? – медлительно пробасил наконец Огурцов, окинув своего врага с ног до головы ненавистным взглядом.
У меня отлегло от сердца: не выдал Огурцов!
– Что ты знаешь, волчий рот? – подскочил к нему Юхорев со стиснутыми кулаками.
– Сам сучий рот! – отвечал молодой геркулес, в свою очередь приближаясь к лицу противника. – Аль не знаешь, что у меня тоже кулак здоровый? Одному этакому живо брюшину выпущу.
– Да разве ж ты не сказывал Мишке Биркину про Ивана Николаевича! – съехал Юхорев на более удобную для себя позицию, сразу понижая тон.
– Ничего не сказывал.
– Мишка! Эй, Собачья Почта! – заревел Юхорев, оглядываясь по всем сторонам, как разъяренный тигр, ищущий добычи.
– Эге! – откликнулся юркий Мишка, норовивший уже было шмыгнуть за дверь.
– Что тебе сказывал Огурцов?
– Да что ты, мол… на место его другого хлебопека хочешь просить у начальника.
– Не про то, сволочь, спрашивают тебя! Это-то я самому Огурцову в глаза говорил… А что сказывал ему Николаич?
– Ты, может, звезды тогда на потолке считал, когда я тебе сказывал про это? – спросил и Огурцов, тоже подступая к Мишке. – А то, может, хочешь, чтоб я ребра тебе хорошенько пощупал?
Несчастный Звездочет завертелся между двух огней; для меня было очевидно, что Огурцов не сберег-таки доверенной ему мною тайны и действительно что-то сболтнул Биркину, но что теперь он готов пустить в ход свои дюжие кулаки, лишь бы только хоть как-нибудь оправдать себя в моих глазах, и перспектива отведать этих знаменитых кулаков мало улыбалась его легкомысленному конфиденту.
– Так назвал он тебе Миколаича аль нет? – бесился перед Биркиным не менее грозный Юхорев.
– Да давно ведь было это, Юхорев… запамятовал я! – весь красный как рак взмолился трусливый Мишка.
Стальная рука Юхорева схватила его во мгновение ока за шиворот, приподняла, встряхнула раза два и вышвырнула за дверь камеры. Кобылка разразилась хохотом, а Юхорев – неистовой бранью. Быстрыми шагами подошел он затем ко мне и, протягивая руку, сказал:
– Ну, помиримтесь в таком случае, Николаич. Я поверил этой сволочи, Собачьей Почте, которой одно надо – порядочных людей стравливать. Теперь я вполне верю вам и прошу прощения за поклеп.
VII. Герои новой партии. – Открытие Прони
Смешанные чувства волновали меня долгое время после описанной истории. Тут было и в высшей степени обидное сознание той жалкой роли, какая выпала на мою долю, и не менее горькое чувство поруганной, непризнанной любви к несчастной забитой кобылке, искренней готовности всегда и во всем отстаивать ее интересы. Да, нелегко было примириться с мыслью, что мне пришлось стать на очную ставку с каким-то Огурцовым или Мишкой Звездочетом, один минутный каприз, одно слово которых могли поставить меня в самое позорное положение! На одну чашу весов положили мое человеческое достоинство, на другую – авторитет Юхорева и заставили с сердечным замиранием ждать, которая из этих двух чашек перетянет в глазах судей-зрителей, и кому из нас они вынесут обвинительный или оправдательный приговор! Сзывая сходку, я, очевидно, рассчитывал в глубине души, что кобылка, как один человек, подымется на мою защиту и выскажет Юхореву резкое неодобрение за взведенное на меня обвинение. Ничего подобного не случилось, однако. Ни один голос не возвысился в мою пользу; единственное, чего я дождался, это – что Огурцов не решился открыто предать меня. Но и тут пришла мне па помощь его мстительная ненависть к Юхореву: не будь этой последней, считай и он нужным заискивать перед общим старостой, разве тогда поступил бы так благородно этот чистокровный представитель шпанки? Кто знает?..
В тот же день Чирок, не присутствовавший на сходке, говорил мне таинственно в бане, где он стирал белье и куда я случайно забрел:
– Хорошо мы знаем, Миколаич, что Юхорев глот. И то знаем, что он все, обязательно все, что в тюрьме делается, Шестиглазому переводит. А только никак нельзя нам встать за тебя.
– Почему нельзя?
– Эх, ровно дите ты малое, право! Не знаешь разве арестантских порядков? Ведь нам житья не станет от Иванов, скажут – махоркой да мясом купили вас, продажные души!..
С выражением подобного, же тайного сочувствия подходили ко мне и многие другие арестанты, как из старой, так и из новой партии. Из этой последней несколько человек присутствовало даже на сходке. Новички, еще полные ужасных впечатлений этапного пути, а также слухов об омерзительном пищевом режиме других рудников, по-видимому, совершенно искренно недоумевали: как возможна такая черствая неблагодарность по отношению к людям, которым тюрьма стольким обязана?
– Помилуйте, да за таких людей надо вечно бога молить, а не то чтобы что… От цинги одной, как собаки, подохли бы без табачишку… А вы помогу оказываете, заступники наши в кажинной беде! Довольно мы еще в дороге наслышаны, всюду ведь слух-то прошел: не люди, а прямо анделы небесные! Ну да не печальтесь, господа. Наша партия все по-новому переделает. Мы этим глотам вашим, Юхоревым-то разным, почирикать много не дадим… Набаловали вы их шибко.
Таким искательным языком говорило вначале большинство новоприбывших. От среднего типа старой партии такого языка я давно уже не слыхал. Старые шелайские арестанты, "набалованные" ли нашим деликатным обращением, "просвещенные" ли шестиглазовским суровым режимом, держались более горделиво и независимо, были в высшей степени амбициозны и чутки насчет охраны своего человеческого достоинства в отношениях с нами. И как только новую партию смешали со старой, разбив по всем девяти камерам, так этот независимый дух сообщился сейчас же и большинству вновь пришедших.
В новой камере, куда переведены были мы с Штейнгартом, очутилось с нами шестеро новичков. Один из них, Грибский по фамилии, сын мелкого чиновника, где-то, когда-то учился и пришел в каторгу за фальшивые кредитки. В обращении с нами он старался блеснуть книжными оборотами речи, ужимочками и манерами якобы светского пошиба, но за этой внешней полированностью скрывалось самое несосветимое невежество и мелкая душонка. Заветнейшие помышления этого человека вертелись около самой грубой и первобытной клубнички и скоро даже среди арестантов он получил циничную кличку "любителя". Грибский тотчас же внес в камеру такую зловонную атмосферу словесной распущенности, что мы с Штейнгартом то и дело ежились, выслушивая эти бесконечные скабрезные анекдоты, это грязное и извращенное остроумие. Как раз перед появлением "любителя" в нашей камере составился в этом отношении превосходнейший подбор обитателей. Однажды вечером, когда публика была в высшей степени благодушно настроена, Штейнгарту вздумалось предложить ей никогда не произносить, находясь под замком, от вечерней до утренней поверки, ни одного площадного слова. "А кто провинится – тому банки!" – шутливо прибавил я… Вопреки всякому ожиданию, камера приняла предложение с восторгом… К чести большинства ее обитателей надо сказать, что оно и без того отличалось большой воздержанностью на язык и прибегало к циничной ругани лишь в самых исключительных; случаях. Предложение было поэтому направлено главным образом против Чирка. Он тотчас же зачесался по всем направлениям тела, что было у него всегда признаком сильного волнения, и заговорил жалобно:
– И хитрые ж вы, братцы, я погляжу! Сами знаете, что я без этого слова жить не могу… Вам-то легко отвыкнуть, а мне, значит, кажинный день банок придется отведывать? Нет, я не согласен!
И с языка его тут же сорвалось запретное выражение… Тогда Сохатый, Луньков, Ногайцев, Железный Кот, Медвежье Ушко и другие кинулись на него всей оравой и отрубили такие здоровые "банки", что злополучный Чирок орал не своим голосом и клялся и божился, что станет впредь остерегаться… И точно, хотя ему и чаще других приходилось получать банки, но он начал с этих пор, насколько мог, "остерегаться", и камера наша сделалась прямо образцовой по сдержанности на язык. Случалось, что усердные ревнители нравственности отрубали банки даже случайно заходившим к нам обитателям чужих камер…
И вот вся эта воздержанность пошла прахом с появлением шестерых новичков, ни образ мыслей которых, ни характер, ни внутренняя ценность решительно никому не были известны. Аборигены тюрьмы, не успевшие еще сблизиться с новыми товарищами, не только не останавливали их, но и сами начали опять мало-помалу заражаться дурным примером: снова загремела кругом кабацкая брань, снова нравственная атмосфера сделалась душной и нестерпимо смрадной. Что касается "любителя" Грибского, то он, казалось, и не замечал того, что мы с Штейнгартом чувствуем себя в его обществе отвратительно, и продолжал то и дело вступать с нами в беседы, причем держался самым галантным и утонченно вежливым, на его взгляд, образом. Но раз вечером, когда, только что рассказав громогласно один из своих бесчисленных сальных анекдотов, он подошел с самым развязным видом к нашим нарам и задал Штейнгарту какой-то вопрос, последний поднялся, весь дрожа от негодования, и крикнул:
– Прочь от меня… Не смейте никогда больше со мной разговаривать!
Не ожидавший подобного афронта, Грибский опешил. Страшно побледнев и весь съежившись, он принял вдруг самый плачевный вид.
– Дмитрий Петрович, да что же я такое сделал? – забормотал он.
Штейнгарт повернулся к нему спиной.
– Я тебе, Грибский, вот что скажу, – заговорил тогда Чирок, – Митрий Петрович и Иван Миколаич не любят этих самых слов. Не выносит, значит, душа, да и все тут! А ты такое, брат, мелешь, что уж чего мой пермяцкий язык срамословить любит, а и мне, скажу тебе, подчас муторно становится…
– Дурак ты эдакий, – вступился и Сохатый не то серьезно, не то, по обыкновению, иронизируя, – ты должен понимать, в какую тюрьму попал и с какими людьми обращение теперь имеешь. Ты думал, здесь каторга, а на деле тут – ниверситет, и ты студентом должон понимать себя, вот что!
– У нас банки отсекали до вас кажному, кто только мать выругает! – с гордостью добавил Луньков.
– А ведь что ж, ребята, самое это разлюбезное дело! – сорвался вдруг с нар плечистый мужчина с мрачным выражением красного, как морковь, угреватого лица и маленькими рыжими усиками, Карасев по фамилии. – Я сам смерть не люблю этой нашей дурной привычки… Давайте, братцы, и мы в это согласие вступим. Банки тому сукиному сыну, кто хоть раз помянет мать аль отца нехорошим словом!
И за этим энергичным выкриком он сделал в духе энергичное движение кулаком.
– Что, брат Грибский, заварил кашу? – захохотал другой арестант, спокойно лежавший на нарах.
Он давно уже производил на меня крайне неприятное впечатление своими наглыми светло-серыми глазами, постоянно, точно у волка, оскаленными, белыми как слоновая кость зубами и всем своим лицом, тоже ослепительно белым и прекрасно упитанным. Рядом с этим антипатичным развязным блондином, фамилия которого была Тропин, лежал четвертый из новичков, худощавый брюнет с длинными усами и прямым острым носом; темные глаза его в глубоких впадинах смотрели пронзительным и почти диким взглядом. Звали его – Стрельбицкий; он не проронил пока ни одного слова.
Грибский попрежнему стоял возле наших нар, повесив голову и имея самый виноватый вид.
– Я что же… Я, как все, господа, – продолжал он оправдываться, – против общества я никогда не пойду. Я даже очень буду рад… Конечно, глупая привычка наша всему причиной… К тому же иные настоящие господа очень даже сами одобряют крепкое слово… Приходилось мне и порядочное общество тоже видать… Но ежели ваш характер иного рода, так простите великодушно, я не знал ведь…
Несчастный "любитель" имел очень комичный, жалко-растерянный вид.
– Больше, значит, не будете? – сурово спросил его Штейнгарт.
– Прямо язык себе позволю отрезать! – обрадовался Грибский. – Прямо вот принесу ножик, подам в руки и скажу: "Режьте, Дмитрий Петрович, заслужил!"
– Ну, надо, значит, в другую камеру проситься, с барами нам не житье! – гневно произнес вдруг худощавый мрачный брюнет, поднявшись с нар. И, громко брякая кандалами и стуча сапогами, он стал расхаживать взад и вперед по камере, крутя одной рукой усы и исподлобья бросая в наш угол злые, пронизывающие взгляды.
– Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! Молодчинища Стрельбицкий, славно, брат, отбрил! – залился веселым смехом Тропин, перевалившись с одного бока на другой и скаля острые белые зубы.
– Дичь вы необразованная, еловая дичь! – ядовито бросил в сторону их обоих Карасев – тот мужчина с угреватым красным лицом, который вызвался перед тем вступить в "согласие".
Я давно уже замечал, что в этом человеке, работал ли он, отдыхал ли, разговаривал ли с кем, вечно, казалось, бурлило и клокотало тайное недовольство, злость на кого-то или обида на что-то. Вечно он на что-нибудь ворчал, проклинал то начальство, то арестантов, то самого себя. Когда же не было повода к чему-нибудь придраться, он упорно молчал по целым часам, угрюмо насупившись, с налитыми кровью глазами без ресниц, с подозрительно насторожившимся видом, точно зорко выжидая и выслеживая, где бы и в чем бы уловить хоть тень обиды себе и оскорбления. Очевидно, это был человек из породы тех самогрызунов, недалеких, беспричинно злобных и сварливых, которые умеют делать несчастными и себя самих и всех окружающих их людей. Когда на Карасева находили, случалось, порывы добросердечия, то в них было что-то неестественное, слащаво-сентиментальное, и, конечно, порывы эти были всегда крайне мимолетны и оканчивались сугубой бранью с сожителями… Так, в настоящую минуту он встал ни с того ни с сего на защиту благопристойности и с гневом обрушился на двух товарищей, заявивших себя ее противниками.
– Ты, что ль, образованный-то? – захохотал пуще прежнего Тропин, приподнимая на локте свое нахальное лицо. – Я по крайности грамотный, а ты-то до сегодня ведь полагал, что книжку заместо сахару с чаем прикусывают! Недаром и фамилия твоя – Карасев: караси ведь всех рыб глупее, братцы.
Кровь так и ударила в лицо Карасеву.
– А твоя кака фамилия? – весь дрожа от злости и тщетно ломая голову, какой бы сокрушительный ответ придумать, спросил он, подступая кошачьими шагами к нарам противника. – Ты кто такой будешь? Тропин?
– Ну, Тропин. А все ж не Карасев. Завтра, захочу, Скатертевым буду, а все же не Карасевым!
Карасев, видимо, был окончательно ошеломлен этим непонятным для него остроумием и несколько мгновений стоял как очумелый, не зная, что возразить. И вдруг, подумав, раскатился такой отборной, трехэтажной кабацкой руганью, к какой редко прибегали и самые лучшие тюремные виртуозы! Кобылка, как один человек, покатилась со смеху; не выдержал даже мрачный Стрельбицкий, все время шагавший по камере.
– Аи да монах! Только что в монахи поступить собирался… Ну и удружил же! Молодчага!
Карасев окончательно потерялся.
– А чего ж он говорит мне глупости? – как бы оправдываясь, заговорил он охрипшим голосом. – Я и сам могу наговорить глупостей…
И долго еще в таком роде шла между новичками перебранка, пока все не улеглись наконец спать. Не помню уж в какой связи, поздно вечером Стрельбицкий рассказал Тропику, лежа с ним рядом на нарах, одну страшную историю из своего далекого прошлого. Начала этой истории я не слышал: должно быть, Стрельбицкий повествовал о своих разбойничьих похождениях где-то на юге России. Шайка их была переловлена, и озлобленные крестьяне-хохлы посадили троих главарей, в том числе и Стрельбицкого, в холодный погреб.
– Ну вот посадили. И помни, в одних рубахах, со связанными руками, ногами! Глядим вокруг – темно, лед. Холодно – страсть. "Что ж, братцы, видно, помирать надо", – говорим промеж себя. Помирать – так помирать! Стараемся уснуть, жмемся друг к дружке; зуб на зуб не попадает. Вдруг ночью огни. Много народу, слышим, идет. "Бить их, мерзавцев!" Ну, беда пришла. Ввалилась орава. Лупили, я тебе скажу, так, что еле живых оставили. Однако насмерть не убили. А что ж, ты думаешь, сделали? Привесили за веревку, которой руки за спиной были скручены, к балке, вылили на каждого по ведру воды и ушли. Заледенели мы все… Ну вот как сосульки бывают зимой, с крыш висят… И так, братец ты мой, кажинный день по часу, по два стали мы висеть: выльют на нас по ведру воды и уйдут. Раз, помню, целые сутки так продержали…
– Да как же вы не померли? Ведь это насмоку какую, брат, схватить было можно?
– Тут уж не до насмоки. Все трое голосу совсем лишились, а один в горячке и помер скоро. Другой товарищ без голосу на всю жизнь остался, а у меня после отошло.
– Ну и долго так держали вас в погребу?
– Да почти шесть недель.
– Ну, врешь?!
– Ничего не вру. Ты, брат, не знаешь еще этих хохлов: таких других варваров свет не создавал.
Но, возмущаясь варварством палачей-хохлов, собеседники и не думали, по-видимому, вспомнить о варварствах самого рассказчика, которыми была вызвана эта свирепая расправа. Я давно уже привык к такому одностороннему гуманизму своих сожителей; тем не менее услышанный рассказ, в котором чуялась правда, обратил мое внимание на Стрельбицкого: у человека, прошедшего такую школу – невольно думалось мне, – скопилось в душе много мрака и ненависти и должен быть гордый, непреклонно-сильный характер…
Что касается Грибского, то на него описанная история повлияла почему-то самым благотворным образом: он не только перестал срамословить, но и вообще как-то затих и совершенно стушевался в камере. Его прежнюю роль взял на себя Тропин, которому, видимо, страшно нравилось доставлять мне и Штейнгарту возможно больше неприятностей. Грибский, бывало, только рассказывал грязные анекдоты, он же теперь старался размазывать их, всячески изукрашивать, варьировать и смаковать. И оборвать такого человека, подобно тому как Штейнгарт оборвал Грибского, было немыслимо: это значило бы пойти на крупный скандал, в котором, несомненно, принял бы участие и озлобленный товарищ Тропина – Стрельбицкий. Оба они еще с первых же дней свели дружбу с Юхоревым и все свободное от работы время неразлучно гуляли вместе по тюремному двору.
В тот самый день, как произошло примирение мое с Юхоревым, последний прибежал и торжественно заявил:
– Иван Николаевич! Мы с товарищами по-прежнему будем брать табак и пользоваться мясом. Мир – так уж, значит, мир в полной форме.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































