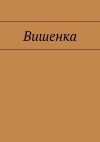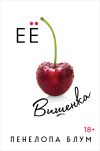Текст книги "Вишенка. 1 том"

Автор книги: Поль де Кок
Жанр: Литература 19 века, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
III. СТРАНСТВУЮЩИЕ КОМЕДИАНТЫ
В то время как Сабреташ устраивался на ночлег, радуясь своему неожиданному счастью, в зале нижнего этажа собралось довольно большое и шумное общество. Это была труппа странствующих комедиантов, приехавших в какой-то странной фуре, запряженной в одну лошадь, которая всю дорогу тащила их шагом. Что касается до галопа, то Вертиго (так звали лошадь) совершенно забыла о нем, с тех пор как принялась возить такую обширную коллекцию всевозможных талантов.
Труппа, остановившаяся в гостинице «Безрогий олень», состояла из одиннадцати человек – пяти женщин и шести мужчин. Некоторые из них играли в небольших парижских театрах, где не имели никакого успеха, в чем, однако же, ни под каким видом не хотели сознаться; другие играли на провинциальных сценах. Были среди них и те, кто вел кочевую жизнь, беспрестанно переезжая из одной местности в другую.
Познакомимся со всей труппой и начнем, разумеется, с дам. Госпожа Рамбур, толстая, коренастая особа лет сорока пяти, когда-то прехорошенькая и пикантная, но теперь обладательница красного носа и покрытого волосами подбородка.
Ее амплуа – благородная мать, и от прежде исполняемых ею рулад у нее осталось в голосе какое-то постоянное дрожание, которое приходилось очень кстати в особо чувствительных сценах.
Элодия, по мужу госпожа Кюшо, стяжала лавры первой певицы, с руладами или без рулад, смотря по необходимости, исполняла все первые роли, изображала герцогинь и принцесс. Это была высокая, чересчур худощавая блондинка с голубыми глазами, томный блеск которых, особенно при вечернем освещении, невольно притягивал взгляд. У нее были очень большие нога, но этого вовсе не было заметно, потому что она носила такие длинные платья, что все путалась в них.
Роли субреток и мольеровских служанок исполняла молодая женщина, отнюдь не красавица, но лицо ее было так полно жизни, движения, мысли и чувства, что она казалась очень и очень привлекательной, особенно когда, смеясь, блистала белыми ровными зубами. Ее звали Зинзинетой, и помимо непривлекательной внешности у нее имелся еще один недостаток: левая нога была значительно короче правой. Чтобы скрыть этот недостаток, она решилась никогда не ходить иначе, как вприпрыжку. К комическим ролям такая походка, пожалуй, подходила, но, когда ей приходилось олицетворять угнетенную справедливость, публика немало удивлялись «прыгающему несчастью». Так или иначе, но Зинзинета имела большой успех, и ее серо-зеленые глаза покорили немало сердец.
Четвертую из артисток звали Альбертиной. Это была женщина лет тридцати, очень еще не дурная собою, смуглая, полная с великолепным цветом лица. Голос же у нее был резкий, пронзительный и подчас совершенно хриплый, манеры грубоватые, и подчас даже не совсем приличные, но зато все компенсировали великолепная фигура и лицо. Ей предназначались эксцентричные роли, она исполняла все, что бы ее ни заставили, и была, в полном смысле этого слова, полезной актрисой. Влечение к театру появилось у нее довольно поздно, и, прежде чем стать актрисой, она много чем занималась, вот только об уроках пения и декламации она и понятия не имела. Однако она подчас неплохо справлялась с ролями. А главное – никогда и ничего не боялась.
Пятая актриса была мать Альбертины, огромная туша лет шестидесяти, вся в пятнах и угрях, звали ее госпожа Гратанбуль. Она уверяла, что когда-то с большим успехом исполняла роли молодых девушек, но со времени маленькой неприятности в виде печеного яблока, брошенного в нее из рядов неблагосклонных зрителей при исполнении роли Ложной Агнессы, навсегда отказалась от театра и всецело посвятила себя дочери и ее сценическим успехам. Но так как этого занятия оказалось недостаточно для того, чтобы быть принятой в члены странствующей труппы, то она взяла на себя обязанности костюмерши и суфлера. Последнее получалось у нее мастерски, за исключением четырех случаев, когда, невольно уступая своей слабости к рюмочке, она засыпала в суфлерской будке, и до сконфуженного артиста, вместо слов его роли, долетали только звуки богатырского храпа.
Теперь перейдем к мужскому персоналу.
Гранжерал, игравший роли благородных отцов или резонеров, был старик лет пятидесяти, среднего роста, с довольно приличными манерами, но холодный и до крайности однообразный во всех своих ролях. Он принадлежал к сословию зажиточных мещан и с молодых лет служил у нотариуса. Там он заразился страстью к театру, оказавшейся настолько тяжелой для него, как и для других, но которой он, к сожалению, не в силах был противиться. Однако же, отдавая дань избранной им драматической карьере, он кстати и некстати вставлял в разговор, что когда-то служил клерком. В сущности, это был честнейший человек в мире, но публика совсем не дорожит добродетелями актеров.
Следующий по списку господин Кюшо, мужчина лет тридцати шести, исполнял роли жеронтов[2]2
Персонаж старинной французской комедии, старик, которого обманывают хитрый слуга и молодые влюбленные.
[Закрыть], время от времени прихватывая также и роли старых солдат и пьяниц, которые играл с изумленной точностью. Недурен собою, одаренный громким, звучным голосом, он был душою общества: никто не шутил лучше, не смеялся громче его, и Элодии иногда даже приходилось унимать его. Это не мешало, впрочем, полнейшему согласию супругов, потому что Кюшо не принадлежал к числу мужей-ревнивцев и выше всего в мире ценил хорошую еду и питье.
Первые роли, а также роли маркизов и тиранов исполнялись красивым мужчиной, выбравшим себе довольно оригинальный псевдоним – Монтезума. В молодости женщины его избаловали, и он вообразил, что так будет продолжаться всю жизнь, но, увы, ему уже перевалило за сорок, и, несмотря на то примерное усердие, с которым он выдергивал седые волоски, несмотря на все косметические средства, с помощью которых он старался избавиться от морщин, победы его случались все реже.
Талант этого артиста состоял, главным образом, в умении выйти на сцену и раскланяться с публикой, а также в грации его поз, что объяснялось тем, что сценическую карьеру свою он начал с балета. Но так как ему ни разу не удалось сделать ловкого антраша, ни одного пируэта, ни полетов в оркестр, то ему поневоле пришлось изменить Терпсихоре с Талией и Мельпоменой, но он, даже против желания своего, сохранил привычку принимать грациозные позы, выворачивать ноги, по которой сразу можно узнать танцора. Такие балетные «дезертиры» в театре не редкость. У Монтезума воспоминание о прошедшем сохранилось до такой степени, что иногда казалось, что он намерен не проговорить, а протанцевать свою роль.
Что касается актерского дара, то в нем не было ни малейшей жизненной правды, но зато жару был такой избыток, что подчас это достоинство выходило совершенно в ущерб роли. Говорил он в нос, как-то резко и отрывисто; жесты его были всегда неуместны, но самые эти пороки и упрочивали за ним успех в провинциальных городах, где настоящего артиста непременно бы ошикали.
А вот и первый любовник (как же без него?) – молодой человек, лет двадцати четырех, не более, но уже порядочный повеса: он строен, ловок, у него маленькая нога, прекрасные, выразительные глаза, красивый рот с ровными, как жемчуг, зубами и густые волосы пепельного цвета. Одним словом, это был бы совершенный красавец, ежели бы не чересчур бледный цвет лица и не лежавшая на нем печать утомления, – доказательство не слишком-то воздержанной жизни молодого Анжело.
Но, как большинство своих собратьев, вместо того, чтобы пользоваться всеми дарами, которыми так щедро наградила его природа, и прилежно изучать искусство, которому он посвятил себя, Анжело оказался замечательным лентяем. Он проводил все дни свои в бездействии, и только об том и заботился, чтобы ему повеселиться, что, надо сказать правду, ему, с его наружностью, как нельзя лучше удавалось.
В труппе был еще один молодой человек, несколько старше Анжело, тонкогубый, с насмешливыми глазами и носом, загнутым вниз наподобие клюва. Он, конечно, далеко не хорош собою, но лицо имел выразительное, с печатью хитрости и ума. В труппе Дюрозо – так звали этого господина – играл роли молодых комиков, от Жокрисов до Фигаро. Впрочем, надо сказать, последняя роль ему больше соответствовала, потому что лицо его лучше выражало насмешку, нежели глупость.
Дюрозо был довольно начитан и очень неглуп во всех щекотливых обстоятельствах, к нему не раз обращались за советом, и благодаря его опытности труппа выпутывалась из очень неловких положений. Впрочем, нельзя не сознаться, что средства эти тоже подчас бывают довольно щекотливы и, во всяком случае, решительны до дерзости! Да, что ни говори, настоящий Фигаро, как нельзя лучше олицетворяющий эту личность!
Осталось познакомиться с последним членом труппы, неким Пуссемаром. Он не молод и не стар, но зато безобразен до крайности. Он одновременно занимает в труппе должности актера, режиссера, осветителя, костюмера, куафера, рассыльного и машиниста сцены, но главным образом дирижера оркестра, так как он довольно плохо пиликает на скрипке, что, впрочем, не мешает ему, при случае, играть роли нотариусов и амуров.
Пуссемар – это козел отпущения всей труппы; случалось так, что он, дирижируя оркестром во время увертюры, являлся в роли рыцаря в первом действии, в роли священника во втором и в роли дьявола в третьем. Положительно это его не смущало: этот уродец терзал скрипку до поднятия занавеса, затем через рампу перескакивал на сцену, бойко отыгрывал свою роль – и опять спрыгивал в оркестр, чтобы там снова приняться за смычок.
Для странствующей труппы такой человек был истинной находкой. Кроме всех вышеупомянутых нами должностей, он правил Вертиго и заботился о том, чтобы накормить ее овсом на привалах.
Теперь мы знакомы со всем составом странствующей труппы; в тех пьесах, где требовалось более женского персонала, нежели имелось в наличии, мужчины переодевались женщинами и фальцетом пищали женские роли. Соответственно, за недостатком мужчин переодевались в них не занятые в пьесе женщины. Из этого правила изъята была одна только госпожа Рамбур, потому что в числе даров, которыми так щедро наградила ее природа, был такой, какой никак не мог войти ни в какие панталоны и ни в какой из имевшихся костюмов.
IV. БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ ДРАМАТИЧЕСКИЙ РАЗГОВОР
В большом зале гостиницы, кроме стола, накрытого на одиннадцать приборов, стояли еще лавки, стулья, имелось два больших кресла. Над всем этим великолепием свисала большая люстра, завешенная голубым газом, сквозь который набилось видимо-невидимо пыли.
Три из особ женского персонала труппы сидели у окошка; благородный отец ходил взад и вперед по комнате; красавец Монтезума лежал на кушетке, задравши ноги кверху и закинув голову на сложенные под затылком руки. Кюшо и госпожа Гратанбуль уже уселись за стол; Дюрозо что-то черкал карандашом, а Пуссемар наблюдал за тем, чтобы стол был хорошенько накрыт.
– Нет, в этом трактире ужина, видно, совсем не полагается! – воскликнул Кюшо. – Нечего сказать, порядок тут незавидный!..
– Совершенно согласна с вами, – заметила мать Альбертины.
– Ну, потерпи немного, друг мой, – сказала Элодия, – успеем, к тому же ведь еще не все собрались, ты сам видишь.
– Ну так что же? Нам же хуже, если бы ужин был подан, мы бы уже, конечно, не стали дожидаться тех, кто опоздал. А кого нет?
– Зинзинеты и Анжело.
– Ишь ты! Обоих вместе! Как это странно… – захихикала толстая Альбертина. – Хорошо, что между нами нет злоязычных.
– Что ты хочешь этим сказать? – отрываясь от своих расчетов, спросил Фигаро, с некоторого времени имевший счастье пользоваться исключительным благоволением Зинзинеты. – Мне кажется, что ты своему языку даешь-таки порядочную волю.
– Вот дурак-то, вздумал обидеться простой шутке или, быть может, не на шутку ревнуешь?.. Ну, в таком случай, любезный друг, мне жаль тебя! – И, обращаясь к своим товарищам, Альбертина прибавила вполголоса: – Как бы не так, станет Зинзинета с ним церемониться! Не с Анжело свяжется, так с другим, не все ли равно…
Госпожа Гратенбуль, молча улыбнувшись словам дочери, между тем выбрала самый большой стакан.
– Скажи, пожалуйста, Дюрозо, сколько мы выручили чистого барыша в Фонтенебло? – спросил Монтезума задирая нос еще выше прежнего.
– Подожди, сам еще не знаю, дай сосчитать!
– Однако гроза-то собирается не на шутку! – Госпожа Рамбур отошла от окошка. – Я боюсь дольше оставаться тут.
– А я так люблю грозу, – заметил благородный отец, – это благородно, величественно!
– Да, когда сидишь под крышей, так очень величественно, – проворчал Пуссемар, – лишь бы Вертиго чего не надурила там, в конюшне.
– Чего ей там дурить?..
– Да она ведь тоже не любит грозы, прямо как госпожа Рамбур.
– Это еще что за новости? – раздался раздраженный голос почтенной артистки. – Вы находите, что я похожа на Вертиго, лошадь? Прекрасное сравнение, нечего сказать, прелюбезное сравнение! Вы любезнее ничего не могли сказать мне..
– Ну, теперь госпожа Рамбур разобиделась, – шепотом заметила Альбертина, потирая руки. – Ну до чего сегодня все слабонервны!..
– Это оттого, что в воздухе много электричества, – объявляет благородный отец, останавливаясь перед окном.
– Ишь ты! Гранжерал и в электричестве даже толк знает!.. Какой у нас ученый объявился! Я кое в чем тоже толк знаю, моя голубушка; кто был ‘ клерком у нотариуса, тот уж, верно, не осел какой-нибудь…
– Это еще не причина – мало ли ученых ослов!.. Это мне напоминает бедного Дюфло, мужа госпожи Дюфло, первой Лионской виртуозки. Уж на что глуп был, сердечный, а то и дело все ходил за кулисами, с книгою под мышкой, его так и прозвали ученым ослом. Ты ведь, впрочем, знаешь, милый мой Гранжерал, что это я вовсе не на твой счет говорю. Я тебя от души люблю!
– Да ведь я и не обижаюсь нисколько.
– Послушай, Гранжерал, зачем ты не пошел в нотариусы? – поинтересовалась госпожа Рамбур. – Кажется, что может быть лучше этого!
– Конечно! Я и сам знаю. Но что делать – это все проклятая любовь к театру! Уж как страсть одолеет человека, ничем в мире от нее не отвяжешься! Я видел на сцене Флери и с того дня решился, что я тоже буду актером.
– Желала бы я знать, что общего между ним и Флери! – Альбертина прикрыла рот платком, наблюдая за матерью, которая в эту минуту искала, нет ли стакана еще больше.
– Ну как бы там ни было, – продолжала старуха, – а тебе небось все-таки жалко, что ты не попал в нотариусы?
– Да не ему одному жалко, а всем нам, и публике тоже, – прошептала Альбертина.
– О нет, я этого не скажу, я в своей артистической карьере больших неприятностей не видал. Конечно, в другом положении я был бы значительно богаче.
– Ну, это было нетрудно, – пробормотала Альбертина, обращаясь к Дюрозо.
– Но для кого важны любовь к искусству и аплодисменты публики, тому другого богатства не надо!..
– А ужинать мы сегодня положительно-таки не будем! – Кюшо с мрачным видом раскачивался на стуле. – Быть этого не может! Что же этот трактирщик, забыл, что ли, о нас? Голубчик Пуссемар, отчего бы тебе ни заглянуть, что делается на кухне? Вот мило-то было бы с твоей стороны!
– Да, да, Пуссемар, ступайте, ступайте, – прибавила мать Альбертины, – у меня просто судороги в желудке начинаются.
– Иду, господа, иду.
В ту минуту как Пуссемар вышел из залы, в ту же дверь порхнула Зинзинета, напевая какую-то веселую песенку. Фигаро поднял глаза, строго взглянул на Дежазет и насмешливо заметил:
– Нам сегодня что-то необыкновенно весело, видно, на душе есть какая-нибудь радость…
– Да я, кажется, редко когда грустна бываю, – отвечала Зинзинета, поправляя прическу перед зеркалом, с которого сошла почти вся амальгама, поэтому все лица в нем казались зеленоватыми. – Что это с тобой сегодня, Дюрозо? Уж не хочешь ли ты со мною поссориться? Если да, так ты так прямо и говори. Я терпеть не могу придирок и сама всегда действую начистоту. Хочешь, что ли, разойтись со мною? Так говори прямо, мы с тобой сейчас же и покончим!
– Не угодно ли полюбоваться, – прошептала Альбертина. – Ну, если бы я была на месте Дюрозо, я бы знать ее не хотела после этого!
Но Фигаро, в расчет которого, по-видимому, вовсе не входила ссора с Зинзинетой, опять принялся за свои расчеты, проговорив в ответ:
– Те-те-те! Эк вы расходились, сударыня! Должно быть, гроза-то со всех сторон собирается не на шутку! Молчу, молчу, не сердитесь!
– И прекрасно делаешь, что молчишь.
– Ну что же, в конце концов какой результат в Фонтенбло? – спросил Монтезума, вновь переменяя положение и потягиваясь.
– Сейчас, сейчас, заканчиваю.
– Черт знает, что за зеркало! – воскликнула Зинзинета, возясь со множеством цветов и лент, так любимых провинциальными актрисами. – В нем лицо кажется каким-то желто-зеленым!
– Ну, я не знаю, в каком бы зеркале она увидала себя беленькой, – прошептала Элодия, обращаясь к Альбертине.
– Четыреста пятьдесят франков, шестьдесят сантимов чистого барыша! – самодовольно объявил Дюрозо.
– Да, это отлично! – заметила старуха.
– Да, мы имели дело с публикой, достойно сумевшей оценить нас, – сказал Гранжерал.
– О, публика была чудная! – воскликнула Элодия.
– Это тебе потому так кажется, что кто-то бросил дрянной букет! – Зинзинета, вскочив, принялась усердно вальсировать со стулом.
– Этот-то букет дрянной! Вот, душа моя, он был великолепен! Посредине была прелестная камелия.
– Вовсе не камелия, а георгин!
– Нет, камелия!
– Нет, георгин!
– Нет, камелия! А ты бы не отказалась от такого букета!
– Вот хитрость-то! Да если бы мне не на шутку захотелось такого букета, я бы купила его сама и дала бы десять сантимов мальчишке, чтобы он мне его бросил. Вот тебе и вся недолга!
– Что ты этим хочешь сказать, Зинзинета? Уж не воображаешь ли ты, что я сама поднесла себе букет, когда играла роль посланницы? Слышишь, Кюшо?.. Говорят, что ты сам бросаешь мне букеты.
– Я и не говорила, что это твой муж тебе бросил.
– Еще бы ты попробовала.
– Да уймитесь, что ли! Если бы мне кто бросил цветов или конфет, я бы и осведомляться не стал, кто это бросает.
– Фи, Кюшо, вы этого не думаете! – воскликнула госпожа Гратенбуль, которой всякий подобный разговор напоминал о грустном событии, заставлявшем ее отказаться от театра.
– Я думаю одно только, что нас хотят оставить без ужина, вот что я думаю, и мысль эта сильно тревожит меня… Но вот и Пуссемар. Послушайте, о добродетельный Пуссемар, вы, верно, знаете, отчего нам не дают ужинать? Не случилось ли какого-нибудь несчастного события на плите или в печке?
– Это все матлот задержал, – отвечал Пуссемар, занимая свое место, – если не он, так давно бы уж подали.
– И к чему вы выдумали этот матлот? – воскликнул Дюрозо. – Что за лакомка этот Кюшо! В Фонтенебло ему это в голову влезло!.. Пошли смотреть на карпов в пруду, а он как закричит: «Сварите мне одного из них!» Ну, не сумасшедший ли?
– Фи, какая мерзость! – заметила Зинзинета. – Ведь этим карпам, говорят, лет по двести от роду! Да я бы за деньги эдакой гадости не стала есть.
– Слушайте, господа, Дюрозо или шутит, или ошибается! Правда, что я просил себе в Фонтенебло вареных карпов, но вовсе не таких старых! Я слишком уважаю старость. Здесь я действительно спросил себе матлот, но что же тут дурного? Я до смерти люблю это кушанье. И притом же, когда есть средства… Когда люди получили громадные барыши, то почему бы и не позволить себе что-нибудь? Не правда ли, добродетельная Гратанбуль?
– Я совершенно разделяю ваш благоразумный взгляд на жизнь.
– Барыши! Да, пора-таки нам было заработать деньжат, а то уж куда плохо приходилось!..
– Ну вот, после засухи всегда бывает дождик!
– И у нас еще больше было бы денег, – заметил величественный Монтезума, лениво приподнимаясь, – если бы вместо «Посланницы» мы дали «Жоконда» как я вам предлагал.
– Почему же бы это «Жоконд» дал бы больше сбору?.. Потому что это твоя роль. Не так ли? – возразила Альбертина. – И что на афише стояло бы большими буквами: «Роль Жоконда будет исполнять господин Монтезума»?..
– Что ж, сколько мне помнится, эти объявления сбору никогда не мешали.
– Экий фат! Что значит, кого женщины-то избалуют! Ну, так что ж, и я ведь их тоже немало побаловывал!..
– А в Фонтенебло, Монтезума, ты сколько сердец победил? – насмешливо поинтересовался Дюрозо.
– Не знаю, право, любезный друг, я не записываю – время бы много отняло.
– Он бы, господа, на одни карандаши разорился.
– То есть провалился он в Фонтенебло, – шептала Альбертина, – что мое почтенье! Оттого-то он так и злится, что ему не удалось сыграть Жоконда. Он думал, что ему удастся свести интрижку с одной торговкой духами, которую видел как-то два раза в ложе, и, добыв себе адрес этой барыньки, он и отправился к ней ночью, да и давай тихохонько стучать в ставни. Но каково же было его удивление, когда дверь отворилась, и вместо барыни явился гарнизонный унтер-офицер и весьма неласковым тоном спросил что ему угодно. Этот бедняжка Монтезума не знал, что ему делать, и объявил, что ему явилась безотлагательная крайность в помаде… Ну-с, вынесли ему помаду, да и слупили с него четыре франка за одну банку!.. Я это наверное знаю, потому что сам унтер-офицер на другой день рассказывал это своим товарищам.
– А у тебя есть, конечно, знакомые в гарнизоне?
– Отчего бы нет, любезный друг, я очень люблю военную форму. Спросите у него, хороша ли у него помада, что-то он вам ответит?
– Экая змея, эта Альбертина, – сказала Зинзинета, обращаясь к госпоже Рамбур.
Старушка молча кивнула головой, запихивая себе в нос чуть ли не целую четвертку табаку сразу. Благородный отец, давно уже не произносивший ни слова, вдруг остановился посреди залы и таким тоном, как бы он собирался исполнять роль Мизантропа, начал:
– Дети мои, ежели мы захотим зашибить деньгу как следует и получить барыша больше, нежели за исполнение «Посланницы», и более, нежели за «Жоконда», то нам следует дать «Тартюфа». Да, что вы там ни говорите, а ничего в мире не может быть выше Мольера. Это отец театра. Кто служил у нотариуса, тот умет ценить классическую литературу.
– Это все прекрасно, – возразил Дюрозо, – и мы сами не хуже тебя, Гранжерал, ценим и понимаем классиков, но тем не менее понимаем и то, что публике нужно что-нибудь новое и что ей давно успело надоесть то, что она знает наизусть… Мы сделали тебе удовольствие, дали «Тартюф» в Корбейле… Ну, и что же вышло?.. Шестнадцать франков сбору… выгодная штука, не правда ли?..
– Это потому, что был ярмарочный день и все жители были заняты ярмаркой.
– Одно только действительно говорит в пользу комедии, – продолжал Дюрозо, – это то, что в комедии не нужна музыка, а для комической оперы необходим оркестр. А достать его подчас куда как не легко, да и не дешево.
– Как не дешево? Да у нас же всегда играют любители, которые с радостью идут к нам, лишь бы иметь даровой вход в театр и за кулисы.
– Да куда же они годятся! – воскликнула Альбертина. – Помните в Фонтенебло этого толстяка, который играл на валторне и вечно тянул несколькими тактами долее других? Как только приходится играть всем вместе, так только и слышишь, что тпру! тпру! тпру! Это дерет валторна. Все давным-давно кончили, а он все тпрукает. Как Пуссемар, который в этот вечер дирижировал, ни махал ему, каких ни делал ему знаков, ничто не помогало! Наш толстяк гудел себе да гудел.
– Это правда, – заметил Пуссемар, – зато контрабас все отставал: все играют, а он не начинал, а начнет, так не догонит.
– Странно! А как старался то! Я его заметила, молоденький такой! С таким усердием отжаривал! Я еще говорила: «Смотрите, у него завтра рука разболится!»
– Да, да, ведь я-то потом разглядел, в чем дело! Он перевернул смычок и водил по струнам деревом. Просто не только не знал, но и не видывал, как играют!
– Ха, ха, ха! Вот так музыканты!
– Он просто назвался любителем, чтобы пробраться в оркестр!
– Не глупо-таки придумано!
– Да, но теперь я уж прежде прослушаю этих любителей, а потом уж допущу их, а то если все так заиграют, так это пению не велика будет поддержка.
Дверь отворилась, и в зал вбежал молодой Анжело и с неописанным восторгом возвестил своим товарищам:
– Ах, друзья мои!.. Какая находка!.. Что за сокровище!.. И подумать, что все это скрывалось в каком-то ничтожном трактиришке, так и погибло бы, так и заглохло бы, ежели бы мы случайно не попали сюда… Но мы ее здесь не оставим!.. Вы тоже не видали ее?..
– Да ты про кого толкуешь-то?
– Мы не понимаем, в чем дело.
– Ты с нами поделишься своей находкой, Анжело?
– А какое это сокровище, в чем оно состоит?
– В чем?.. В прелестнейшей молодой девушке!.. Красавица собою, вся точно точеная, точно вся сахарная.
Мужчины хохочут, женщины с досадою пожимают плечами, а Альбертина ворчит:
– Стоило всех нас заманивать каким-то сокровищем, чтобы свести все к служанке из трактира!..
– Ничего на свете не знаю несноснее этого Анжело, – Зинзинета раздраженно пожала плечами. – Кого ни увидит, сейчас влюбится. В такой придет восторг сначала!.. А скоро и разочаруется!
– Нет, а главное то, – вмешалась Элодия, – нам-то что за дело, что он встретил тут хорошенькую девушку?.. Ведь не заставит же он ее дебютировать у нас!.. Во-первых, нас и без нее много, а во-вторых, и в хорошеньких женщинах, господа, мне кажется, тоже недостатка нет!
– Нет, этого нельзя сказать, – старуха скривила губы, стараясь состроить приятную гримасу, – хорошеньких женщин нам, слава богу, не занимать…
– Уж где мы с дочерью, – вмешивается госпожа Гратенбуль, – там в хорошеньких женщинах недостатка нет!
– Ах, боже мой, – с пылом возразил Анжело, – у меня и в уме не было вас обижать! Никто лучше меня не может оценить те достоинства и прелести, о могуществе которых я имею возможность судить ежедневно!
Эти слова вызывают улыбки дам и неудовольствие мужчин, но первый любовник, не стесняясь этим, продолжает:
– Но это не мешает мне сознавать, что в этой гостинице есть прелестная молодая девушка, одаренная свежим, роскошным голосом, одним из тех голосов, которыми природа изредка только награждает своих баловней… таким голосом, в котором лежит целая будущность, ежели только заняться им хорошенько!..
– Вот еще новость-то!.. Он хочет уверить нас, что это Гризи[3]3
Гризи Джулия (Guilia Grisi) – знаменитая итальянская певица (1811–1869).
[Закрыть] или Малибран[4]4
Малибран (Marie-Felicite Malibran) – знаменитая итальянская певица (1808–1836).
[Закрыть], которая чистит лук в ожидании дебюта!
– А почему бы и нет! Ведь мало ли талантов открыто таким образом, случайно. Не она первая, не она последняя.
– А почему ты знаешь, что у нее такой славный голос? Что, она пела при тебе какую-нибудь деревенскую песенку или глупую плясовую?
– Да ведь это не мешает судить о достоинстве голоса.
– То есть как тебе сказать?.. Мальбрука-то, пожалуй, споет всякий, а заставь-ка ты свою кухарку спеть нам арию из оперы «Севильский цирюльник», так нам придется уши заткнуть.
– Милостивые государыни, – провозгласил торжественный Монтезума, – принимая такую позу, как бы он собирался танцевать менуэт, к чему весь этот спор? По моему мнению, необходимо прежде надеть и потом уже судить. Если Анжело так настоятельно уверяет, что в этом доме есть скрытый талант, который с честью может появиться на подмостках первых европейских театров, мы сегодня же непременно прослушаем ее, и если действительно у нее окажется голос – способный дать десять тысяч франков годового дохода, то тогда… тогда…
– Тогда мы попросим ее греть наши постели, – сказала Альбертина, обращаясь к женскому персоналу труппы.
Но в эту самую минуту вошел в комнату господин Шатулье, в сопровождении своего слуги Франсуа, несшего в руках блюда, от которых подымался густой ароматный пар.
– Ах, черт возьми! Наконец-таки вот и ужин! – воскликнул Кюшо. – Слава тебе господи, давно пора!.. Ну, за стол, господа, за стол!.. Никто не мешает вам за столом продолжать ваши рассуждения по поводу этого восьмого чуда, которое Анжело посчастливилось отыскать… Что до меня касается, то я раньше десерта не желаю даже видеть ее, а то боюсь, как бы ее присутствие не отняло у меня аппетит; на меня всегда все дивные явления природы производят такое странное действие.