Текст книги "Образ врага"
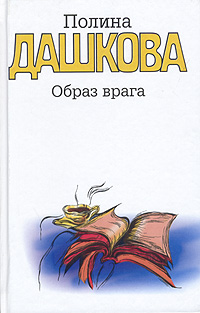
Автор книги: Полина Дашкова
Жанр: Триллеры, Боевики
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Эйлат, январь 1998 года
– Алиса Воротынцева, тридцать пять лет. Родилась и живет в Москве. По специальности архитектор. Последние два года работает в российско-австрийской строительной компании «Сатурн». Не замужем. Сын Максим Воротынцев десяти лет. Пока все.
– Спасибо, сэр. Это я уже и так знаю.
– Я мог узнать значительно больше, если бы обратился за помощью к моим людям в МОССАД. Слушай, а может, нам сочинить какую-нибудь легенду про эту твою Алису? Было бы разумней сначала выяснить о ней как можно больше, а потом уж…
– Нет, сэр. Ни в коем случае.
– Почему? Мне кажется, это неплохая идея. Ты не хочешь, чтобы МОССАД заинтересовался ею в связи с Майнхоффом. Ты нащупал эту связь и не хочешь, чтобы кто-то перехватил инициативу. О’кей, я могу сочинить нечто совсем невинное.
– Нет.
– Это твое дурацкое упрямство? Или есть конкретные причины?
– Она знакома с Бренером.
– Что?!
– Я узнал об этом два часа назад. В ресторане. Там работал телевизор, по новостям Си-эн-эн показали фотографию, назвали имя. Она прямо подпрыгнула на стуле. Потом сказала, что знала его в детстве. Они были соседями.
– Ну, ты опять все усложняешь. Это может оказаться простым совпадением. Бренер уехал из России в семьдесят восьмом. Ей было тогда пятнадцать лет. Хотя, конечно, если сейчас об этом узнают израильтяне, они могут ухватиться. Они, разумеется, сразу выяснят, что ты живешь в соседнем номере, играешь в мячик с ее сыном, и такая заварится каша… Не дай Бог. Уж они-то не поверят в совпадение и станут копать.
– Я тоже не верю в такие совпадения. Здесь что-то другое.
– Просто ты боишься, что рассыплется вся твоя версия с русской.
– Почему рассыплется?
– Да потому что, если бы ее знакомство с Бренером было каким-то косвенным образом связано с похищением, она бы не стала болтать об этом.
– А может, она придумала такой ход, чтобы проверить меня? Посмотреть реакцию?
– Если она все-таки агент, то ход слишком прямой, глупый и опасный. По-моему, она вообще ни при чем, эта Алиса, поверь мне на слово. Ты идешь по ложному следу. Я живу на свете уже шестьдесят восемь лет и сорок пять из них работаю в разведке. На моем веку было столько невероятных, многозначительных совпадений, которые на поверку оказывались нелепой случайностью… Мой первый шеф, легенда ЦРУ Грегори Нэт, говорил: «В нашей игре блефуют все, в том числе и господин Случай. Но, в отличие от прочих игроков, его невозможно поймать за руку».
– Сегодня днем она преспокойно отдает проявить пленку, на которой заснят Майнхофф, в первый попавшийся ларек «Кодак». Потом по дороге с пляжа заходит за снимками. Заметьте, со мной вместе. И тут оказывается, что готовые снимки уже кто-то забрал.
– То есть?
– Некий мужчина потерял квитанцию, стал искать среди конвертов и по ошибке забрал именно ее конверт. Алиса, узнав об этом, бледнеет, пугается, начинает расспрашивать, как он выглядел.
– И как он выглядел?
– Это был Майнхофф. Я потом подошел к ларьку с его фотографией. Что, тоже совпадение? Блеф господина Случая?
– Нет… вот это уже не похоже на блеф. Подожди, ты сказал, она опять испугалась, как тогда, в кафе?
– Да, это было не удивление, не огорчение, а именно испуг. Паника в глазах.
– Она боится Майнхоффа… Ты прощупывал ее потом насчет фотографий?
– Разумеется. Я спросил, когда мы сидели в ресторане, почему она так расстроилась. Она ответила, что уже забыла о них, и мягко переменила тему. Мы говорили о чем угодно – о феминизме, о «новых русских». Ну а потом по телевизору показали сюжет про теракт в Беэр-Шеве, и она сильно разволновалась, сказала, что Бренеры были их соседями. Честно говоря, у меня голова идет кругом. Не верю в простое совпадение.
– Пожалуй, я сегодня же свяжусь с нашим сотрудником в Москве. Адрес, по которому жил Бренер, можно выяснить через голландское посольство. Бренер уехал в семьдесят восьмом, тогда все выездные визы в Израиль оформлялись через голландское посольство. У них в архивах должен быть его московский адрес. А вот про твою красавицу будет сложней получить информацию. Попробуй сам осторожно расспросить ее, пусть скажет, хотя бы приблизительно, где она жила в детстве.
– Район проспекта Мира, Трифоновская улица. Разумеется, почтовый адрес я не спросил. Она сказала, дом давно снесли.
– Ну что ж, это уже немало.
* * *
Алиса погасила бра над Максимкиной кроватью, поправила одеяло и вдруг застыла, вслушиваясь в мягкую ночную тишину. Совсем близко, у стеклянной двери, что-то сухо, быстро прошуршало. Потом – легкий глухой щелчок.
Можно сойти сума, если вздрагивать от каждого звука. Это пальмы шуршат. И чайник выключился. Алиса налила себе чаю, достала банку вишневого джема и шоколадное печенье. Хорошо выпить горячего чайку ночью, на улице, под раскидистой пальмой. А потом выкурить сигаретку, почистить зубы, лечь спать, свернуться калачиком под теплым гостиничным одеялом и вообще ни о чем не думать…
Да, теперь уж ясно, Карл Майнхофф жив и находится здесь, в Израиле. Он сидел в забегаловке у рыночной площади. Он взял фотографии. Господи, ну почему ей пришла в голову эта идиотская идея – заснять его? Теперь он точно ее узнал и понял, что она его узнала. «Здравствуй, Карлуша. Давно не виделись».
Алиса поежилась, накинула куртку, тихонько приоткрыла стеклянную дверь. Внутренний двор гостиницы освещали яркие фонари, отлично просматривался каждый уголок, только под широкими пальмовыми ветками оставались куски глухой черноты.
«Ну что ты дергаешься? Зачем ты ему нужна?» Алиса усмехнулась, сунула руки в рукава куртки, вынесла во двор чашку, джем, вазочку с печеньем, сигареты, уселась в пластиковое кресло.
«То, что произошло в Беэр-Шеве, скорее всего, его работа. – Она съела ложку джема, отхлебнула чаю. – Ему сейчас не до тебя. У него очередной теракт. Он занят по горло».
Она изо всех сил старалась успокоиться, она заставляла себя думать о чем угодно, только не о Карле Майнхоффе.
Чай был крепкий, с привкусом ежевики. Джем густой и прозрачный. Отличный джем. Жаль, что Максимке не нравится. Он вообще из всех сладостей любит только шоколад и мороженое. Алиса тоже в детстве не любила всякие джемы и варенья, зато мороженого могла съесть полкило сразу, не переводя дыхания…
Она пыталась самой себе заговорить зубы. Довольно глупое занятие. Но очень уж было страшно. Она думала о Натане Ефимовиче Бренере и вспоминала детство, коммуналку на Трифоновке.
Алиса знала это свое идиотское свойство – когда происходило что-то плохое, она начинала мысленно путешествовать по крошечному миру трифоновской коммуналки. Лучшим лекарством от всяких депрессий, обид, неприятностей были теплые мелочи из прошлой, почти инопланетной жизни.
Это был ее личный, тайный маленький рай, пахнущий жареным луком, кипяченым бельем, наполненный звуками бравых радиопесен. Черный пластмассовый динамик висел высоко над дверью, его забывали выключать, и многие годы каждое утро сквозь сладкий, густой туман детского сна прорывались одни и те же слова: «Доброе утро, товарищи. Начинаем утреннюю гимнастику. Встаньте прямо. Руки в стороны. Ноги на ширину плеч…»
В маленькой темной кладовке прятались на летнюю спячку зимние вещи, громоздились старые чемоданы, облезлый сундук, поломанная мебель. Хрустели под ногами сухие апельсиновые корки, которыми перекладывали жалкие советские меха мама и тетя Маня Бренер. Но ни корки, ни нафталин не спасали от моли.
Как-то Алиса налетела в темноте на собственные фигурные коньки, висевшие на гвоздике у двери. До сих пор под левой бровью остался тонкий незаметный шрам.
Однажды они с Сережкой сожрали вдвоем килограммовый торт-мороженое в темной кладовке. Бренеры купили торт для гостей, а Сережка стащил из холодильника, и они уничтожили его наперегонки, большими ложками, минут за пять, наверное. Испачкали мамину шубу и зимнее пальто дяди Натана. А потом оба заболели ангиной и перестукивались через стенку.
Интересно, каким стал Сережа? В детстве он был пухлый, курносый, голубоглазый. По дороге из школы они заходили в булочную, покупали длинный батон за двадцать две копейки. Алиса съедала обе горбушки, а Сережа все остальное.
В пятом классе их обоих исключили из пионеров. Они остались после уроков делать стенгазету к 7 Ноября, Алиса выводила гуашью заголовки, Сережа наклеивал картинки. Это было довольно скучное занятие, они часто отвлекались, чтобы поупражняться в стрельбе из трубочки комочками жеваной бумаги.
Строго говоря, это была не стрельба, а плевание. Они никак не могли решить, кто более меткий плевальщик, и устроили соревнование. Лучшей мишенью оказался портрет Ленина, висевший над доской. Они так увлеклись подсчетом попаданий и промахов, что не заметили застывшего в дверях старшего пионервожатого, который зашел посмотреть, как дела с праздничной стенгазетой.
На следующий день на собрании совета дружины с них торжественно, под барабанную дробь, сняли галстуки. Назад в пионеры потом не приняли, но к восьмому классу история забылась сама собой, и в комсомол приняли, как всех, для статистики.
Все это было в другом веке, на другой планете. Дом на Трифоновке давно снесли. От маленькой коммуналки, в которой жили всего две семьи, Воротынцевы и Бренеры, не осталось даже легкой пыли. Надо быть инфантильной идиоткой, чтобы прятаться от реальной опасности в свой тихий детский рай, забиваться, словно в темную кладовку, на донышко собственной души.
«Ну хорошо. Я не буду инфантильной идиоткой. Я попробую спокойно, разумно разобраться, чем конкретно для нас с Максимкой сейчас опасен Карл. За свою бурную бандитскую жизнь он встречался с сотнями людей, и по теории вероятностей десятки из них могли где-то случайно узнавать его, через многие годы, при самых неподходящих обстоятельствах. Он же не может каждого сразу убивать! А после такого теракта ему надо быстро сматываться из страны, его разыскивает вся израильская полиция. Он уже в Египте или в Иордании…»
– Стоп. Фотографии он забрал сегодня. Значит, он еще здесь и следил за нами. А может, заявить в полицию, что я видела Майнхоффа? Нет, у меня определенно едет крыша. Я ведь не знаю никакого Карла Майнхоффа. Я с ним нигде никогда не встречалась. Никогда… – Алиса произнесла это вслух, громким шепотом.
И тут же замерла, перестала дышать. Прямо у нее за спиной, у толстого ствола огромной пальмы, кто-то стоял не двигаясь и смотрел ей в затылок. Она не слышала ничего, кроме шороха пальмовых листьев. Дерево было подсвечено фонарем, четкая тень ложилась на газон перед бассейном. У дерева стоял человек. Было видно, что он чуть прислонился плечом к стволу.
Алиса окаменела, во рту пересохло, столбик пепла упал на пластиковый стол рядом с пепельницей. Тень отделилась от ствола, и рука легла Алисе на плечо. Она вздрогнула так сильно, что опрокинулась чашка с недопитым теплым чаем.
– Алиса, простите, я напугал вас. Вы, конечно, не спите. Добрый вечер. Зря вы отказались прогуляться со мной до пирса.
– Деннис, вы подошли так тихо… простите. – Она быстро встала, зашла в номер и тут же вернулась, принялась вытирать бумажным полотенцем чайную лужу на столе.
– Можно, я посижу с вами? – спросил он уютным шепотом и тут же уселся в кресло, не дожидаясь ответа. – Жаль, я не знаю русского. Вы как будто думали вслух.
– Серьезно? Я говорила сама с собой?
– Да. У меня такое тоже бывает, когда устаю или нервничаю. Хотите выпить?
– Хочу.
Он скрылся в своем номере на несколько минут, вернулся с маленькой плоской бутылкой и двумя гостиничными стаканами.
– Это коньяк. Ваше здоровье, Алиса.
Они тихо чокнулись. Коньяк был сейчас действительно кстати. И если честно, Деннис тоже.
Ветер усилился, пальмы тяжело раскачивались, отбрасывая тревожные причудливые тени. Матерчатый зонт над столом вывернулся наизнанку.
– Сейчас пойдет дождь, – тихо сказал Деннис, – может, посидим немного в моем номере?
– Спасибо, нет. Поздно уже, пора спать.
– Можно было бы и у вас, но мы разбудим Максима. И потом, вы меня не приглашаете. Я вам здорово надоел?
– Нет еще, – она усмехнулась, – вы простите, Деннис, я веду себя по-хамски. Я бы с удовольствием посидела у вас в номере, но лучше все-таки на воздухе.
– Это я веду себя как приставучий хам, – он кашлянул, – вам неловко встать и уйти. Холод, ветер, вы мерзнете из вежливости. Неужели вы думаете, что в номере я наброшусь на вас, как тигр? Неужели я произвожу такое скверное впечатление?
– Перестаньте, Деннис. Я ничего такого не думаю. И мерзну вовсе не из вежливости. Просто я лучше засыпаю, если перед сном подышу воздухом.
– Вы больше курите, чем дышите… – Он налил еще коньяку. – Знаете, я хочу выпить за вашего бывшего соседа, профессора Бренера. За его здоровье. Вы хорошо его помните?
– Конечно. Мы пятнадцать лет жили в одной квартире. Только он тогда не был профессором. Как вы думаете, зачем он понадобился террористам?
– Здесь все время кого-то похищают. И без конца что-то взрывается. А Бренера, скорее всего, взяли в заложники. Будут требовать, чтобы выпустили из тюрьмы очередную порцию бандитов.
– Ну, вы преувеличиваете, Деннис. Такие теракты, как этот, случаются не часто. А если бандитов не выпустят?
– Не знаю. Все зависит от террористов. Но я бы не хотел оказаться на месте профессора Бренера. Вы волнуетесь за вашего бывшего соседа?
– Разумеется, волнуюсь. У меня остались о нем самые добрые воспоминания. Мы не виделись двадцать лет, но столько всего связано, практически все детство…
Деннис ничего не ответил. Он сидел так, что на его лицо падала тень пальмы. Алиса опять чувствовала его странный, напряженный взгляд. Это было неприятно. Она встала.
– Вот теперь я действительно замерзла. И глаза закрываются. Спокойной ночи, Деннис. Спасибо за коньяк.
Глава 11
Торжественное собрание партии «Русская победа» проходило в помещении Дома культуры имени Александра Матросова, на окраине Москвы.
Актовый зал был украшен алыми знаменами со свастикой. Раскоряченный четырехлапый паук, жирный, черный, обведенный тонкой кровавой рамкой по контуру, в белом круге, красовался на огромном алом транспаранте над сценой, на рукавах аккуратной, с иголочки, униформы членов партии, на блестящих партийных значках, приколотых к груди.
Черные гимнастерки, туго перетянутые портупеей, черные береты, лихо надвинутые на бровь, начищенные до зеркального блеска сапоги, строгие прямые юбки у женщин, казачьи галифе у мужчин.
Основную массу, полторы сотни униформистов, составляли юноши и девушки от пятнадцати до двадцати двух лет. Чистые, ясные лица, строгие прически. Никаких косметических излишеств у девушек, никаких хвостиков и серег у молодых людей. Сдержанные голоса, здоровые белозубые улыбки. Ни одного нецензурного слова в гуле общих разговоров.
Они нравились самим себе в этой форме, на этом серьезном, взрослом мероприятии. Они были причастны к важному, таинственному делу – к спасению отечества и всей планеты от дурной, неправильной крови, от ошибок развития Земли и цивилизации, от оплошностей самого Господа Бога. Они чувствовали себя людьми будущего, элитой, на плечах которой взойдет новое, здоровое, чистокровное человечество.
Что бы они ни делали, они были правы изначально, потому что у них правильная, чистая кровь. Приятно чувствовать себя человеком, правильным во всех отношениях. Молодые сильные русские арийцы. Последняя надежда нации.
Красивую толпу несколько портили люди среднего и пожилого возраста. Сочувствующие. Неопрятные, нечесаные тетки в перекрученных колготках. Дядьки с небрежно закрашенной сединой. Представители простого обиженного народа.
Вечная каста народных мстителей, городские сумасшедшие с разными формами параноидального бреда и истерической психопатии. В спокойные времена они тешат свое безумие склоками в очередях и в общественном транспорте, доносами на соседей, оглушительными, с летящей слюной, воплями на детей во дворе. Но нет благотворней стихии для них, чем смута государственного масштаба. Они оживляются необычайно, они бодры и полны юношеского задора, они с восторгом вливаются в ряды всяких экстремистских партий, суть коих – все тот же параноидальный, слюнявый, завистливый бес разрушения.
Толпа дисциплинированно рассаживалась. В первых рядах молодые униформисты. Сочувствующие – сзади. В проходах между рядами и у дверей – вооруженная охрана в черной форме. Настоящие пистолеты в кобурах. Финки в ножнах. Широко расставленные ноги в сверкающих сапогах. На рукавах свастика. Бритые затылки. Внимательные взгляды исподлобья.
Наконец ударил гонг. На сцену, в президиум, поднялось несколько человек. Мужчины средних лет с суровыми лицами. В одном можно было узнать изрядно располневшего, известного когда-то киноактера, в другом – писателя, автора пары книжонок про мировой жидо-масонский заговор. Был еще депутат Думы от фракции коммунистов, рядом – отставной полковник ВВС, за ним – колдун-экстрасенс, не слезавший с телеэкрана в конце восьмидесятых. Замыкал шествие широкоплечий плейбой по имени Гарик, который прошлым вечером так неудачно поиграл в бильярд с кавказским авторитетом Азаматом Мирзоевым.
Все, кроме актера и экстрасенса, были одеты в черную униформу. Почетный караул по бокам сцены, у знамен со свастикой, отборные, самые красивые девочки и мальчики вытянулись по струнке. Зал поднялся. Две сотни рук вскинулись в фашистском приветствии.
В радиорубке что-то затрещало, из динамиков шарахнул бравурный немецкий марш времен Второй мировой в исполнении духового оркестра.
Русские люди, сомкнемся рядами
за чистоту нашей крови святой!
Звездная свастика реет над нами,
нашей победы орел золотой!
Плейбой Гарик, он же Авангард Цитрус, слушал, стоя на сцене вместе с прочими членами почетного президиума, как хор в две сотни голосов поет гимн, сочиненный им, Авангардом Цитрусом, на музыку нацистского марша пятнадцать лет назад после долгой унылой пьянки и болезненной гомосексуальной любви в заплеванном, провонявшем окурками и мочой крошечном номере дешевой гостиницы в Бронксе. Он снимал ту поганую комнатенку за триста долларов в месяц вместе со своим черным жирным любовником Джимми.
Если бы тогда, в грязном, пьяном, нищем восемьдесят третьем году, кто-нибудь показал ему, безымянному поэту, несчастному эмигранту из России, кадры вот такого красивого светлого будущего, он бы решил, что это глюки, похмельные галлюцинации. Ничего этого не было и быть не могло. Он дурачился, сочиняя на музыку нацистского марша идиотские стишки.
Из волшебной гармонии хора иногда выбивался неприятным визгом какой-нибудь особенно взволнованный женский голос.
Цитрус оглядывал лица в зале. Молодые, чистые, здоровые лица. Старые пердуны и пердуньи не в счет. Можно проскользнуть глазами. Они – досадное бесплатное приложение. Орут громко, продают газеты, ни копейки не требуя за свой труд, работают на благо партии, во имя светлого национал-патриотического будущего. Они готовы разбить любую телекамеру, перегрызть глотку любому дотошному, наглому журналисту. Они не боятся милиции и смело вступают в перепалки с официальными властями. Им нет цены на демонстрациях. Им, сумасшедшим, все можно. Их не жаль сдавать и терять. Однако смотреть противно…
Последние аккорды гимна угасли.
Вступительное приветствие произнес отставной полковник. Он говорил кратко, скупо, не слишком эмоционально. Он брал не ораторским искусством, а загадочной мрачностью. Его стихией была не трибуна, а стрельбище, полигон. Он руководил военной подготовкой боевиков.
Цитрус, скучая под чужие речи, продолжал оглядывать лица в зале, повернулся направо, встретился взглядом с ярко-голубыми большими глазами пятнадцатилетней Маруси Устиновой. Девочка стояла на сцене в почетном карауле и, не отрываясь, глядела на Цитруса.
Наконец ему предоставили слово. Он не спеша поднялся на трибуну, сдержанно поклонился залу, потом с улыбкой потряс сплетенными над головой руками.
– Да здравствует Цитрус! – взвизгнул истерический женский голос из задних рядов.
– Авангарду Цитрусу ура! – подхватил петушиный тенор.
– Товарищи! – произнес он в микрофон, выдержав долгую паузу и дождавшись гробовой тишины. – Сегодня светлый день. Мы отмечаем пятилетнюю годовщину нашего национально-освободительного движения…
Он никогда не говорил по бумажке. Не готовился заранее. Любая его речь была блестящей импровизацией, и аудитория чувствовала это.
– Мы – последний оплот нашего униженного отечества. Мы – надежда России, ее здоровье, ее судьба, лучшее и единственное, что осталось в нашей растерзанной жидовствующими дерьмократами отчизне! (Аплодисменты.) Мы все страдаем от изъянов нечистой крови, нас, русских, осталось так мало, и с каждым днем все меньше. Полукровки, метисы, уроды, отбракованные самой природой, лишенные корней, пытаются навязать нам свой уродливый образ жизни, свое гнилое мышление… мышление ублюдков… (Бурные аплодисменты.) Все, что не является полноценной расой, плевелы, смрадный мусор гниющей цивилизации. Мы суть нации, мы ее энергетический потенциал… (Бурные аплодисменты, переходящие в овации.) Более сильное поколение отсеет слабых, жизненная энергия разрушит нелепые связи так называемой гуманности между индивидуумами и откроет путь естественному гуманизму, который, уничтожая слабых, освобождает место для сильных… Ленивый и вялый обыватель с удовольствием будет приветствовать пинок в зад, который выпрямит и взбодрит его… Он грезит отдать в фашисты сына и выдать за фашиста дочь. Он интуитивно чувствует здоровое, живое начало, пульсирующий, налитый свежей, здоровой кровью молодой и крепкий корень жизни… Юные женщины России грезят о настоящих мужчинах, тех, которые изведут полукровок-уродов, пузатых бизнесменов, жирных, тупых политиков. Наконец можно будет восхищаться мужиком и, держась за его крепкую руку, прогуливаться с ним, вооруженным фашистом, по улицам ночных городов России. А к утру счастливо забеременеть от него… (В зале визг, бешеные аплодисменты, слезы на глазах у пожилых женщин.) Запад зайдется в экстазе, если в России победит хищный молодой зверь. Его молодой и сильный животный запах уже сопутствует России, и домашние животные нашей политики ревут и плачут в ужасе, предчувствуя его клыки на своих жирных шеях… Наконец исчезнет из словаря скучное слово «экономика», мерзкое слово «демократия», и популярным станет чувственное «трибунал». Жалость может нас только поссорить и деморализовать…
Он был мастером эффектных пауз. Зал замирал, не дышал. Затылком он чувствовал зависть президиума. Васька Панкратов, писатель, тихо посапывал от внимательной злости. Слабо ему, бывшему второму секретарю парторганизации Союза советских писателей, вот так говорить, чтобы не дышала и томилась любовью толпа слушателей.
Боковым зрением он видел Марусю Устинову, замечал, как теплеют, наливаются влагой ее большие голубые глаза, и уже ощущал горячее покалывание в паху.
Ничто не заводило его так, как восторженное внимание зала. Толпа отдавалась ему, словно шлюха в подворотне, словно королева в розовом будуаре. Он сам придумал этот образ – толпа-женщина, теплая, влажная, готовая на все.
По воспоминаниям современников, Адольф Гитлер испытывал иногда оргазм, выступая перед многотысячной аудиторией. Поговаривали злые языки, что ему приходилось использовать в штанах специальные прокладки. Авангарду Цитрусу дано было испытать такие же сладкие содрогания, поэтому он предпочитал кожаные джинсы. Дыхание делалось частым, тело напрягалось, как струна. Соленый пот, жгучая сладкая судорога.
Не важно, что он говорил. Толпа заводилась от ритма, от звука его низкого, хриплого голоса, от его лица, такого мужественного, твердого. Он часами отрабатывал мимику и пластику перед огромным зеркалом в спальне. Он становился в разные позы, устанавливал зеркала под разными углами, чтобы видеть себя сбоку и со спины.
– Есть высшая справедливость. Справедливость сильных и здоровых. Выродки-полукровки со своей гнилой буржуазно-христианской моралью, со своей дряхлой болезнетворной гуманностью должны быть стерты с лица земли, выжжены очистительным огнем высшей справедливости. (Овации, стоны, женский визг в зале.) Нас много, гораздо больше, чем они думают… Мы не одиноки в своей борьбе. С нами братья арийцы из Германии. Всего несколько дней назад я встречался (стоп, Гарик, притормози!)… я встречался с лучшими представителями известных организаций… Я не могу назвать имен, даже среди своих… Эти люди рискуют ради нашего великого дела… Они сейчас в самых горячих точках, они в Сараево и в секторе Газа, они в Грузии и в Чечне, с афганскими моджахедами и с боевиками «Красного передела». Они огненный нерв эпохи. Они наши братья…
Зал тяжело дышал. Маруська таяла, бледнела и краснела, стоя по стойке «смирно» у партийного знамени.
– Сегодня, празднуя пятилетний юбилей, оглянемся на пройденный путь. – Цитрус продолжал вещать с трибуны уже спокойней, на выдохе. – Сколько нас было, когда мы начинали? А сколько нас сейчас?..
Пора закругляться. Напряженное внимание к оратору не может продолжаться больше десяти минут. Оно сдувается, как воздушный шарик, и повисает скучной тряпочкой. Уже послышались осторожные покашливания, стулья стали поскрипывать, лица поблекли. Почетный караул переступал с ноги на ногу. Маруся Устинова опустила глаза и внимательно рассматривала носки своих начищенных сапожек. Пора слезать с трибуны. Пусть покашливания и поскрипывания достанутся другому.
После торжественной части Маруся Устинова подошла к Цитрусу, осторожно тронула за рукав и, краснея, опуская глазки, произнесла чуть слышно:
– Авангард Иванович, давайте отойдем куда-нибудь в сторонку. Очень серьезный разговор.
Писатель Васька Панкратов многозначительно хмыкнул. Экстрасенс Золотцев сделал понимающе-приторное лицо.
– Ну что, Марусенька, устала стоять в почетном карауле? – Цитрус приобнял смущенную девочку и повел в уголок, за журнальный столик.
В гуле голосов вряд ли кто-то мог их услышать. Но Маруська все равно говорила отрывистым шепотом.
– Гарик, это кошмар какой-то… отец уже написал заявление в прокуратуру. – В чистых голубых глазах стояли слезы. – Он никогда не понимал меня… Я ему говорю, что люблю тебя и жить без тебя не могу. А он орет, ничего слышать не хочет. «Посажу твоего старого кобеля! А тебя, шалаву малолетнюю, выгоню вон, чтобы духу твоего в моем доме не было!»
Девочка еле сдерживала рыдания, всхлипывала, трогательно, по-детски шмыгая носом, хмурила бровки и делала страшные глаза, изображая в лицах разговор с отцом.
– Я его знаю, он доведет дело до конца, он может, у него есть связи… Гарик, я так не могу больше, – она уткнулась лбом в его плечо, – давай уедем куда-нибудь за границу.
– Конечно, детка, конечно, маленькая моя. – Он погладил розовую нежную щечку. – Ты, главное, не нервничай.
– Если бы ты слышал, как он орал на меня… матом… Я думала, убьет на месте. А главное, заявление уже написал. Из дома выгоняет.
– Поживешь у меня.
– Нет. – Она судорожно всхлипнула и высморкалась в бумажный платочек. – Он не успокоится. Только деньгами ему можно пасть заткнуть, больше ничем. Ты достал деньги, Гарик?
– Деньги не проблема, – задумчиво произнес Цитрус, – но сначала я все-таки должен с ним поговорить.
– Ты что?! – Маруська испуганно замотала головой. – Он тебя убьет! Он сумасшедший! Как только тебя увидит – сразу убьет! Он прямо так и сказал: убью твоего старого кобеля, своими руками придушу.
– Ну, это вряд ли. – Цитрус усмехнулся через силу.
Ему совсем не нравилось, что девчонка уже второй раз называет его «старым кобелем», пусть даже цитируя своего злодея папашку.
– Гарик, давай все сделаем, как мы решили. Я передам ему деньги, и он оставит нас в покое. Я хочу быть с тобой, я так тебя люблю… Ну давай заткнем ему пасть этими несчастными десятью тысячами и уедем куда-нибудь. Надоело мне все.
– Хорошо. – Он решительно поднялся и поднял ее под локоток. – Поехали.
– Куда? – Она испуганно заморгала влажными от слез ресницами.
– За деньгами.
– Что, прямо сейчас?
– Ну а когда же? Надо ведь покончить с этой проблемой. Так почему не сейчас?
Коллеги по партии, охранники-боевики провожали их внимательными, завистливыми взглядами. Все на них смотрели. Все завидовали такой шикарной паре, такому мужественному, неотразимому Цитрусу. Или это ему только казалось? Ну, покосился кое-кто, отметил мельком про себя, мол, сматывается опять Цитрус со своей красоткой. Не утерпел, уводит девочку под локоток.
В гардеробе в огромном зеркале он с удовольствием окинул взглядом себя, широкоплечего плейбоя, прямо с рекламы «Мальборо», и Марусю, длинноногую стрекозку, высокую, одного с ним роста, тоненькую, с блестящими от недавних слез, широко распахнутыми голубыми глазами, с идеально правильным чистым личиком. Черная партийная униформа удачно подчеркивала ее детскую женственность, ее нежность, стройность, белизну кожи, золотой отлив светлых волос. Она тоже как будто сошла с рекламы, с глянца журнальных страниц или с подиума. На такую головку не берет со свастикой надевать, а корону королевы красоты.
Цитрус приободрился. Надо хорошо поторговаться, может, папашка заткнется и за три тысячи. Пятьсот у него с собой есть, еще тысячи полторы он снимет сейчас с карточки, потом в крайнем случае придется добавить еще тысячу. Но не больше. Если ее папашка возьмет хоть что-то, дело можно считать решенным. Никакого заявления он не потащит в прокуратуру. Грозить будет, шантажировать, но это уже детали. Главное, действовать решительно.
– У тебя что, прямо сейчас есть такие деньги? – спросила Маруся, когда они уселись в его старую темно-синюю «Волгу» (он из принципа не покупал себе иномарку, правда, мотор в «Волге» был от японской «Тойоты»).
– Мы начнем с двух тысяч. А там поглядим. – Цитрус улыбнулся. – Может, твой бдительный папа на этом и успокоится.
– Нет, что ты. – Маруська закусила губу. – Он сказал: десять, и торговаться с ним бесполезно.
– А мы попробуем. – Цитрус весело подмигнул. – Две тысячи – тоже сумма немаленькая. Во всяком случае, хороший повод для разговора.
– Гарик, подожди, ты что, собираешься с ним встретиться?
– Ну а как же? Должен я представиться своему будущему родственнику? Должен или нет, а, Маруська?
– Ты зря веселишься! – Она довольно больно стукнула его крепким кулачком по колену. – Я уже говорила, тебе ни в коем случае нельзя показываться ему на глаза. Он совсем озвереет. Мы ведь все уже решили, я передам ему деньги…
– Нет, Марусенька, деньги передам ему я. Познакомимся наконец, поговорим спокойно, как мужик с мужиком. И вообще, это все не твои проблемы.
– Я сказала – деньги передам сама. Это мой отец, и я его знаю лучше. – В голосе ее послышались неприятные визгливые нотки. – Мы уже решили, договорились.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































