Текст книги "Мозаика чувств"
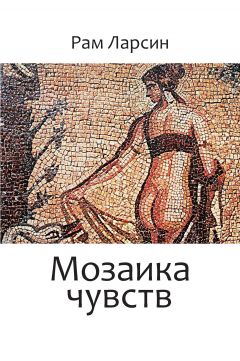
Автор книги: Рам Ларсин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
И все. Все…
Глава вторая
Доктор Бен-Давид тяжело встал из-за стола, грузный, с выцветшей гривой волос, похожий на усталого льва.
– Вы прошли то, что называется «hелем крав», – сказал он, – и это знакомо мне не только по описаниям пациентов. Я был ранен в бою за Иерусалим.
Седой проговорил, волнуясь:
– Мне известно, что современная медицина рекомендует не скрывать правду от больного.
– По мере возможности, – осторожно согласился тот.
– Так вот, я хочу поймать вас на слове и спросить: я нормален?
Доктор приблизился к нему.
– А почему вы сомневаетесь в этом?
Голос Седого дрогнул:
– Все вокруг кажется мне безобразным.
Бен-Давид промолчал, вертя палкой, ручка которой была вырезана в виде головы Мефистофеля, и доктор старался не замечать его циничной усмешки.
– Я склонен определить ваше состояние как обостренное восприятие действительности. Осколок, задевший ваш мозг, одновременно разорвал пленку привычки и снисходительности, которая с годами окутывает нас. Вы как бы увидели другой мир и ужаснулись. Не вы первый. Рано или поздно остро чувствующий человек восстает против общества. Все дело в том, какое оружие он выберет: религию, как Христос, революцию, как Жан-Жак, книгу, как Достоевский, или концлагеря, как Гитлер и Сталин. У всех у них были серьезные психические отклонения. Историю делают ненормальные люди! – ядовито резюмировал он свои размышления.
Седой возразил:
– Некоторые из них воспринимали реальность вернее, чем их, так сказать, здравомыслящие современники. Но откуда эта уверенность, что путь, выбранный ими, правилен?
– Они просто не видели другого, ослепленные одной идеей.
Бен-Давид улыбнулся:
– Однако, как бы больной не чувствовал себя правым, цель медицины – вылечить его. Для этого мне нужна ваша помощь, и она – в полном откровении. Не скрывайте ничего, вылейте на меня свои сомнения и страхи. Время у нас есть, а клятва Гиппократа гарантирует вам совершенную дискретность.
Седой лег на прохладный кожаный диван и задумался…
С того самого взрыва я всегда слышу беспрерывный шум, который днем усиливается от волны звуков, бьющих со всех сторон в мою голову и повторяющихся там, как эхо, как эхо, и когда оно становится невыносимым, я начинаю нервно искать в карманах и сумке, боясь, что потерял ее – маленькую коробочку с надписью по-немецки, и весь дрожу от нетерпения и гнева, как это часто бывает со мной после ранения, но нет, вот она, я вынимаю две желтые пробки и плотно затыкаю уши, и меня охватывает благодарность к тем, кто изобрел это, я думаю, какие они, право, обстоятельные люди: должно быть, производя газ «циклон» и оборудование для лагерей смерти, кто-то одновременно тревожился о господах офицерах, которым, возможно, будут мешать крики их беспокойных жертв.
Ночью мне легче, но часто мучает бессонница. Я долго лежу в темноте, преодолевая желание включить телевизор, как пьяница старается отвлечься от мысли о стоящей рядом бутылке. Наконец, сдавшись, нащупываю пульт, заменивший нам книгу, и начинаю бездумно перелистывать страницы станций.
Мир, втиснутый в железный ящик, бодрствует вместе со мной.
Я смотрю без звука, мне не нужны слова, чтобы понять то, что происходит, люди – это люди, вот женщина, красивая и грустная, и мужчина в костюме и галстуке, наверное, играет тихая музыка, это черно-белый фильм, где еще были неспешные трогательные разговоры, и он не валил возлюбленную на стол и не бросался яростно на нее, хотя это очень неудобно, но так в воображении современного режиссера должен поступать настоящий мужчина, и никто уже не смеет признаться, что предпочитает прежнюю честную кровать.
Тут пошла реклама женских трусов, и я нетерпеливо нажимаю кнопку.
Дискавери. Стая пятнистых гепардов мчится по степи с немыслимой скоростью, не подозревая, что спешка эта напрасна, потому что на следующем канале с них сорвут великолепный мех и кинут на плечи длинноногих красавиц, и те будут демонстрировать шубы ценой в 10 тысяч долларов, также не зная, что рядом, в «Новостях» черные дети гибнут от голода в степи, где пятнистые гепарды мчатся с немыслимой скоростью…
А вот фантастика, 23 век. Космонавт, вооруженный бластером, пытается мощным лучом аннигилировать инопланетянина, и когда это не удается, лягает его по старинке ногой в пах – и тот как миленький испускает дух.
Внезапно меня осеняет мысль, что телевизор создан не только для развлечения. В сущности, это хитрый прибор, показывающий уровень развития общества: ведь если передача, самая низкопробная, не сходит с экрана, значит, она собирает достаточно большое количество зрителей.
Итак, что волнует человечество сегодня?
Вот Евроспорт. Болельщики десятка стран, не дыша, ждут, кто же победит в финальной игре – негры, нанятые Англией, или их соплеменники, купленные Нидерландами, причем цена тем выше, чем ниже образование игроков.
Семейный канал. Антонелла обнаруживает, что усатый ловелас, который хочет на ней жениться – ее отец.
CNN. Русские танки давят чеченцев.
Реклама, уже с более глубоким содержанием: интимная гигиеническая полоска ткани для женщин.
Далее – французский детектив, поучительный и, как водится, почти без сюжета. Два симпатичных подонка душат угрюмого полицейского и потом трудятся над банковским сейфом, медленно, досконально показывая зрителям, как это нужно делать.
RTL. Сначала листают альбом с фотографиями. Крупным планом: беленькая девочка с куклой, потом – застенчивая школьница, и, наконец, девушка с голубыми мечтательными глазами, она выбегает на сцену, сбрасывая по пути ненавистное белье, пока не предстает перед взволнованным залом в чем мать родила, а эта мать с отцом сидит тут же, счастливая карьерой дочери и ее экономностью в одежде.
Германия. Эммануэль. Ее совокупление: а) с другом подруги, б) с подругой друга, в) с другом и подругой одновременно.
Реклама, еще глубже: кондом.
MTV. Свистопляска в лучших традициях зомби.
Израиль: взрыв автобуса на улице Дизенгоф.
Голова моя раскалывается, сердце стучит, я нахожу канал с содержанием того, что будет дальше и читаю: Гибель в пустыне, Убийство под знаком Сириуса, Двойное покушение, Преступление полицейского, Кровь и страсть, Смерть в сумасшедшем доме, – пальцы мои скачут по всей шкале в поисках того, единственного, кто может спасти нас – Мессии нашего века, Супермена, но его нет, он спасает только по вторникам, а сегодня идет боевик с огромными бородатыми мотоциклистами, ружья которых изрыгают кроваво-черное пламя и сжигают все, и сжигают все к чертовой матери, я почти расплющиваю красную кнопку, чтобы прекратить это, но она не срабатывает, должно быть, батарейка на исходе, и тогда я вырываю шнур с вилкой из стены и погружаюсь во внезапную пустоту, но ненадолго, потому что уже брезжит утро, и нужно собираться на работу, а работаю я на телевидении…
Меня окружают славные и порядочные люди, но должен признаться: я не совсем понимаю их.
Доктор, я воспитан отцом, верящим, подобно Канту, что мы являемся на свет с врожденным нравственным законом. Поэтому ребенку и без объяснений доступны понятия добра и зла, и тайный смысл происходящего. Главное – это сохранить в себе детское восприятие реальности до конца дней, – говорил отец на своих лекциях, куда сбегались студенты со всех параллельный курсов. – Тогда не обязательно штудировать уголовный кодекс, чтобы узнать, что дозволено и что нет, нужно только довериться первому движению души, которого так опасался Талейран, потому что оно всегда искренно. И вам откроется самое важное: сострадание к ближним, отвращение к убийству, брезгливость к разврату, почитание родителей, и этот ужас и восторг перед огромностью окружающего нас мира!
Так учил он их заново считать до десяти, по числу святых заповедей. А потом, дома, он открывал ТАНАХ и читал, кивая удовлетворенно:
– И все. Все!
Он поражал своей эрудицией, был остр на язык, смел и даже, когда рядом с его кафедрой посадили стенографистку, не стал осторожнее и обращался к ней с явным сарказмом:
– Вы успеваете за мной?
– С трудом, – серьезно качала головой она.
Действительно, успеть за ним было нелегко, так как вскоре его арестовали и сослали в Сибирь…
Той ночью я проснулся от странных голосов в гостиной, вышел, сонный, на яркий свет и увидел в дверях спину отца и еще двоих в черном.
– Папа! – встревожено потянулся я к нему, но мать схватила меня и, дрожа, больно прижала к себе, словно хотела втиснуть обратно в свое чрево, я не мог пошевелиться, потому что пальцы ее от этого еще сильнее впивались в мое тело, она не отпускала меня ни на шаг и потом легла вместе со мной на кровать среди разбросанных вещей, но под утро я выскользнул из ее задремавших рук и выбежал на улицу. Я заметил следы в снегу, глубокие, грубые по сторонам, а в середине – беспомощные и униженные, оставленные отцом, которые как бы обрушились под тяжестью больших ступней, я представил себе это так отчетливо, как охотник распознает метание зайца в зубах волка, и рядом темнело красное пятно, кровь, кровь отца, моя собственная кровь сразу узнала ее и закричала во мне, я опустился, плача, на землю, и тут подул ветер, и пятно стало бледнеть, и я бережно укрыл его ладонями и долго сидел, глядя туда, где следы резко обрывались перед полосой автомобильных шин – и так же внезапно окончилось мое детство, и в этот взрослый, без единого движения души мир я вошел с мыслью, еще не совсем ясной тогда, но полностью открывшейся мне позднее. Вот она: не знаю откуда во мне нравственный закон, но для того, чтобы его не растоптали, нужна непримиримость, повседневная война со злом!
Открытие это – моя добровольная ноша, которая все тяжелеет в пути. Лишь немногие решились разделить ее со мной – там, в русской школе, и в израильской, и в университете, и уж, конечно, не на телевидении.
Мой редактор – очень интересная личность. Он именует себя Шмулик – из демократичности, что ли, и если в титрах уважительно писали «Шмуэль», требовал это исправить. К другим обращался так: «мамалэ», и даже когда в приказе выговаривал кому-нибудь, то в конце добавлял: «бэ браха». Его одежда состояла из старой спортивной пары и стоптанных кед, и в этом виде он встречал выступающих, будь то министр или гость из-за границы. Костюма у него не было. Помню, кто-то пришел к нам в шляпе, он с любопытством осмотрел ее и попросил примерить. Слух об этом немедленно пронесся по всему зданию, и к нему стали ломиться взбудораженные сотрудники. Шмулик без улыбки смотрел на себя в зеркало, словно сокрушаясь об усилиях, приведших к созданию столь бесполезного предмета…
Заседания он вел деловито, но легко, любил пошутить и смеялся шуткам других, был непосредственен, мог внезапно сказать: извините, мне срочно нужно «пипи». Однажды я спросил, почему он не сообщает нам, когда намеревается спать с женщиной. Он удивился: какая связь? Я пояснил, что ведь он пользуется одним и тем же. Ему это не понравилось. Остальным тоже.
На записях Шмулик был неизменно сдержан, снисходителен, никогда не пользовался своей беспрекословной властью, чтобы остановить актера, если тот в сердцах ругался последними словами, школьницу, которая увлекшись, поведала о своих интимных отношениях с подругой, или художника, демонстрирующего новое произведение – белые кружевные трусики с красной полоской внизу…
Только раз я стал свидетелем того, что он не совладал со своими чувствами. Мы записывали рабби, комментирующего очередную главу из Торы. Тот, как водится, был бородат, с кручеными рыжими пейсами, в черном сюртуке, очень толстый. Стулья у нас в студии вертящиеся, неустойчивые, и в какой-то момент, будучи не в кадре, он потерял равновесие и упал. Тогда Шмулик прошептал режиссеру: «Покажи его зрителям, и я дам тебе сто долларов!»
Конечно, он шутил, но шутил всерьез. Впрочем, редактор и не скрывал своего отвращения к морали, возникшей три тысячи лет назад и, по его убеждению, опутывающей нас по рукам и ногам, и вместе с узким кругом единомышленников радостно разрушал ее изо дня в день.
Он был счастлив, когда мы начали снимать передачу по его собственному сценарию, цель которого была сблизить враждующие народы.
Сегодня мы записывали такую сцену:
Два человека, еврей и араб, должны обнажить свои слабости, чтобы через их осмеяние приблизиться друг к другу, но сделать это не прямо, а на трагическом фоне истории.
Первым начал еврей. На заднике возник древний Рим, и он тащился среди подобных ему оборванцев, которых стражники проводили под Триумфальной аркой, толпа вокруг кричала ему срамное слово «хеп, хеп!», кидала камни и тухлые яйца, желтая вонючая жижа текла по его лицу, а он высовывал длинный язык и облизывал губы и даже щеки, потому что руки его закованы в железо. А потом был берег Днепра, и он трусливо бежал от нагайки конного казака, прижав к груди ребенка, и, упав, норовил поцеловать ноги наступавшей не него лошади. И он ползал на коленях у витрины собственного магазина, разбитой штурмовиками и, быстро оглядываясь по сторонам, собирал рассыпанное по земле добро и засовывал его в карманы, за пазуху, за пояс штанов. И, наконец, он здесь, в Иерусалиме, среди узких улочек религиозного квартала Меа Шеарим прячет потную патлатую голову в меховую шапку – не то от турецкого янычара или английского полицейского, или просто от нашего любопытствующего фотографа…
Мы снова и снова прокручиваем эту запись, и в аппаратной царят довольство и радость. Редактор сошел вниз, сопровождаемый всей группой, смеясь, поздравил сияющего от счастья актера. Потом повернулся к арабу, который стоял в стороне:
– Теперь твоя очередь.
Тогда выяснилось, что тот один не участвует в общей эйфории. Косясь на проекцию мечети, появившуюся сзади него, он сказал глухо:
– Я не стану этого делать.
– Почему?
Араб молчал. Шмулик всматривался в его отчужденный, сделанный из холодной бронзы профиль, стараясь понять, что он выражает, а это была гордость, национальное достоинство, самоуважение.
Редактор досадливо поморщился. Его широкая натура отвергала любые искусственные рамки, которыми ограничивали себя люди…
Потом я спустился в студию «Новостей». Это место всегда поражает меня своей ясностью. Правда здесь четко делится по партийной принадлежности. Все, что утверждает представитель одной партии, является абсурдным для его собеседника из другой.
Сейчас, однако, атмосфера спокойная. У нас в гостях депутат Кнессета, прозванный «Пуделем» за свое чрезмерное послушание хозяевам, и рядом – вечный член любого правительства, продающий на корню себя и свою фракцию каждому, кто заплатит больше.
Ведущий на правах друга спрашивает шепотом, действительно ли идут переговоры с палестинцами о разделе Иерусалима. Первый, не подозревая, что его голос разносится по всем службам, твердо говорит:
– Не вижу другого выхода!
– Я тоже, – заявляет второй.
Звучат позывные, и снова, но уже в эфире задается прежний вопрос.
– Иерусалим всегда будет неделимой столицей евреев! – отвечает один.
– Совершенно верно, – соглашается другой…
День окончен.
Мы и гости садимся в свои машины и выезжаем со двора.
Я медленно ползу в пробках по Аялону, мокрому от недавнего дождя, должно быть, последнего перед долгим засушливым летом, сворачиваю на старое иерусалимское шоссе, и вот я в Холоне.
Темнеет.
Бесчисленные гаражи и магазины уже закрыты, и под фонарями блестят голые ноги женщин, промышляющих собой. Промзона – так называется этот район. А не вернее ли пром-зона?
(игра слов: зона – проститутка, ивр.)
На повороте, когда я замедляю скорость, одна из них преграждает мне путь, привычно улыбаясь. Я бросаю взгляд на это странное существо и вижу опустошенность, вырождение, цинизм. Мне вспоминаются наши сегодняшние высокие гости, я нажимаю на газ, и женщина испуганно отскакивает в сторону.
Глава третья
Они собирались среди песков, на чахлом и заброшенном хуторе, который по злой иронии называется Моледет, и это противоречие как бы отражало сущность их бесед.
Седой говорил задумчиво:
– В детстве мы приходили в это место, казавшееся нам волшебным из-за всевозможного хлама, сбрасываемого грузовиками. Тут, среди строительных отходов, можно было найти пластмассовую саблю, карнавальную широкополую шляпу и заржавленный транзистор, и мы жестоко дрались из-за них – дети олим, новых репатриантов из Кирият-Шарета и те, что родились здесь. И вдоволь поцарапав друг друга, мы усаживались рядышком под водонапорной башней и рассматривали свои трофеи.
Потом мы расходились восвояси, и, помню, однажды я подкрался к Цахи и, вырвав у него его находку – бинокль со сломанным окуляром, удрал. Я не знал, что один только Цахи оставался допоздна между кучами мусора, потому что боялся пьяного отчима, бившего его и маленького брата.
И вдруг Цахи пропал. Прошел слух, что он в больнице, а когда появился вновь, лицо его было опухшим и синим, а левый глаз залеплен пластырем. Мать много плакала, но напуганная до смерти, не подала жалобу на мужа. Цахи уже не участвовал в наших раскопках, а уединялся в сарае и что-то мастерил. Любопытствуя, мы подползли поближе и через дырку в глиняной стене увидели в его руках доску, обточенную в форме ружья, и на ней – рогатку. Тогда я побежал домой и, вернувшись с биноклем, протянул его Цахи, и тот без лишних слов стал отпиливать сломанную трубку, а другую – привинчивать к доске, и так возился дотемна, а потом, многозначительно посмотрев на меня своим единственным глазом, полез на башню, а я за ним.
Цахи ждал чего-то.
Сверху нам было открыто все, что происходило на веранде их неказистого дома, переделанного из барака. Вот вышел грузный, широкоплечий человек, должно быть, его отчим. Мать подала на стол еду, он открыл шкафчик и достал большую бутылку. Она что-то сказала, тот закричал на нее, угрожающе поднял руку, и тут Цахи, все это время глядевший на них через оставшийся окуляр бинокля, с силой натянул и отпустил рогатку. Отчим вскрикнул, схватился за ухо и ринулся на улицу, осматривая вершины деревьев, но не башню, потому что Цахи хитро втянул за собой лестницу, что отводило всякие подозрения.
Этот обстрел продолжался всю неделю, и случилось то, что не могли сделать ни увещевания соседей, ни наезды полиции: отчим перестал драться. Так это было, Цахи, дружище?
Тот, молча, кивнул черной курчавой головой. Он не забыл, как в свои неполные восемь лет решил, что его рогатка всесильна. Цахи часто пропускал школу и, притаившись наверху, в своем наблюдательном пункте, поджидал машины, которые сваливали здесь мусор, невзирая на объявления о штрафах. Он выстреливал камни прямо в лица водителей, и те все реже направлялись сюда, а потом нашли место безопаснее.
Шло время, отчим пропал куда-то, и Цахи, не окончив школу, пошел работать, чтобы содержать себя, брата и старую мать. Ему повезло – он устроился на маленькой фабрике, делавшей игрушки, которых у него никогда не было в детстве, и, верно, поэтому он проявил редкую изобретательность, и его очень ценили, а дома он мастерил из пуримских пистолетов настоящие, которые демонстрировал хуторским ребятам, попадая в цель с первого раза, за что и получил уважительное прозвище «Цахи – один глаз, одна пуля».
Седого он не встречал с тех пор, как тот поступил в университет, а потом был принят на телестудию, но услышав, что он вернулся раненый из Ливана, пришел навестить, и их знакомство возобновилось, хотя Цахи не жаловал интеллигентов, особенно белых.
Кирият-Шарет разрастался, пополняясь потоками олим, седовласые профессора из России умиротворенно подметали улицы, грузины съезжались к своим овощным лавкам, тесня новенькими «вольво» какамайки коренного населения, тяжелые самолеты поднимались с близкого аэродрома и пролетали над девятиэтажными домами, почти задевая крыши, и ошалевшие от шума жители писали в газеты, устраивали митинги, обращались в суд и выбирали в мэры того кандидата, который больше других врал, что решит эту проблему.
А Цахи с Седым уходили на Моледет, где все осталось, как в их детстве и как было в самом начале, когда наши праотцы увидели эту страну и назвали ее раем: невысокий холм казался оазисом, потому что тень старых сосен спасала от зноя, неизменный цабар утолял голод кисло-сладкими плодами, ручеек журчал среди бескрайних песков, а вдали рос колючий куст с белыми цветами, и Седой сказал, что вся беда оттого, что он не горит, и нет той силы, которая могла бы напутствовать людей, а Цахи возразил, что есть, и, вынув из штанов пластиковый, похожий на биллиардный шар бросил его сильным движением вперед – и зеленые ветви вспыхнули ярким пламенем.
Так это началось.
Медленно и осторожно подбирали они товарищей и звали в потаенное место. Их еще немного, но будут другие, будут и другие…
Седой повернул к ним бледное лицо.
– Я часто вижу один и тот же сон… Мне снится больница, где отцу должны снять катаракту с глаз, и через несколько минут он выйдет и откроет жизнь – настоящую, а не такую, какой она представлялась ему по моим лживым рассказам, а я, волнуясь, ожидаю его в ночном саду, где между деревьями протянута гирлянда ярких огней, и множество грязных, волосатых рук тянется к ним, чтобы сорвать, разбить, растоптать.
Седой выдохнул сквозь зубы:
– Остановить, остановить это, пока не поздно! Вот для чего мы собрались здесь…
Шрам на его лбу горел в последних лучах заходящего солнца.
Взволнованные, они слушали его, ни разу не перебив. Искусственный зрачок Цахи вдруг зловеще блеснул:
– Я знаю, с кого начать – с Хаима Шумахера.
– Согласен, – кивнул Даниэль, по привычке трогая место на голове, где раньше была кипа.
Цахи, как всегда, возразил ему:
– Ты уверен? Тебя постоянно кидает то туда, то сюда.
Седой одернул их:
– Мы не можем опуститься до личной мести!
– А жаль, – прошептала Рохале.
Длинная рыжая коса и веснушки вокруг светлых глаз делали ее совсем юной. Она редко позволяла себе думать о прошлом и вспоминала только Тельму, которая одна посещала ее после того, как Рохале перебралась в город.
Лицо у Тельмы было доброе и в то же время энергичное, с шершавой обгоревшей кожей, как бы обожженное страстным и непреклонным желанием осчастливить всех. Свой боевой дух она унаследовала от родителей, которые организовали в Иерусалиме демонстрацию, чтобы заклеймить позором еврейских врачей-убийц, арестованных КГБ, а потом, когда Сталин умер, они дежурили в киббуцном клубе, не позволяя снять его портрет.
Тельму любили, потому что, в отличие от других, советующих одно, а делающих другое, она была сама прямота и искренность. Она говорила: демократия! – и поставила на голосование открытие свинофермы, и это прошло большинством голосов, и еще она говорила: плюрализм! – и в Йом-Кипур плавала в бассейне, спасаясь от жары в прохладной воде. В школе с ней можно было беседовать обо всем, как с подругой, и, конечно же, о самом волнующем – о любви. Тельма объясняла, что нет ничего естественнее физической близости, а несчастья происходят от излишней стыдливости и невежества, она привозила из Тель-Авива кондомы всевозможной формы и показывала им, и даже собственноручно пересняла в библиотеке Университета рисунки из «Камасутры», чтобы ученикам были ясны преимущества той или иной позы в соитии, и если кто-нибудь смущался, она говорила, что человек тем раньше станет счастливым, чем быстрее сбросит с себя одежду лицемерных запретов, навязанных нам теми, кто сам не следовал этому никогда. Она поведала им об интимной связи Давида с прекрасным Ионатаном, о том, как царь, чтобы овладеть Бат-Шевой, сделал так, чтобы ее муж, гер, погиб в бою – «а ла гер, ком а ла гер», смеялась Тельма, она порицала Моисея и Бин-Нуна, приведших нас в эту страну, населенную другими, а это означало, что всех их нужно перебить. Она повезла своих учеников в Польшу, и там, стоя у черных печей, навсегда впитавших в себя запах сожженного человеческого мяса, говорила, что не одни евреи пострадали от войны и что нелепо называть героями тех, кто покорно шел сюда, как скот на бойню. А когда класс вернулся домой, все остались после уроков, чтобы поделиться впечатлениями о поездке, и Игал, любимец Тельмы, рассказал анекдот о том, как парень, познакомившись с девушкой, которая ребенком была в концлагере, хочет снова встретиться с ней, но она не назвала свое имя, и тот говорит: ничего, я видел на руке ее номер.
Рохале возмутилась, а Игал назвал ее деда и бабку, погибших в Освенциме, – «сабоним», и та ударила его по щеке, а вечером он и еще несколько парней окружили ее в саду и толкнули к цветущей сливе, и Игал, раздеваясь, сказал, что нужно сбросить с себя все условности и, глянув на дружков, добавил: «Плюрализм», – и плюнул, и они, сунув в рот Рахале платок, закинули ее руки вокруг ствола дерева и, распятую, насиловали, свободно и демократично, чтобы каждому поровну досталось вкусить от девственной плоти и крови, текшей по ее ногам…
«Кос-охта», пробормотала Рохале, чувствуя и сейчас эту боль и ужас. Матерщина в ее детских устах звучала как жалоба обиженного ребенка…
А потом все в киббуце ополчились против Рохале, потому что не верили, что это могло произойти без ее согласия, и правление запретило ей обратиться в суд, и только Тельма была на ее стороне и, поднявшись на сцену, сказала, что нужно сурово наказать мерзавцев, и она не скрывала своих слез, и Рохале, глядя на нее, плакала тоже…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































