Текст книги "Мозаика чувств"
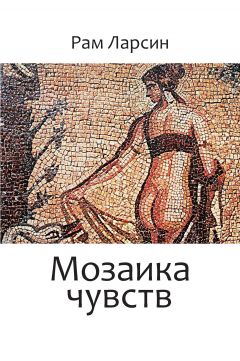
Автор книги: Рам Ларсин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Ешу
Она лежала на постели, изможденная, без кровинки в лице, и если кто-нибудь пытался говорить с ней, показывала пальцами, что не слышит.
И речь Рины была прерывистой, непонятной. Её охватил страх от мысли, что она к тому же и онемеет, но врач, вызванный Ильей, сделал ей успокоительный укол и сумел разговорить пациентку.
Убедившись, что слух медленно возвращается к Рине, он рекомендовал полный покой и ушел вместе с расстроенными гостями.
Илья, конечно, остался. Присел рядом и, гладя ее беспомощные руки, пытался пошутить:
– Ты победила в этом аэросоревновании!
Он смотрел в осунувшееся лицо Рины, ожидая увидеть, как ее глаза окрасятся в янтарный цвет, но они оставались прежними, печально-карими.
Она прошептала:
– Пиррова победа… Еще секунда – и сердце мое могло бы не выдержать. А что будет в следующий раз?
– Следующего раза не должно быть! – сквозь зубы процедил Илья. В голове его снова забилась давняя безумная идея о ракете, которая разрушит посадочную полосу Аэробуса, и ему найдут другое место.
Он наскоро приготовил Рине какую-то еду и кофе и, стараясь не замечать ее укоризненного взгляда, помчался домой. Там, за этажеркой, в потертой коробке лежала ракета, которую он осмотрел тогда же, получив её от Муссы, и прочел о ней все, что было в Интернете. С тех пор, погруженный в мутный поток будней, Илья не вспоминал об этом, но она, холодная, зловеще враждебная, казалось, не забыла ничего и ждала своего часа…
Уже брезжил бледный рассвет, когда Илья подъехал к аэродрому, ярко освещенному огнями. Оглядевшись, он заметил небольшой двухэтажный домик, и – удача! – железные скобы, ведущие на крышу. Отсюда хорошо было видно широкое летное поле в первых лучах восходящего солнца.
Илья открыл тяжелую коробку.
– Так-так, – бормотал он, вспоминая армейские учения, и хотя то, что теперь было в его руках, отличалось от наших ракет, принцип был тот же. Он ввинтил трубки одну в другую, потом – взрывную головку, и тогда вспыхнула лампочка готовности – зеленая, как глаза Малки, его верной овчарки, с которой они в милуим прочесывали развалины Газы, и где она улавливала малейший подозрительный шорох. И сейчас Илья тоже различал странное движение в кустах можжевельника и несколько приглушенных звуков, похожих на «Алла». Мозг его, переполненный безумием этого дня, отказывался вместить дикую догадку о том, что здесь, почти рядом, таится враг, цель которого та же, что и у него. Это невероятное совпадение замутило вдруг ясность его мысли, в которой уже не было четкой грани между прошлым и тем, что происходит сейчас.
Тут снова прошелестело это – «Алла», и он уже не был в силах сдерживать рвущуюся вперед Малку, она тихо визжала и рвала из рук поводок, и наконец, вырвавшись, ринулась в темноту, и был взрыв и отчаянные вопли, и тревожная сирена на территории аэродрома…
Илья не помнил, как оказался на земле и побежал, чувствуя ужас и прохладные капли, внезапно упавшие на его пылающее лицо.
– Дождь, дождь! – бормотал он и сорвал с себя рубашку, подставляя грудь холодным брызгам. Потом, вспомнив о машине, поплелся между узкими улочками, и когда увидел свой старенький Фиат, ему почудилось, что это не он нашел его, а тот – своего потерянного хозяина.
Илья кинул рубашку в кабину и, обессиленный, присел на кромку дороги, впитывая всем телом живительную влагу. Внезапно к нему приблизился странный человек – маленький, но в большой черной шляпе.
– Реб ид! – произнес незнакомец. – Тит мир а тойвэ!
И видя, что тот не понимает, перешел на иврит:
– Вы еврей?
– Да.
– А имя?
– Илья.
– Илья? – возмутился тот. – Нет, в Танахе сказано Элияhу! Слушайте: нам не хватает двух мужчин для миньяна. Хотите помолиться с нами? Я Иосиф, казначей из бейт-кнесета, – он показал на приземистое здание за его спиной.
У Ильи не оставалось на это сил, но умоляющим глазам его собеседника нельзя было отказать…
Он оделся и, пройдя внутрь, перестал сожалеть о своей уступчивости – молельный зал напоминал собой музей давно состарившихся вещей: выцветший занавес с давно стершимися надписями, тяжелые и почти непрозрачные от пыли люстры и то, что поразило его больше всего – не потерявший своего цвета и изящества мозаичный рисунок на каменном полу.
И словно с полотен Питера Брейгеля сошла сюда группа мужчин в белых талитах, с которыми познакомил Илью его проводник, коротко назвав каждого по имени, а перед белобородым старцем поклонился:
– Овадия, учитель кабаллы!
К ним подошел широкоплечий лысый человек, выделявшийся властной осанкой, как понял Илья – рав:
– Что ж, господа, придется еще подождать, пока, с божьей помощью, появится десятый!
Иосиф, водрузив на голову Ильи бумажную кипу, усадил его рядом с собой и положил перед ним молитвенник, открытый на нужной странице.
Нетерпеливо ожидая начала, Илья с любопытством осматривал необычную мозаику.
– Это арфа Давида, – пояснил казначей. – Очень древняя. Да и весь дом стоит с незапамятных времен. Нужен большой ремонт!
– А почему вы не ходите в новую синагогу, что открылась в центре города?
– Мы люди немолодые, – улыбнулся тот, – и привыкли молиться здесь.
Его маленькое морщинистое лицо, освещенное искусственными свечами, показалось Илье знакомым:
– Кажется, я знаю вас. Вы живете недалеко от моей приятельницы у сквера Наоми Шемер, правда? Я видел вас со стройной черноволосой девушкой. Ваша дочь?
Тот прошептал:
– Да… да…
И вдруг по щекам его покатились слезы:
– Элоким забрал ее… майне нешумэ…
Илья был потрясен:
– Но… зачем же вы… молитесь?
Иосиф отвернулся от него, шепча:
– Ах, я прошу Его… дать моей Фейгале… место в раю…
Для Ильи это было выше того, что он мог вынести сегодня.
– Наверное, – сказал он свистящим шепотом, – вы молились ему и в то время, как она… Но он не помог ей!.. Вы не спросили себя: почему, почему? А потому, что он не слышал вас!
Люди, сидящие вокруг, повернули к нему встревоженные физиономии, но Илья уже не мог остановиться:
– По вашим книгам бог – это тот, кто занят судьбами огромной Вселенной, им же сотворенной. Может ли он прислушиваться к мольбам таких маленьких существ, как мы?
– Позвольте, позвольте! – подскочил к ним рав. Он придержал кипу, сползавшую с его лысой головы, и нервно заметил:
– Вы не можете здесь открывать нам ваши крамольные мысли! Мы все…
Его прервал старик Овадия. Поглаживая длинную белую бороду, он назидательно проговорил, как бы снисходя с высоты своего возраста и сана:
– Пусть выскажется! Истинно верующим не повредит мнение человека, думающего иначе.
Илья уже пожалел о своем порыве, но благожелательный тон Овадии словно приглашал его сказать все до конца:
– Вы, конечно, знаете, что Создатель признавал наших праотцев, однако это были великие люди, что позволяло им общаться с ним, как равным – Авраам, споривший из-за каждого спасенного в Содоме, или Иаков, боровшийся с ангелом, который, в сущности, был…
– Элоким! – дополнил его старый каббалист – Что же, ты неплохо знаешь Танах. От отца, наверное, или деда? А рассказали ли они тебе о другом еврее, Ешу, что две тысячи лет назад проповедовал подобное и был распят? Так вот, – его тонкий голос дрогнул от нескрываемого сочувствия, – тебе нужно знать, что ты выбрал очень опасный путь!
И как бы в подтверждении его слов, воздух разорвала ослепительная вспышка молнии и затем – тяжелый удар грома, отчего свет в зале погас, а когда вспыхнул вновь, оказалось, что на старинную мозаику упала большая люстра и разбросала вокруг цветные осколки арфы Давида.
Присутствующие испуганно кинулись назад, а Илья, наоборот – к месту случившегося и убедился со вздохом облегчения, что все фрагменты целы и просто выпали из креплений. Остальные с интересом следили за тем, как он укладывает их на прежние места – осторожно и, сдерживая волнение, словно это не мозаичный рисунок, а древние струны, которые еще удивят мир прекрасными звуками.
Но рав был недоволен. Приблизившись к Илье, он раздраженно сказал:
– Вам нельзя оставаться здесь. Эта молния… Вы уже накликали беду на нашу голову!
Тут входная дверь с шумом распахнулась, впустив двух мужчин в черных пальто и таких же шляпах, а за ними – старушку с красным зонтом, которой они не давали пройти, говоря:
– Тут молятся только мужчины!
– Братья Луэль! – приветствовал их рав. – Вот и будет у нас миньян. – И подойдя, сказал женщине. – Я вас знаю, вы – Хая, приходите сюда молиться почти каждый день. Но поймите – здесь вам нельзя быть!
Та пыталась защищаться:
– Там, наверху, где место для нас, все завалено досками!
– Мы скоро начнем ремонт! – объявил рав. – А теперь уходите! И вы тоже! – протянул он руку к Илье.
– Я только закончу с мозаикой! – отозвался тот.
– Нет! – уже почти кричал рав. – Это должен делать верующий еврей! – и его поддержали голоса остальных. – Ведь эту арфу дал царю Давиду Элоким!
– Вот-вот! – уже не владея собой, взорвался Илья. – Давид и его сын Соломон были последними великими людьми, с которыми общался бог. А потом он отдалился от нас, жалких, лживых, думающих только о собственной выгоде!
Тут снова раздался мощный удар грома, а после него – дрожащий фальцет старого Овадии:
– Ребе, пусть они останутся! Вокруг гроза, дождь!
– Ничего! – впервые возразил ему тот. – Дождь – это благословение неба!
– Идемте отсюда! – в каком-то остервенении крикнул Илья плачущей женщине и потянул ее за собой.
Они были сразу схвачены беснующейся тьмой, где бушевал ветер, хлестали холодные струи ливня и путь терялся под гаснущими фонарями.
– Здесь недалеко… дом моей подруги! – кричал Илья, ведя Хаю к машине, и вдруг почувствовал, что она отталкивает его от себя.
– Что, что? – спрашивал он и еле разобрал слова, полные ужаса:
– Ты говорил в бейт-кнессете такое… мы оба погибнем… потому что ты… идешь дорогой грешника!
И, вырвавшись, она пропала в темной ночи.
Тогда Илью тоже пронзил страх – не за себя, за ту, что, наверное, корчится сейчас от громовых ударов. «А что, если я неправ? – билось в его истерзанном мозгу. – Ведь все еще можно изменить. Просто вернуться туда, к этим маленьким людям!»
И тут яркая вспышка молнии осветила под гнущимся деревом старую женщину, которая сжалась в отчаянный комок и, казалось, погибала в злобном хаосе бури.
– А! – как безумный захохотал Илья. – Значит, нет другой дороги!
Он втянул Хаю в машину, и через пять минут перед ними возникли окна знакомого дома, неожиданно открытые настежь и залитые светом. Толкнув дверь, тоже почему-то не запертую, Илья застыл на пороге, пораженный. Там, в ярко освещенной комнате Рина срывала со стен одеяла, простыни – все, что спасало ее от грохота самолетов.
– Что здесь происходит? – сдавленным голосом произнес он.
Она повернула к нему светлое возбужденное лицо с сияющими янтарными глазами:
– Снимаю со стен всякую дрянь!
– Почему?
– У нас праздник! Аэробус не прилетел!
– Как это? – чуть ли не заикаясь, спросил Илья.
Гостья, стряхивая с себя капли дождя, подтвердила:
– В новостях говорили, что этот самолет больше не будет летать.
– Господи! – всплеснула руками Рина. Присутствие незнакомой женщины не позволило ей броситься на шею Илье, и она только пригладила его растрепанную мокрую косичку:
– Это просто чудо, правда?
Илья молчал, рассеянно улыбаясь…
Прощание
Роман
Летний день словно хрустальный бокал, наполненный щедрым богом, солнечные лучи пронзают ветви сосен, небо невинно-голубое, как глаза Шош, которую Рони, храмая, носит на плечах, улыбка Лиат, придерживающей от ветра юбку под пристальным взглядом Седого, яркие пятна цветов, женщина пеленает ребенка, целуя его в бунтующие ягодицы, звуки вальса, заглушаемые томной восточной мелодией, вино кружит голову, Лиат, тихо говорит Седой, я иду на такое дело, откуда, может быть, нет возврата, но прежде я хочу просить о милости, которая в тебе, в твоем теле, я жил этим много лет, ты не можешь не знать, да и Рони знает, правда, Рони? – и тот ясно смотрит на них сквозь сожженное лицо, будто через прорези своего подбитого танка, и долгое молчание, слезы медленно и беспрерывно текут из её глаз, печальных, как два черных солнца, внезапная тень облака и пророческий крик ворона, мысль о хрупкости бытия, щемящее предчувствие неизвестного, и багряный закат завершает этот день, прекрасный, словно хрустальный бокал, наполненный щедрым богом и выпитый до дна, до последней капли, – день этот, бесконечный и короткий как жизнь прошел и не будет вновь…
Глава первая
Тот, прежний его мир рухнул, когда ракета ударила в танк, ломая стальное тело машины и ее мозг, которым был Рони. Потом, за долгие месяцы, что он лежал в больнице «Рамбам», врачи как бы создали его заново, но речь не вернулась к нему, а попытка написать что-либо не шла дальше нескольких корявых слов.
И в Иерусалиме, куда Лиат увезла его, потому что больные родители не могли ухаживать за сыном, она поняла, что это уже не он. Рони не подходил к своему старенькому «форду», отворачивался от телевизора, не замечал компьютер, купленный перед войной. Вся эта цивилизация спала с него, как тесный костюм из искусственного сукна, не дающий дышать коже. Взрыв ракеты, созданной по последнему слову научной мысли, далеко отбросил Рони от того, чем он жил раньше.
И он вновь открыл для себя природу, отнятую у него бетоном, пластмассой и электронными схемами, и вдруг ушел в свое детство, к отцу с матерью, которые подолгу ждали его с обедом, а он засиживался на занятиях в ботаническом кружке, и по пути из школы останавливался у цветущей яблони или, теряя представление о времени, наблюдал разумную суету пчел.
Домик Лиат, унаследованный от тетки, обступали тенистые, с красными цветами кусты бугенвиллеи, а дальше была полоса невозделанной, кем-то счастливо забытой земли, где росли высокие эвкалипты. Они встречали Рони, будто дервиши в заплатанных одеждах и, роняя куски коры, шептались, очевидно, смущенные собственной наготой. Но чаще всего Рони сидел у кряжистой сосны на вершине холма, прислушиваясь к непрестанному движению соков во всем ее мощном стволе, и тоже чувствовал себя деревом, свободным и полным смысла, и ему теперь не мешали тяжелые, похожие на обвисшие ветви, руки и вывернутые, подобно корням, ступни ног.
Тогда горячая общность со всем живущим охватывала его, он радовался дождю, освежавшему пожухлую зелень, страдал от боли и отчаяния сорванного ветром листа и как-то, очнувшись от полуденной дремоты, пополз, беспокойно шаря в траве, а там барахтался крошечный черный дрозд, вывалившийся из гнезда…
Люди, особенно женщины и дети, также тревожили Рони своей хрупкостью и ранимой красотой. Иногда он подходил к Лиат, трогал смуглое, но бледневшее от его прикосновений лицо. Однажды она стала целовать его глаза и губы – единственное, что не изменилось в Рони – и убежала, плача, потому что он резко отстранился и растерянно отступил назад.
Огонь, что кинул его когда-то к ней, сплавив их в единое и жаркое целое, погас в нем навсегда…
Перед его отъездом в Ливан они говорили о свадьбе и ребенке, обязательно дочке, и, наверное, поэтому Рони тянуло в соседский двор, к девочке лет четырех в розовом платьице и с таким же бантом на светлой голове, что одна не пугалась его уродства и немоты. Она полулежала в широком соломенном кресле, и если прохожие, не удержав улыбки, говорили что-то вроде: «А чья же это такая красавица?» – обращала к небу ангельское лицо и досадливо вздыхала: «Уф!»
Но ангел этот не умел летать.
Паралич сковал ее суставы еще при рождении. Это было живое воплощение библейской справедливости, считавшей, что невинные должны платить за грехи развращенных.
«Сколько же нужно грешить, чтобы у такого ребенка отнялись ноги?» – думал Седой, когда проходил мимо девочки, так же, как все, стараясь рассмешить ее. Он приезжал сюда, чтобы навестить Рони, и твердо верил в это, но только до тех пор, пока появлялась в дверях Лиат, спокойная и улыбчивая. Ее дружеское объятие, поцелуй в щеку, легкий запах миндаля от ее кожи кружили ему голову, а невольное прикосновение упругих сосков было словно острый укор его нескромности.
Он протянул цветы и бутылку вина:
– Ну как вы тут?
– Прекрасно, – она оглянулась. – Правда, Рони?
Седой сжал жесткое плечо друга, передал привет от отца, который очень его любил:
– Ты ведь знаешь, Рони!
Тут началось томительное приготовление к обеду. Седой голодной тенью плелся за Лиат в кухню и обратно, помогая нести к столу тарелки и блюдца с наивным и тонким рисунком на пожелтевшей эмали. Он уже знал, что нельзя приглушить музыку, отодвинуть с дороги какую-нибудь вазу или плетеную корзинку, чьи места навечно установила покойная тетка, или спугнуть муравьев, которые, по ее мнению, становились опасны, если их обидеть, и Седой послушно обходил их под ироничным, но настойчивым взглядом Лиат.
Было в ней затаенное желание защитить свой теплый мир от человека трезвой северной культуры.
И это ей удавалось. Шум городской суеты не проникал за толстые стены, воздух всегда оставался чист, лучи заходящего солнца плавили бронзу подсвечников, караван муравьев пересекал пустыню глиняного пола, цвел миндаль, черные зрачки Лиат расширены, шея упруго вытянута, словно она несет кувшин с водой не в руках, а на голове, узкое белое платье смиряет волнение ног, ступающих в такт восточной мелодии с ее придыханиями, гортанным криком и бессильной паузой, когда голос прерывается и погибает – словно отражение в звуках этих фантастических узоров на исламских мечетях…
И я снова увидел мост через Авали и наш танк, перегородивший дорогу к нему. Ребята расположились поесть в тени высохшего дуба, а я еще возился с рацией, и тут передали это сообщение. Мне стало нечем дышать, и я быстро полез наверх.
– Мы ждем тебя! – нетерпеливо крикнул Рони.
Я сказал хрипло:
– Махат…
– Что?
– Комдив объявил, что эта война – ошибка, и снял с себя командование.
– Махат? – переспросил Рони, не веря, что я говорю о командире дивизии, о том, на кого молился каждый солдат и кто привел нас сюда, в это пекло. Он стал подниматься ко мне.
– Я свяжусь со штабом. Ты не ошибся? А как же мы?
– Не знаю, – медленно сказал я, – наверное, ему это все равно. И тогда вдали, из-за развалин показался человек в куфие и поднял над плечом что-то длинное и блестящее в солнечных лучах, и хотя рядом со мной был пулемет, я стоял, окаменев и чувствуя, что мне все равно, а Рони дал очередь и попал, но ракета, как бы одушевленная ненавистью мертвого, взвилась и ударила в танк, и внутри что-то взорвалось, и нас отбросило на землю, и последнее, что я запомнил прежде, чем провалиться в темноту – был Рони, который лежал неподвижно, охваченный огнем и покорно истекал кровью, словно ему теперь все равно…
– Нельзя ли убрать эту музыку? – в отчаянии закричал Седой. – Это ведь арабская песня, верно?
Он бессильно опустился на стул, не зная, куда девать ноги от копошившихся внизу муравьев, и вдруг плеснул в них водой.
Лиат выключила радио и присоединилась к Рони, который осторожно вылавливал мечущихся насекомых, присев на корточки и похожий на собаку, спасающую мокрых щенят.
– Прости, – пробормотал Седой.
Лиат внезапно вскрикнула.
– Укусил! – пояснила она и сбросила с пальца большого коричневого муравья. – Это, конечно, их главарь – Шед (Черт). Он ничего не прощает.
Лиат любила всему давать новые, более подходящие по ее мнению имена. Она и Седого стала звать так, когда его волосы, раньше шелковисто льняные, после пожара в танке стали почти серыми.
– Ты относишься к насекомым, как к людям, – усмехнулся он.
– Так думала моя тетка, единственная, кто, кроме меня уцелела из всей нашей семьи при бегстве из Йемена. Когда она умерла, все решили, что это сердечный удар. Но я знаю настоящую причину. У нее на теле были вот такие пятна, – Лиат показала красную точку на мизинце.
– И ты обвинила муравьев?
– Да. Это случилось после того, как она нечаянно опрокинула на них горшок с цветами, задавив многих. Муравьи долго не появлялись, а потом вернулись словно другие – злые и нервные, не дающие покоя ни днем, ни ночью. Тетя считала, что они никогда не забудут это несчастье, и каждое новое поколение будет спрашивать, почему это произошло. Подобно нам, евреям. Есть только один способ не дать им окончательно ожесточиться.
Вынув из буфета банку меда, Лиат налила в блюдце густую золотистую сладость и поставила его на пол. Оно сразу же заполнилось жадно копошащейся массой.
Седой был возмущен:
– Не понимаю, почему ты, современная умная девушка, относишься к ним, как к разумным существам!
Тогда она, склонившись над муравьями, сказала громко:
– Шед! – Копошение в блюдце прекратилось. – Там уже ничего не осталось. Идите к себе!
И те ленивой и сытой чередой устремились к двери мимо Лиат, все еще сосущей палец, будто маленькая девочка.
Просияв, она повернулась к Седому.
– Видел?
– Что?
Лиат вздохнула.
– Фу, какой ты прозаичный. А Рони видел, правда, Рони?
Седой язвительно заметил:
– Они даже не поблагодарили тебя. Если ты права, и твои насекомые похожи на нас, то завтра они будут еще многочисленнее и требовательнее, и, в конце концов, ты, скрепя сердце, поступишь с ними так же, как и я пять минут назад – утопишь в воде, а раньше всех – их главаря.
– Ты шутишь. Это просто маленький муравей, мстящий за свои обиды, – как-то странно взглянула она на Седого. И вдруг всплеснула руками: – Господи, все, должно быть, остыло!
Они уселись вокруг стола, где дымился асад, маленький вулкан из теста, края которого нужно отламывать двумя пальцами и макать в горькую лаву на дне его кратера.
– Кстати, – улыбнулась Лиат, – ту мелодию, что так не понравилась тебе, играли и пели наши предки еще до разрушения Иерусалима. Должно быть, арабы потом переняли ее, а мы увлеклись Западом… А что же ты не наливаешь вина? – напомнила она. – У нас есть отличный повод выпить. – Лиат засмеялась, не в силах совладать с радостью, переполнявшей ее, – Рони сегодня начал говорить, правда, Рони? Он сказал: Ты! Ты! – пропела она. – Никогда не думала, что это звучит так красиво! – Лиат глотнула из своей рюмки. – Ну, повтори это, милый, – ее яркие влажные губы шевельнулись, приглашая Рони сделать то же, и тот весь напрягся, мучительно двигая ртом, и вдруг встал и, ковыляя, вышел из комнаты…
Седой тоже поднялся, но Лиат остановила его:
– Не нужно. Ему хочется побыть одному. Он всегда любил уединение – в лесу или на Кинерете.
Они помолчали.
– Знаешь, в Ливане я узнал, что его родители из тех мест, из деревни возле Цора, откуда Зевс выкрал когда-то принцессу Европу. Рони рассказал, что его отец тоже тайно увел мать, уже беременную им, в Израиль, и она очень тосковала и постоянно вспоминала красоту родного края. Может быть, это тяготение к природе – врожденное?
Лиат кивнула задумчиво:
– Я уговаривала Рони пойти на биологический, но в его классе считалось, что единственное занятие для мужчины – компьютеры.
– А что с его работой? – спросил Седой. – Не трудно ему?
– Он не работает.
– Почему?
Она откинула назад легкие пряди волос, и они черным крылом взметнулись за ее плечами.
– Хозяин усадьбы решил, что Рони своим видом пугает гостей.
– Как? – голос Седого сразу охрип. – Разве он не может подрезать кусты и поливать клумбы рано утром, когда никого нет?
Лиат неотрывно глядела в окно:
– Пусть Рони возится с деревьями и цветами вокруг нас… Видишь, какая красота!
И Седой поразился мягкому свету в ее лице, словно отражавшему лучи другого, а не нашего жестокого солнца.
– Еще одна вещь, которую я не смогу открыть старику, – угрюмо сказал Седой, и все было серо в нем – волосы, потерявшие цвет и зрачки под бледными веками, и худые щеки, и только одна краска устояла от времени – алый след от раны, затянувшейся на лбу, но еще горящей в его мозгу.
– О чем ты? – Лиат провела рукой, как бы стараясь сгладить этот шрам, который лежал между тонких преждевременных морщин, словно глубокая и острая мысль, не покидавшая его никогда.
– Об отце, – проговорил Седой, впитывая всем телом прохладу ее ладони с медным старинным кольцом на среднем пальце. – В нашем московском доме нельзя было слова плохого сказать о том, что происходит здесь. Сообщения русских газет заранее определялись как ложь. Я помню, отец выгнал свою племянницу, вернувшуюся из-за границы и сообщившую, что в Иерусалиме, прямо на улицах продаются порнографические журналы. Мир был поделен им раз и навсегда на две части, одна – маленький цивилизованный оазис, другая – огромная и дикая пустыня, по которой он шел, опираясь на посох своей веры, вступая в спор с каждый сомневающимся, уча ивриту, переснимая и раздавая брошюры, и так добрался – не без помощи властей – до Сибири… Вернулся он через пять лет, больной, почти ослепший и оглохший. Только тогда он узнал, что матери уже нет и, мне кажется, слегка помешался. Он так и не оправился от этого и все время шептал: «Хочу в Израиль!» Я спросил: папа, ты никому не причинил вреда, почему они сделали это с тобой? Он процитировал из «Гмары»: «Потому что вспыхнет огонь и найдет колючки, но сожжены будут стога». Это значит, что лучшие погибают первыми. Они заложники в руках Бога за дела всех людей.
Седой недобро усмехнулся, потом продолжал:
– Мы уехали из России. И здесь, в Кирьят-Шарете, он лежит за спущенными трисами, бессильный и изможденный, и ждет моего возвращение с работы и, вставив батарейку в слуховой аппарат, торопит меня: «Ну, ну! – и я сажусь возле его постели, мне известно, какое лекарство еще поддерживает в нем жизнь, я громко и уверенно рассказываю ему о засухе в Африке, об эпидемии в Иордании, которая убивает скот, о безработице в Италии – нет, не у нас, папа, не у нас! – о Чаушеску, хранившем деньги в иностранном банке, а не о нашем премьер-министре, о вожде немецких неонацистов, отмахивающемся от Шоа, а не о нашей известной общественной деятельнице, о греческом депутате, купившем голоса избирателей, а не о миллионере из Савьона, о перестрелке враждующих кланов в Сицилии, а не в Яффо, о групповом изнасиловании в нью-йоркском Центральном парке, а не в киббуце Шомрат, о проститутках на площади Пигаль, а не на окраине Холона, о детях, курящих гашиш и сквернословящих в школах Гарлема, а не в гимназии «Герцлия», о том, как непослушных младенцев бросала на каменный пол в туалете воспитательница из Сохо, а не из Рамат-Гана – нет, папа, не у нас, нет! – и отец кивает редеющей бородкой, улыбается и, впившись в меня мутными от катаракты зрачками, шепчет:
– Мир вокруг безумен. Нельзя поддаваться этому. Мы – «ор ле-гоим», и нам нужно хранить свои традиции, яркую гирлянду огней, протянутую в дикой ночи. И все. Все! – этими словами он завершал самые важные свои мысли…
Седой застонал, схватил недопитую бутылку вина.
– Я возьму это к Рони.
На пороге обернулся:
– Кто это?
Она давно понимала его с полуслова.
– Не надо, Седой!
Его скулы были каменными:
– Я могу и сам найти, если пойду с Рони.
Лиат сказала тихо:
– У него белый коттедж, похожий на корабль, в Немецкой слободе. Не будь Дон-Кихотом, Седой. Что ты можешь сделать?
– Я спрошу его, думал ли он когда-нибудь, почему покалечен Рони, а не он? И об этой девочке в соседнем дворе, парализованной – почему она? Потому что огонь первыми пожирает стога? И значит те, другие, могут спать спокойно?
Он с силой толкнул дверь:
– Это несправедливо. Они должны знать, что из-за них гибнут невинные!
Седой присел рядом с Рони у распахнутого окна. Ночной горный ветер освежал голову, звезды сулили успокоение и хмель развязывал язык:
– Послушай, Рони, а что ты пытался писать на клочках бумаги в больнице? – ничего я не писал, – ну как же, я кое-что разобрал, могу напомнить, – да, ладно, помню я, – тогда скажи, что означают эти слова: «Если он оставил нас», – брось, Седой, – нет, погоди, уж не о генерале ли это нашем, так могу тебе доложить – жив он, здоров, выступал недавно по телевидению и важно давал советы, как военный специалист, – жаль только, что ребятам, которые остались там, уже все равно… – А, может быть, ты совсем о другом?
Так они говорили между собой или то говорило в них вино, или приснилось Седому потом.
Он вскочил от резкого укуса и увидел на руке маленькое пятно, а вокруг себя – муравьев и того, большого, как его звала Лиат – Шед? Он сбросил их с простыни на пол и испугался, что разбудил Рони, но соседняя кровать была пуста.
Седой знал, где он.
Рони сидел под сосной на вершине холма и в беспокойном ожидании всматривался вдаль. Сквозь клубы медленно отступавшего тумана уже неясно обрисовывался Старый город и строгая башня Давида, и над всем этим он видел узкий мост, такой, как над рекой Авали, который внезапно вспыхнул огнем от первых солнечных лучей, а вверху удалялась тень кого-то всесильного, в ком была вся их надежда и кто оставил их умирать. И Рони вдруг подался вперед и вырвал из себя мучительный звук:
– Ты!
– Ты! – дрожа, повторил он и весь поник…
– Мальчики, завтракать! – позвала Лиат, и они одновременно оглянулись, как делали всегда, услышав ее глубокий голос, и она одна была все та же, что год назад, когда они собрались на квартире у Седого перед отъездом в часть. Июльский зной выгнал их из дома, и они поехали на пляж Ришон и там оставались до утра, разбив две палатки, одну для Рони с Лиат, другую для него с Цахи. Они пили и пели без конца в эту ночь. Потом решено было все-таки немного отдохнуть, и Рони, задержавшись на минуту, прошептал, с силой обняв его плечи:
– Поклянись мне… Мало ли что может случиться со мной там… Никогда не покидай ее! Тебе-то ничего не будет, ты ведь из России, а они с русскими не воюют.
Он не смог заставить себя улыбнуться.
– Есть, командир, – сказал Седой.
Рони и Лиат удалялись, невинно взявшись за руки, но тени, отбрасываемые ими, выдавали их, и позже, лежа без сна, Седой вспоминал, как эти тени нетерпеливо льнули друг к другу, трепетали и сливались воедино на желтом песке…
Я встал и вышел из душной палатки. Горячий воздух ударил мне в лицо, и тогда я увидел ее, медленно бредущую по щиколотку в воде, нагую, но строго прикрытую бледным сиянием луны и оттого хранящую целомудрие и свежесть.
Я застыл, околдованный, на месте. Мне показалось, что она заметила меня, но прошла дальше, не смутившись. Задумчивая и тихая, она представилась мне самой природой, которой нечего скрывать и стыдиться, и ее таинственно мерцавшие бедра были словно сделаны из лунного света, а юные груди – всплеском тугой волны, и к ним, полным живительной влаги, тянулись мои иссохшие от жажды губы…
И вдруг меня охватила острая боль, потому что я понял, что мы не вернемся с этой войны, с войны не возвращаются, а приходят другие и уже в чужой мир, и она – там, в ночи – может быть, последняя чистая красота на земле.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































