Текст книги "Машина до Килиманджаро (сборник)"
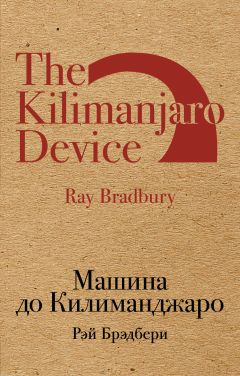
Автор книги: Рэй Брэдбери
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
По ветру от Геттисберга
Вечером, в половине девятого, из театра до него донесся резкий звук.
«Мотор стреляет, – подумал он. – Нет. Пистолет».
Мгновением позже он услышал взволнованный хор голосов, и сразу настала тишина, словно обвал преградил путь могучей волне. Хлопнула дверь. Раздался топот.
В кабинет ворвался бледный, как смерть, билетер, дико озираясь, будто не видя ничего вокруг, силился что-то произнести:
– Линкольн… Линкольна…
Бэйес глянул на него поверх бумаг.
– Что там с Линкольном?
– Он… в него стреляли.
– Отличная шутка. А теперь…
– Стреляли. Вы что, не поняли? Застрелили. На самом деле. Убили во второй раз!
Билетер вышел, держась за стену, его шатало.
Бэйес непроизвольно встал.
– О, боже мой…
Он промчался мимо билетера, который бросился за ним по пятам.
– Нет, нет, – повторял Бэйес. – Это же невозможно. Не может быть. Нет. Не может быть…
– Его убили, – выдохнул билетер.
Едва они, пробежав по коридору, миновали поворот, навстречу из дверей театра высыпала толпа зрителей, кричащих, визжащих, стоявших в смятении, и были различимы голоса:
– Где он? Где убийца? Вон тот? Этот? Держите! Не дайте уйти! Стой!
Пара охранников, спотыкаясь, расталкивая и оттаскивая людей, пыталась оттеснить их от человека, тщетно уклонявшегося от ударов, сыпавшихся на него отовсюду. Люди рвались к нему, толкали, щипали, лупили его свертками, дамскими зонтиками, что разлетались на куски, как воздушный змей в урагане. Женщины потерянно кружились в поисках своих спутников, плача и причитая. Мужчины с ревом отпихивали их подальше от центра бури, где охранники отбивали у толпы человека, растопыренными пальцами закрывшего окровавленное лицо.
– Господи боже. – Бэйес замер, постепенно понимая, что все это не сон. Он уставился на побоище. Затем бросился вперед: – Сюда! Назад давай! А ну, с дороги! Сюда, за мной!
В толпе образовалась брешь, в которую они проскочили, заперев дверь.
В дверь колотили, изрыгая все проклятия, которые только мог придумать человек.
Театр содрогался от завываний, криков и угроз.
Бэйес долго глядел на ходившие ходуном двери, затем перевел взгляд на охранников и сжавшегося человека.
Внезапно он отпрянул, словно его ослепил проблеск истины в прогале между креслами.
Он наступил на нечто, затаившееся на ковре у прохода, серое, как мерзкая крыса, кусающая свой хвост. Склонившись, он нашарил все еще теплую рукоять пистолета, не веря своим глазам, поднял его и опустил в карман. Прошло с полминуты, прежде чем он смог поднять глаза и взглянуть на фигуру посреди сцены.
Авраам Линкольн сидел в резном кресле, и голова его склонилась под неестественным углом. Глаза померкли. Его большие руки покоились на ручках кресла, словно он вот-вот был готов подняться и прекратить все это безумие.
Тяжко, будто преодолевая бурный поток, Бэйес поднялся по ступеням на сцену.
– Свет, черт возьми! Дайте же света!
Невидимый киномеханик вдруг вспомнил, что существуют рубильники. Во мраке зала воцарился свет.
Бэйес остановился на помосте, обогнув кресло.
Да, вот оно. Входное отверстие пули у основания черепа, позади левого уха.
– Такова участь тиранов, – произнес кто-то.
Бэйес вскинулся.
Убийца, расположившийся на последнем ряду, опустил лицо, обращаясь к самому себе:
– Так…
Он осекся. Над его головой что-то мелькнуло. Кулак охранника взметнулся вверх, как будто против его воли. Он был уже готов обрушиться на голову убийцы, заткнув ему рот, но…
– Нет! – крикнул Бэйес.
Кулак замер на полпути, затем охранник нехотя отвел руку, подавив отчаянный гнев.
«Не могу поверить, – думал Бэйес, – это невозможно. И этот человек, и охрана, и это…» – он снова взглянул на аккуратное отверстие в черепе президента.
Оттуда медленно сочилось машинное масло.
Изо рта мистера Линкольна по подбородку лениво текла такая же струйка, капала на галстук с рубашкой.
Бэйес встал на колени возле тела, приложил ухо к груди президента.
Там, внутри, чуть слышно гудели колеса, шестеренки и платы, нетронутые, но работавшие без всякого согласия.
Этот нестройный хор звуков заставил его вскочить.
– Фиппс?!
Охранник растерянно моргал.
Бэйес щелкнул пальцами.
– Фиппс же сюда сегодня приедет? Господи, нельзя, чтобы он это увидел! Отвлеките его! Позвоните, скажите, что на станции в Глендейле авария! Живо!
Один из охранников спешно покинул зал.
Проводив его взглядом, Бэйес думал: «Боже, пожалуйста, лишь бы Фиппс не приехал…»
Странно, но в этот миг он даже не помышлял, что станется с ним самим, думая о жизнях других.
Вспомнил, как пять лет назад Фиппс, разложив на столе схемы, чертежи и акварели, впервые раскрыл свои великие планы… Как все, кто там был, посмотрев на стол, потом на Фиппса, разом выдохнули:
– Линкольн?
Да! Фиппс смеялся, словно отец, вернувшийся из церкви, где откровение явило ему чудесного сына.
Линкольн. Такова была его задумка. Линкольн, рожденный заново.
Что же Фиппс? Ему суждено было вскормить и воспитать свое дитя, великолепного, гигантского робота.
Как здорово было бы сейчас оказаться в полях под Геттисбергом, слушать, видеть и постигать, заостряя клинки своих душ, жить полной жизнью?
Бэйес обошел согбенную фигуру в кресле, вспоминая прошедшие дни и годы.
Тот вечер, и Фиппс с коктейлем в руке, и в бокале его отражается свет ушедшего и грядущего:
– Я всегда мечтал снять фильм о том, что случилось в Геттисберге: как собирается великое множество людей, а на самом краешке толпы, изможденной солнцем, стоят фермер с сынишкой и не могут расслышать, как ни пытаются, уносимые ветром слова стройного человека в цилиндре там, на трибуне. Заглянув в цилиндр, как в собственную душу, собирая воедино мысли, как неотправленные письма, он начинает говорить.
И фермер, чтобы уберечь сына в давке, сажает его на плечи. И хрупкий мальчонка становится его глазами и ушами, ведь фермер лишь догадывается о том, что говорит президент этому людскому морю, затопившему Геттисберг. Голос президента, высокий и чистый, то слышится ясно, то уносится ветром. Слишком много ораторов выступало перед ним, все в толпе взмокли, устали от толкотни, еле держась на ногах. И фермер шепчет сыну там, наверху:
– Что там? О чем он говорит?
И его сын, склонив голову, прислушивается к словам, что доносит ветер, и отвечает:
– Восемьдесят семь лет назад…
– Ну?
– …наши отцы пришли сюда…
– Так, так?!
– …на этот континент…
– Куда?
– На континент! Новая нация, зачатая в свободе, с верой в то, что все люди…
Так все и было: ветер, несущий обрывки слов, речь человека вдали, и фермер, неустанно державший на плечах своего сына, и мальчуган, ловивший каждое слово и шепотом пересказывавший его отцу, и отец, улавливавший лишь отдельные фразы, но понимавший смысл всего, что было сказано…
…из народа, народом избранное, ради народа, никогда не исчезнет с лица земли.
Мальчик умолк.
– Все.
И люди расходятся кто куда, а то, что было сказано в Геттисберге, становится историей.
А фермер так и не снял с плеч сына, что слушал слова на ветру, и мальчик, которого они навсегда изменили, наконец спустился сам…
Бэйес во все глаза глядел на Фиппса.
Тот осушил бокал, поморщился, как бы стесняясь своей искренности, затем фыркнул:
– Никогда мне не снять подобное. Но я смогу создать вот это!
С этими словами он разложил на столе чертежи «Механического духа Фиппса, Салема, Иллинойса и Спрингфилда», механического Линкольна, электромасло-смазочной машины из пластика и индийского каучука, превосходно функционирующей, превосходящей все самые смелые мечты.
Фиппс и его сын, явившийся в этот мир уже взрослым, гигант Линкольн. Линкольн, воскрешенный технологией, дитя мечтателя, такой нужный сейчас, пробужденный к жизни электрическими разрядами, получивший голос безвестного актера, родился в этом уголке старой доброй Америки, чтобы остаться навсегда! Вместе с Фиппсом.
И в тот день над ним смеялись, на что Фиппс лишь сказал:
– Вы должны встать рядом со мной по ветру от Геттисберга, чтобы научиться слышать.
Каждому нашлось место в его горделивом замысле: одному он поручил остов, другому благородный череп, третий пробудит дух и слово при помощи спиритической доски, а остальные пусть трудятся над кожей, волосами и пальцами. Да, совпасть должно было все, даже отпечатки пальцев!
Дело казалось им лишь забавой, и они втихую посмеивались.
Авраам никогда бы не обрел дар речи, не смог бы двигаться, все понимали это. Все расходы были подсчитаны, проект нес лишь убытки.
Но месяцы сменялись годами, и ухмылки сменялись улыбками. Они были словно радостная стая проказливых мальчишек, заговорщически собиравшихся в кладбищенских мраморных склепах в полночь, чтобы разбежаться на заре.
Дело по воскрешению Линкольна кипело и крепло.
Один безумец увлек за собой еще дюжину, и с маниакальным упорством они рылись в пыльных архивах, похищали посмертные маски, отливали пластик костей, откапывая и закапывая обратно настоящие.
Одни бродили по местам былых сражений, надеясь, что ветер истории вдохнет в них новые идеи. Другие рыскали по октябрьским крахмально-коричневым салемским полям, уже попрощавшимся с летом, принюхивались, прислушивались, не слышно ли неизвестных речей долговязого юриста, что позволят им выиграть дело.
Не бывало еще на свете отца, который был бы так же горд и взволнован рождением сына, когда на верстаках сочленялись поверхности суставов, устанавливался речевой модулятор и каучуковые веки обрамляли грустные глаза, повидавшие слишком многое. Благородные уши могли слышать лишь прошлое. Большие костистые руки были похожи на подвесные маятники на страже времени. Обнаженное тело облекли одеждой, застегнули все пуговки, завязали галстук, снуя над гигантом, как портняжки. Но более всего они походили на волхвов в светлое и чудесное пасхальное утро или на апостолов на иерусалимских холмах, готовых отворить гробницу и восславить Его пришествие.
В последний час последнего дня Фиппс выгнал всех, заперев двери, и воссоединил дух и плоть, а затем наконец двери распахнулись, и он попросил их, метафорически, принять Его ношу на свои плечи.
Среди полного молчания Фиппс воззвал к нему сквозь поле старой битвы и за его пределы: «Тебе ли лежать в могиле? Восстань!»
И Линкольну, покоившемуся далеко в прохладной мраморной спрингфилдской гробнице, приснилось собственное пробуждение.
И он восстал.
Заговорил.
Зазвонил телефон.
Бэйес вздрогнул.
Воспоминания оборвались.
Надрывался телефон на стене у сцены.
«О господи», – подумал он, срывая трубку.
– Бэйес? Это я, Фиппс. Бак только что звонил, срочно отправил меня в театр! Сказал, с Линкольном что-то случилось…
– Нет, – спохватился Бэйес, – ты же знаешь, каков он, Бак. Из бара, наверное, звонил. Я тут, в театре. Все в порядке, просто один из генераторов накрылся. Все уже починили…
– А с ним все в порядке?
– Лучше не бывает. – Он неотрывно смотрел на обмякшее тело. Господи Иисусе. Это какой-то бред.
– Я… Ладно, я выезжаю.
– Не надо!
– Боже мой, что же ты так в трубку орешь?
Бэйес прикусил язык, глубоко вдохнул, закрыв глаза, чтобы не видеть фигуру в кресле, и медленно проговорил:
– Фиппс, я не ору. Все нормально. Вот сейчас свет дали. Не могу говорить, тут народ ждет. Я тебе клянусь, все…
– Врешь.
– Фиппс!
Фиппс повесил трубку.
Мысли бешено крутились в голове Бэйеса. Десять минут, самое большее, до того, как человек, поднявший Линкольна из мертвых, встретится с тем, кто снова загнал его в могилу…
Он отошел от аппарата. Им овладело безумное желание бежать за сцену, включить запись, посмотреть, отреагирует ли мертвое создание. Может, дернет рукой или ногой? Нет, это безумие. С этим разберемся завтра.
Времени хватило бы лишь на разгадку тайны.
Тайны, заключенной в человеке, сидевшем в третьем кресле последнего ряда.
Убийца – ведь он был убийцей, разве нет? Как он выглядел?
Он видел его лишь мельком, не так ли? Не было ли его лицо похожим на лицо с того старого, выцветшего дагерротипа? С пышными усами, пронзительным взглядом темных глаз?
Бэйес медленно спустился со сцены. Пройдя вдоль рядов, остановился, оглядел человека, сидевшего в кресле и закрывавшего руками лицо.
Бэйес сумел лишь выдохнуть:
– Ты – Бут?
Странный человек весь сжался, задрожал и подтвердил его ужасную догадку, прошептав:
– Да…
Бэйес собрался с мыслями. Затем спросил:
– Ты Джон Уилкс Бут?
Убийца сухо рассмеялся, и смех его был похож на карканье.
– Норман Ллевеллин Бут. Совпала только фамилия.
«Слава богу, – подумал Бэйес. – Иначе я бы не выдержал».
Бэйес отвернулся, прошелся немного, остановился и взглянул на часы. Нет времени. Фиппс уже едет сюда. В любой момент он начнет ломиться в дверь. Жесткий голос Бэйеса отразился от стены:
– Почему?
То было эхо испуганного крика трех сотен зрителей, сидевших в зале каких-то десять минут назад, когда прозвучал злополучный выстрел.
– Почему?!
– Я не знаю! – вскричал Бут.
– Лжешь! – рявкнул Бэйес в ответ.
– Такой шанс нельзя упускать.
– Что?! – Бэйес ходил кругами.
– Ничего.
– Не смей даже повторять то, что ты сейчас сказал.
– Потому что… – продолжал Бут, спрятав лицо, трепеща от обуревавших его чувств, – потому что это правда.
Он торжественно прошептал:
– Я на самом деле сделал это. Я убил его.
– Ублюдок!
Бэйес все кружил по залу, боясь остановиться, боясь, что не сможет сдержаться и забьет глупца насмерть. Бут почувствовал это, проронил:
– Чего ты ждешь? Давай уже.
– Нет! – крик Бэйеса оборвался, и он продолжал уже спокойно: – Меня не станут судить за то, что я убью того, кто совершил убийство, но убил не человека – машину. Достаточно того, что ты застрелил того, кто казался живым. Я не хочу, чтобы судьи и юристы рылись в прецедентах, не зная, что делать с убийцей человекоподобной машины. Я не тупица, как ты.
– Жаль, – побледнев, прошептал Бут.
– Говори, – потребовал Бэйес, глядя сквозь стену, где-то за которой в ночи мчалась машина Фиппса, совсем не оставляя ему времени. – У тебя есть минут пять, может, больше, может, меньше. Говори, зачем все это? Начни с чего-то. Например, скажи, что ты трус.
Он ждал. Охранник рядом с Бутом нетерпеливо переминался с ноги на ногу.
– Да, я трус, – согласился Бут. – А как ты догадался?
– Я это знал.
– Трус, – повторил Бут. – Да, я трус. Всего на свете боялся. Людей. Новых мест. Боялся ударить кого-то, когда хотелось. Ничего не добился. Нигде не побывал. Всегда хотел стать великим, а почему нет? Хотел, да ничего не вышло. И я подумал: если в жизни ничто не радует, так хоть будет над чем погрустить. Горем можно наслаждаться. Почему? Кто же знает? Оставалось просто додуматься до чего-то ужасного, сделать это и поплакать над тем, что натворил. Так я хоть чего-то добился. Поэтому я это сделал.
– Да, у тебя все получилось.
Бут осмотрел свои повисшие руки, словно припоминал, как держать какое-то оружие.
– Тебе доводилось когда-нибудь убивать черепаху?
– Чего?
– Я впервые увидел смерть, когда мне было десять. Я нашел черепаху. Я знал, что черепахи живут очень долго, дольше меня. Почему это тупое создание может жить так долго, а я не могу? Я схватил кирпич и бил ее, пока ее панцирь не превратился в кашу. И она умерла.
Бэйес замедлил шаги, отвечая:
– По той же причине я однажды отпустил бабочку.
– Нет, по другой, – прервал его Бут. – Мне тоже как-то попалась бабочка. Сидела у меня на плече, просто хлопая крыльями. Я знал, что могу ее прибить. Но я этого не сделал, потому что через десять минут ее бы съела какая-нибудь птица. И я ее отпустил. А черепаха?! Валяется себе на задворках и живет почти что вечно! Поэтому я и взял тот кирпич. Правда, потом жалел об этом несколько месяцев. Может, и сейчас тоже жалею. Смотри…
У него тряслись руки.
– Какая связь, – спросил Бэйес, – между этим и тем, что ты сделал сегодня?
– Какая связь?! – Бут завопил как сумасшедший, сверля взглядом Бэйеса. – Чем ты слушал? Господи, да все от зависти! Я завидую, когда у кого-то что-то хорошо получается, когда что-то идеально работает, когда что-то прекрасно само по себе или долговечно! Не важно, что это! Важно, что завидую!
– Как можно завидовать машине?
– А вот так, черт бы ее драл! – Бут стиснул ручки кресел, медленно подавшись вперед, уставился на сгорбленную фигуру в кресле посреди сцены.
– Машины же совершенны, в сто раз лучше любого из людей, разве не так? Такие правильные. Назови мне хоть одного человека, который никогда не ошибается! А эта проклятая жестянка не только идеально выглядит, но и говорит, и двигается! Смажешь ее, подкрутишь пару шестеренок, и она проживет еще двести лет, а я уже буду гнить в земле! Смекаешь? Да, я ей завидую!
– Машины не знают зависти.
– А я знаю, я это чувствую! – не унимался Бут. – Я всегда был изгоем. Всегда наблюдал со стороны. У машины получается, а у меня нет. Может, она и не такая способная, как человек, зато делает все безошибочно! Никогда, слышишь, никогда я бы не смог стать таким безупречным, идеальным, сводить людей с ума! Не смог бы стать тем, кто заслуживал смерти так же, как она, эта тварь, этот ваш президент!
Он вскочил, и его вопли доносились до самой сцены.
Линкольн молчал. Машинное масло блестящей лужицей растекалось по полу.
– Ваш президент… – пробормотал Бут, словно только сейчас осознал случившееся. – Да, этот ваш Линкольн. Тебе что, не ясно? Он давно умер. Он не должен жить. Не должен. Это бред. Сотню лет спустя восстал из мертвых. Его пристрелили, похоронили, и вот он снова живет и здравствует. Сегодня, завтра и всегда. Так как его звали Линкольн, а меня Бут, я должен был это сделать. Просто обязан.
Он затих. Глаза его остекленели.
– Сядь, – тихо ответил Бэйес.
Бут сел, и Бэйес кивком указал охране на дверь:
– Подождите снаружи, пожалуйста.
Когда они остались вдвоем, Бэйес наконец хорошенько разглядел убийцу. Взвешивая каждое слово, он проговорил:
– Хорошо сказано, только это не все.
– Что?
– Ты не все мне рассказал. Ты упустил кое-что.
– Ничего я не упустил!
– Это тебе кажется. Ты обманул сам себя. Заблуждаешься, как и все романтики. Фиппс, придумавший этого робота. Ты, убивший его. Все сводится к одному, все очень даже просто: тебе хочется попасть на страницы газет, так ведь?
Бут ничего не сказал в ответ, лишь чуть выпрямил плечи.
– Хочешь, чтобы твое лицо попало на обложки всех журналов от Восточного до Западного побережья?
– Нет.
– Попасть на телевидение?
– Нет.
– Может, тогда на радио?
– Нет!
– Быть предметом внимания всех судей и юристов, спорящих о том, можно ли человека судить за такое…
– Нет!
– … за убийство человекоподобной машины…
– Нет!
Бут тяжело дышал, дико вращая глазами. Бэйес не останавливался:
– Здорово, должно быть, стать темой разговоров для миллионов людей на ближайшие дни, месяцы, годы!
Бут молчал.
Но на его губах играла слабая улыбка. Он спешно прикрыл рот ладонью.
– Неплохо бы продать свои мемуары издательствам подороже, так?
По лицу убийцы катился пот, он весь взмок.
– Сказать тебе, почему я задаю тебе все эти вопросы? Сказать, а? Ну что ж, я тебе скажу…
В дверь постучали.
Бэйес подскочил. Бут обернулся на звук.
Стучали все громче.
– Открой дверь, Бэйес, это я, Фиппс! – раздался крик в ночи.
Снова стук, затем тишина. Бут и Бэйес молча смотрели друг на друга, как заговорщики.
– Господи, да впусти же меня!
Снова колотили в дверь, все сильнее, она дрожала под ударами. Затем все стихло, лишь было слышно, как, задыхаясь, бежит человек. Должно быть, Фиппс направился в обход.
– На чем я остановился? – продолжил Бэйес. – Ах да, зачем были все эти вопросы? Получишь ли ты всемирную известность благодаря телевидению, радио, газетам, скандалам и сплетням?
Он помолчал.
– Нет.
Бут пошевелил губами, но ничего не сказал.
– Н-Е-Т, – по буквам произнес Бэйес.
Он подбежал к убийце, за пазухой нашарил его портмоне, вытряхнул оттуда все документы, засунув их в свой карман, и швырнул портмоне владельцу.
– Нет? – переспросил ошарашенный Бут.
– Ничего у тебя не выйдет, Бут. Не будет ни фотографий, ни телепередач, ни статьи на развороте, ни колоночки, никакой славы, известности, покорности, самосожаления, бессмертия, никакой ерунды о дегуманизации и торжестве человека над машиной. Мученика из тебя не сделают. Ты никуда не денешься от собственной посредственности. Никакой сладости страданий, слезливой сентиментальности, самоотречения, никаких судов и адвокатов, аналитиков, пишущих о тебе через месяц, год, тридцать, шестьдесят, девяносто лет спустя, никаких сплетен о тебе не предвидится. И денег тоже. Ничего.
Бут весь вытянулся, будто висел на дыбе, и побледнел, как смерть.
– Не понимаю. Я же…
– Совершил такую подлость? Ну да. Но я тебя переиграю. Ведь теперь, когда тобой все сказано и сделано, когда кончились твои аргументы и все подытожено, тебя больше не существует. Таким ты и останешься, ты, ничтожный, грязный, гнилой нарцисс. Ты, карлик, которого я загоню под землю, вместо того чтобы помочь тебе вознестись.
– Только попробуй! – заорал Бут.
– Что ж, мистер Бут, – довольно сказал Бэйес, – еще как попробую. Делать я могу все, что мне вздумается, поэтому обвинений в суде выдвигать не стану. Ведь судить будет некого и не за что.
Снова забарабанили в дверь, на этот раз за сценой.
– Бэйес, ради всего святого, впусти меня! Это я, Фиппс! Бэйес! Бэйес!
Бут смотрел на то, как сотрясалась дверь, а Бэйес ответил громко, спокойно, не торопясь:
– Подожди минуту.
В запасе у него была еще пара минут, а потом дверь просто высадят. Но ему хотелось завершить начатое, доиграть свою роль до конца. Он кружил возле убийцы и говорил рассудительно и мягко, глядя на то, как он съеживается.
– Ничего не было, Бут. Можешь плести что угодно кому угодно, мы будем все отрицать. Тебя здесь не было, никто не стрелял, пистолет не найдут, никакого убийства не было, как не было и последствий, шокированной толпы и паники. Посмотри на себя. Что-то не так? Тебе плохо? Ты дрожишь? Наверное, от разочарования, ведь я так ловко все разыграл. И прекрасно. – Он указал ему на выход. – Теперь пошел вон отсюда.
– Тебе меня не заставить!
– Сам напросился, Бут. – Бэйес приблизился, схватил убийцу за шиворот и медленно поднял, глядя прямо в его лицо. – Расскажешь кому угодно, будь то жена, друг, начальник, мужчина, женщина, дядюшка, тетушка, если даже во сне проговоришься, Бут, знаешь, что я с тобой сделаю? Одно лишь твое слово, и я тебя достану, не знаю, как и когда, но покоя тебе не будет, я появлюсь тогда, когда ты меньше всего будешь ждать, и тогда я… Я тебе не скажу, я и сам пока не знаю. Но я сделаю так, что ты пожалеешь, что вообще родился.
Белый, как простыня, Бут трясся, выпучив глаза и разинув рот, весь мокрый, как мышь.
– Повтори то, что я сказал, Бут! Давай!
– Ты меня прикончишь?
– Повтори!
Он встряхнул Бута так, что у того лязгнули зубы:
– Ты меня убьешь!
Он вцепился в Бута еще сильнее и оттаскал так, будто хотел вытряхнуть из убийцы весь дух, чувствуя, что посеял в нем панику.
– Пошел прочь, Мистер Ничтожество, не будет тебе никаких журналов и телевизора, никакой известности, учебников истории, тебя похоронят в безымянной могиле. Вали отсюда, пока я тебя не убил.
Он отшвырнул Бута прочь. Тот упал, неловко поднялся и, запинаясь, бросился к двери, на которую уже кто-то налегал со всех сил.
Из темноты что-то кричал Фиппс.
– Не туда, – уронил Бэйес.
Он указал на пожарный выход, и Бут, крутнувшись, побежал в новом направлении.
– Стой, – сказал Бэйес.
Он прошел через зал, чтобы дать Буту пощечину, такую сильную, что разлетелись брызги пота.
– Хотя бы это сделаю, – процедил он. – Одного раза хватит.
Он взглянул на свою руку, затем, повернувшись, распахнул дверь.
Они увидели ночное небо и холодные звезды. Толпы поблизости не было.
Бут отшатнулся, взглянув на него, как глядят смертельно раненные, влажными глазами подстреленного оленя.
– Убирайся! – гаркнул Бэйес.
Бут стремглав понесся прочь. Дверь захлопнулась. Бэйес прислонился к ней, тяжко дыша.
У той, другой двери возобновились крики, возня и грохот. Это Фиппс. Пусть подождет еще немного…
Театр был огромен и пуст, как поле у Геттисберга на закате, когда толпа разошлась. Где были люди, которых не стало, где сын сидел на плечах у отца, передавая ему слова, слова, что больше не слышны…
Он вновь поднялся на сцену, где, помедлив, коснулся плеча президента пальцами.
«Глупец, – подумал он, стоя в меркнущих лучах света. – Не сейчас. Перестань. Хватит».
«Прекрати, я сказал. Хватит».
Он узнал все, что хотел. Сделал все так, как надо.
Зачем же эти слезы? Он плакал и рыдал, задыхаясь, и не мог их сдержать.
Он плакал и не мог остановиться.
Линкольна убили. Линкольн был мертв! А он дал убийце уйти.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































