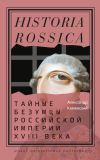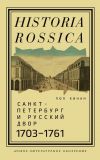Читать книгу "Петербургский панегирик ХVIII века"

Автор книги: Риккардо Николози
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
2. Жанровое пространство панегирика
Панегирик, согласно схеме трех аристотелевских родов (genera), совпадает с эпидейктическим жанром (έπιδεικτικόν γένος – genus demonstrativum). В отличие от судебного и совещательного видов красноречия, предметом эпидейктического жанра является не спорное дело, или «деяние» (res dubia), а заведомо конкретные обстоятельства (res certa), которые должны подтверждаться оценкой (похвалой или порицанием). Его так называемые речевые действия, часто неверно определяемые как функции, ограничиваются альтернативой: похвала (επαινος – laus) или порицание ((ψόγος – vituperatio)[30]30
См.: [Lausberg 1973: 55; 129–138].
[Закрыть].
Таким образом, в панегирической речи подтверждается единодушное, всеобщее мнение о рассматриваемом «деянии» (res) на основе преимущественно бинарных возможностей утверждения или отрицания. Панегирик, как правило, утверждает и санкционирует определенный порядок власти и связанный с ним набор ценностей, прославляя его или же (в зависимости от обстоятельств) осуждая противника или противную сторону. Для панегирика показательна «идеология утверждения» и одновременно отрицания, в зависимости от того, о чем идет речь: о «позиции оратора и адресата» или «реального или предполагаемого противника» [Uhlenbruch 1979: 67]. Утверждение достойного похвалы «ныне» соотносится, как правило, с заслуживающим порицания «прежде», и эта оппозиция выражается часто в мифологических категориях (золотой век versus хаос, locus amoenus versus locus horribilis и т. д.). Привязанность к оппозиции «прежде – ныне», как правило, лишает панегирик процессуальности в изображении исторических событий. Переход от «мрака» к «свету», от «хаоса» к «космосу» в текущей политической и культурной действительности сиюминутен и изображается как нечто уже свершившееся.
Панегирик имеет преимущественно подтвердительно-описательный и одновременно (в бинарных категориях) оценочный характер. Это, однако, выражает лишь его базисную структуру: в дальнейшем будет показано, что панегирик выполняет зачастую более дифференцированные риторико-коммуникативные функции. Ведь эпидейктическая речь, несмотря на свою «а-дискурсивность», то есть сосредоточенность на предметах, «не нуждающихся в дискурсивном пояснении», не монофункциональна – она не только утвердительна или репрезентативна, но может носить, например, и прескриптивный или даже «субверсивный» характер [Kopperschmidt 1999: 14].
Обыкновенно панегирик – это стихотворение «на случай» (ad hoc, окказиональная поэзия), причем под «стихотворением» здесь понимается как мерная речь, так и проза. В этом ее качестве панегирическую литературу отличают три существенных признака: окказиональность, репрезентативность и функциональность[31]31
См.: [Hambsch 1996: 1378–1379] со ссылкой на [Drux 1985].
[Закрыть]. Будучи литературной формой, возникающей, как правило, внутри придворного коллектива, панегирик отражает репрезентативные для этого коллектива официальные события (occasiones), которые в нем торжественно изображаются и прославляются. Достойными прославления поводами могут быть, в частности, важные события в жизни монарха и членов царской семьи (коронация, венчание, рождение, кончина и т. д.) или же победа в войне, заключение мира, посещение монархом какого-либо города и т. д. Панегирическое восхваление таких событий не просто одномоментно, оно регулярно повторяется (день коронации, день рождения, день смерти), подтверждая тем самым единодушное состояние двора (радость или скорбь), которое не должно прерываться, при этом двор метонимически олицетворяет все общество[32]32
В качестве примера из русской литературы ср. оды в честь восшествия на престол Елизаветы, написанные Ломоносовым не только в 1742 г., но и в 1746, 1747, 1748, 1752 и 1761 гг.
[Закрыть].
Следующий признак панегирика – репрезентативность – ни в коей мере не сводится лишь к пышной, бесцельной саморепрезентации двора, преследующей чисто эстетические цели. Эпидейктическое красноречие – это не просто риторическое «искусство ради искусства», как его часто определяют со ссылкой на Аристотеля[33]33
См., например: [Lausberg 1973: 130f.; Matuschek 1994: 1258].
[Закрыть]. Аристотель, предпринявший в своей «Риторике» первый опыт теоретической систематизации панегирика, отмечал, что эпидейктическое красноречие рассчитано на «наслаждающегося», а не «оценивающего» реципиента, которому важен главным образом стиль речи, а не ее содержание[34]34
Аристотель проводит различие между «практическим» красноречием,
к которому относятся судебная и совещательная речи, и «торжественным», или эпидейктическим, красноречием, которое ввиду его «бесполезности» занимает в риторической концепции Аристотеля маргинальную позицию (см. об этом: [2гште1ег 1999: 383–385]).
[Закрыть]. На основании этого эпидейктическое красноречие часто понималось исключительно как демонстрация ораторского мастерства[35]35
Можно было бы, конечно, утверждать, что аристотелевская оценка эпидейктической речи по-прежнему актуальна, если, например, принять во внимание тот факт, что исследование панегирика поначалу не извлекло почти никакой пользы из возрождения риторики в XX столетии. Правда, «новое» открытие риторики как techne и механизма, регулирующего создание текста, коренящееся, с одной стороны, в формалистской идее о «сделанности» литературы, с другой стороны, в идее Курциуса о общеевропейской, основанной на риторике литературной традиции, выявляет относительный характер романтической эстетики вдохновения, вводя тем самым исторически верный взгляд на поэзию XVII–XVIII вв., которая вместо furor poeticus отдает предпочтение комбинаторике и принципу imitatio – aemulatio; и все же в этом контексте панегирик – хотя бы на первых порах – не смог действительно привлечь к себе внимания. Лишь благодаря появлению новых тенденций в культурологии за последние десятилетия ситуация несколько изменилась. Уже в 70-е гг. многочисленные труды по русской культуре XVIII в. тартуско-московской школы были посвящены исследованию панегирических текстов, продемонстрировав исключительно важную роль, которую они играют в саморепрезентации культуры и в конструировании культурной идентичности. В этом структуралистско-семиотическом контексте подчеркивалась исторически обусловленная функциональность панегирика, особенно од Ломоносова, причем учитывался и его литературно-теоретический аспект (см., например: [Лотман, Успенский 1977, 1982, 1996; Успенский 1994а; Успенский, Живов 1983; Живов 1996b, 2000; Живов, Успенский 1987]). Благодаря постструктуралистскому подходу «нового историзма» (New Historicism), разделяющего веру советской семиотической школы в текстуальность культуры и в значение исторического контекста для интерпретации текстов, панегирик английского Возрождения также становится важным предметом исследований, причем культурология означает здесь одновременно и герменевтический метод «пристального чтения» (close reading) (см., например: [Greenblatt 1994 и Montrose 1994]). Не в последнюю очередь свидетельствует о повышении интереса к панегирику как риторическому жанру изданный недавно объемистый сборник J. Kopperschmidt, H. Schanze «Fest und Festrhetorik. Zu Theorie, Geschichte und Praxis der Epideiktik» (1999).
[Закрыть]. Такое восприятие, однако, не учитывает значения функциональности панегирика, коренящейся уже в самом факте символического изображения власти. По замечанию Б. Хамбша, восхваление монарха и панегирик вообще изображают «в типизированной форме политические и моральные представления о норме как уже реализованные»; они служат «церемониальному приходу к власти или ее утверждению» [Hambsch 1996: 1379].
Придворный порядок, или придворная «истина», которая должна подтверждаться в панегирике как риторическая res certa, может быть, однако, еще не закрепившейся в обществе или совсем новой. Здесь проявляется другая функция эпидейктической речи: она может стать «убеждающим способом распространения и закрепления определенного порядка власти» [Hambsch 1996: 1379] – как это было в России Петровского времени – или нового режима, например, после смены власти. В таком случае панегирик участвует скорее в создании, а не в закреплении политических и социальных норм.
Придворный панегирик – это, таким образом, не только торжественное признание заслуженной монархом похвалы, но и (пусть только и в отдельных случаях) скрытая политическая речь (не исключающая подспудной критики)[36]36
Как, например в «Panegyricus ad Philippum Austriae ducem» Эразма Роттердамского (1504).
[Закрыть], направленная на то, чтобы связать правителя обязательством по отношению к нормам, сформулированным в речи или стихотворении. В этом смысле панегирик заключает в себе не только дескриптивное, описывающее, но и прескриптивное, предписывающее начало[37]37
См.: [Muller 1981, 134].
[Закрыть].
Этимологически понятие «панегирик» происходит от греческого слова πανήγυρις, означающего торжественное собрание, на котором произносились хвалебные речи (πανηγυρι κόι λόγοι), часто в честь какого-нибудь бога. Это тексты, изначально предназначенные для публичного восприятия. С формированием придворной культуры и придворной риторики это специфическое явление развивается в сложную коммуникативную ситуацию, которую Б. Уленбрух [Uhlenbruch 1979: 65] описывает следующим образом на примере русской придворной культуры:
Похвальная речь строится, как правило, на отношении Я (говорящий) – ТЫ (адресат), то есть, если следовать терминологии Якобсона, на эмотивно-коннотативной оси. Вокруг двоичности адресанта и адресата (эксплицитного реципиента) собирается более или менее четко очерчиваемый коллектив придворного общества, играющий роль имплицитного реципиента, перед которым исполняется прославляющий текст и который воспринимает прославляющий текст, так сказать, эстетически. Отправитель текста и царь вступают в своего рода (неполноценный) диалог, неполноценный потому, что царь, внимающий похвале, остается при этом «нем». Ритуал прославления и прославляющий текст исполняются в присутствии коллектива: поэт и царь играют роли адресанта и адресата, придворные же – роль зрителей в узком смысле и, как участники ритуала, роль статистов.
Характеристика Уленбруха требует дополнения и уточнения. Придворное общество, метонимически, как уже говорилось, представляющее все общество, играет роль не только «имплицитного реципиента», но и некоторым образом «имплицитного адресанта», оратор или поэт выступает выразителем общих чувств коллектива. Тем не менее прославляющий текст почти всегда основан на некой «правде», идеологии, являющейся, по определению, идеологией монарха: текст лишь условно обращается к монарху, а его (имплицитным) адресатом является коллектив, воспринимающий текст не только эстетически[38]38
Разумеется, сюда не относятся панегирические произведения с преобладающим прескриптивным началом, то есть обращенные непосредственно к монарху.
[Закрыть]. Прославляющий текст, как правило, подтверждает информацию, уже известную эксплицитному адресату, посредством пышного изображения чувств верноподданных (радости, скорби и т. д.).
С исторической точки зрения панегирик является продуктом эпохи Римской империи. Он возник в контексте формирования развернутого и сложного придворного церемониала и культа римского императора, чье исключительное положение по отношению к остальным смертным было концептуализировано при Диоклетиане (III в. н. э.) в кодификации придворного церемониала. Образцовым панегириком императорского времени была обращенная к Траяну благодарственная речь Плиния Младшего, озаглавленная «Panegyricus»[39]39
См.: Плиний Младший. Панегирик императору Траяну. В кн.: Письма Плиния Младшего. М., 1983. В сентябре 100 г. н. э. Плиний Младший выступилв сенате с благодарственной речью Траяну за присуждение ему консульского титула. Сохранившийся текст представляет собой переработанную и дополненную редакцию этой речи.
[Закрыть]. Она задавала тон в последующее время и считалась эталоном этого жанра. Панегирик Плиния Младшего открывает сборник «XII Panegy-rici Latini» IV в., содержащий славящие императора речи, который часто издававался в период между XVI и XVIII вв.[40]40
См.: [Harzer, Braungart 1996: 1462].
[Закрыть] Тот факт, что в сборнике «Panegyrici Latini» император именуется «sacratissime imperator» (священнейший император), свидетельствует об уже сложившемся отношении к его сакральности, которая не позже, чем при Константине, стала связываться с мыслью о богоизбранности.
В поздней античности и особенно в византийском Средневековье риторика представлена почти исключительно эпидейктическим красноречием. В придворной культуре судебная и политическая речи обыкновенно утрачивают свои функции, в то время как прославляющая торжественная речь получает все большее распространение. В отличие от текстов Аристотеля, «Риторики для Геренния» и Цицерона «О нахождении материала», уделявших использованию genus demonstrativum лишь небольшое внимание, позднеантичные и византийские трактаты посвящены исключительно эпидейктическому красноречию[41]41
Важнейшими являются «Διαιρεσιζ των έηιδεικτικων» Менандра («О торжественном красноречии»), «Περι επιδεικτικων» Псевдо-Менандра («О торжественном красноречии») и «Τέχνη περι των πανεγυρικων» («Искусство похвальной речи») Псевдо-Дионисия (см.: [Harzer, Braungart 1996: 1464].
[Закрыть]; в них оратору даются точные указания, как прославлять богов, людей, города, страны и т. д. Кодификация эпидейктики совершилась, в частности, в контексте так называемой второй софистики, отмеченной наивысшим расцветом панегирической текстовой практики в античности[42]42
Элий Аристид и Клавдиан являются важнейшими представителями панегирика в поздней античности (об этих авторах см. главу III, 2.2 и 2.6).
[Закрыть].
В раннее Новое время жанр панегирика переживает очередной расцвет, так как развитие меценатства и абсолютизма поднимает спрос на репрезентацию и придворную литературу. Эпидейктическое красноречие и окказиональная лирика Возрождения и эпохи барокко ориентируются на классические образцы, которые в эту эпоху отчасти заново открываются, как, например, «Панегирик императору Траяну» Плиния. В культуре придворных празднеств XVII в. теория панегирика вооружает придворных поэтов риторическими правилами составления прославляющих текстов, которые вместе с произведениями других искусств (архитектуры, живописи, музыки и т. д.) интегрируются в мультимедиальный придворный церемониал. Эпидейктическое красноречие чествуется в это время как королевский жанр риторики, например, Н. Коссеном (Caussin), придворным проповедником Людовика XIII: то, что для Цицерона было не более чем игрой (ludus) и удовольствием (delectatio), Коссен определяет как «зрелое и окрепшее красноречие» (adulta et corroborata eloquentia), ибо «ничто так не услаждает утонченные умы» (nihil ad egregias mentes oblectandas potentius)[43]43
Цит. по: [Matuschek 1994: 1264].
[Закрыть].
Во второй половине XVII в. ренессансно-барочная традиция панегирика – в ее латино-польском варианте – проникает и в Россию. Здесь она сыграла решающую роль в утверждении новой придворной культуры и нового придворного церемониала. Латинская барочная традиция эпидейктического красноречия, первые русские образцы которого были созданы Симеоном Полоцким[44]44
Панегирическое стихотворное приветствие, с которым Симеон Полоцкий выступил в 1656 г. в Витебске, в присутствии русского царя, считается началом нового русского панегирика, получившего впоследствии развитие при московском дворе в творчестве самого Полоцкого, Сильвестра Медведева иКариона Истомина (его учеников) (ср.: [Сазонова 1987: 103]).
[Закрыть], вписалась на русской почве в уже подготовленный культурный контекст. Эпидейктическое ораторское искусство зародилось еще в Киевской Руси, под влиянием византийской риторики, образцы которой были переведены на церковнославянский язык: одновременно они содержали критерии составления текста, в русском Средневековье не опиравшиеся на метатекстовую, то есть кодифицированную в руководствах, риторику. «Слово о законе и благодати» Илариона было толчком для развития русского панегирика, достигшего в XV–XVI вв. в Москве своего расцвета. Эта церковная традиция, изначально отмеченная политической направленностью, особенно ярко раскрылась в жанре панегирической проповеди[45]45
См. обзор у Бегунова [Бегунов 1973].
[Закрыть].
Благодаря Симеону Полоцкому панегирик приобретает новый статус, сохраняемый им вплоть до середины XVIII в. На основе нормативной риторической традиции, заместившей собою древнерусскую традицию, опиравшуюся на тексты, а не на правила, он становится основным жанром русской литературной системы. Возникновение русской литературы нового (сначала барочного) типа состоялось преимущественно в жанровом пространстве панегирика (в панегирических стихах, похвальных речах и панегирических проповедях), вследствие чего завезенные из Польши риторические правила на латинском языке были «переведены» в церковно-славянско-русские нормы составления текстов[46]46
О возникновении новой русской литературы, в частности панегирика, в контексте «импорта риторики» в XVII в. см. подробнее в главе III, 2.4.
[Закрыть].
К началу XVIII в. панегирик становится важным инструментом популяризации и проведения Петровских реформ. В контексте общественных ритуалов, в которых визуальный аспект (иконография, жестика, одежда) играл первостепенную роль, панегирик выполнял скорее дополнительную функцию, но вместе с тем он стал важной вехой в развитии панегирического жанра в России. Феофан Прокопович, Стефан Яворский, Гавриил Бужинский и др. наполнили панегирическую проповедь и прославляющую речь новым общественно-политическим содержанием и вывели эти жанры за пределы придворной культуры[47]47
См.: [Державина 1979]. Панегирическая проповедь приобрела в Петровскую эпоху дополнительное значение, так как изменилось ее место в русском православном церковном обряде: ранее носившая факультативный характер, она становится неотъемлемым элементом литургии, а ее главной функцией становится прославление царя (см.: [Живов 2000: 541]). Такое развитие русской проповеди связано с проникновением сначала на Украину, затем в Россию польской латинской гомилетики, нашедшей свое выражение в проповедях Иоанникия Галятовского, Епифания Славинецкого, Симеона Полоцкого, Стефана Яворского, Феофана Прокоповича и др. После первого расцвета проповеди в киевскую эпоху (Иларион) «много столетий подряд, очевидно, довольствовались зачитыванием старых проповедей» [Seemann 1992: 217].
[Закрыть]. Прескриптивная функция панегирика, служившая утверждению и консолидации нового режима, смягчается в 30-е гг. XVIII в., когда панегирик участвовал в становлении новой придворной культуры западного образца. Торжественная ода, возникшая на основе немецкой и французской одописи[48]48
Функцию придворных поэтов при Анне Иоанновне (1730–1740) выполняли сначала немецкие профессора Петербургской академии наук, оды которых переводились на русский язык Тредиаковским, Ададуровым и позднее Ломоносовым. Эта пока мало исследованная переводческая деятельность была важной основой и предпосылкой возникновения русской оды (см. об этом: [Пумпянский 1937 и 1983; Smith 1988]). Помимо того, особенно французская ода была нормативной моделью для развития русской одописи: Ломоносова, например, называли «русским Малербом».
[Закрыть], стала основным субжанром русского панегирика. Одновременно она становится центральным объектом литературно-теоретических дискуссий о различных вопросах поэтического творчества: метрике, стиле, языке и т. д.[49]49
О русской оде см. в том числе: [Тынянов 1977; Cooper 1972; Серман 1973, 26–57; Hart 1976; Klein, Zivov 1987; Geldern 1991]. До конца XVIII в., то есть до появления вольностей в поэзии Державина, русскую оду отличает просодическая структура, по своему формальному единообразию не уступающая устойчивости лексического и риторического элементов одического канона. С точки зрения просодики торжественная ода образуется десяти-стишными строфами, состоящими из четырехстопных ямбов с системой рифмовки AbAbCCdEEd (или aBaBccDeeD; реже AAbCCbDeDe). Крайне риторизованный язык подчинен предписаниям высокого стиля и использует много церковнославянизмов.
[Закрыть]
Во второй половине XVIII в. панегирическая ода утрачивает свою исключительную роль в русской системе литературных жанров. В области высокого стиля она соперничает теперь с эпосом и философской одой. О начале конца панегирика свидетельствовало[50]50
Вместе с тем перенасыщенная тропами Ломоносовская ода нашла свое продолжение именно в поэзии Державина, писавшего вплоть до начала XIX в. традиционные панегирические оды, оказавшие, в частности, влияние на младшее поколение так называемых архаистов.
[Закрыть] развитие анакреонтического стиля М. М. Херасковым, продолжателем сумароковского направления в оде – классицистического, ориентированного в большей степени на денотативный, чем на метафорико-коннотативный уровень, и обновление языка оды Г. Р. Державиным, отступившим от строгого деления на стили. Не позднее чем к началу XIX в. в русской литературе наблюдается всеобщий переход от панегирического к элегическому жанру, и одновременно «центростремительная» придворная культура вытесняется возникшей под влиянием просветительства «центробежной» культурой, в которой поэт уже выступает не только в роли творца, но зачастую и разрушителя политической иконы. Панегирическая ода переживает последний, маньеристический, расцвет в поэзии С. С. Боброва и некоторых членов «Беседы любителей русского слова», в частности Д. И. Хвостова[51]51
См. главу III, 4. О «Беседе» см. фундаментальную работу Марка Альтшуллера «Предтечи славянофильства в русской литературе» [Альтшуллер 1984].
[Закрыть]. Младшее поколение архаистов, прежде всего Кюхельбекер, пытается вернуть прежнюю репутацию оде в теоретических размышлениях о развитии русской лирики в 1820-е гг. Посредством оды, в которой Кюхельбекер усматривал более философскую, нежели панегирическую, природу, должен был быть преодолен избыток «элегического тумана». Спорные теоретические позиции Кюхельбекера не оказали, однако, непосредственного влияния на литературу: как жанр ода – созвучно общеевропейскому развитию – уходит и из русской литературной системы[52]52
Лишь благодаря Маяковскому ода вновь приобретает значение в начале XX в. в контексте революционного панегирика (см. его «Оду революции», см. также об этом: [Lachmann 1980]).
[Закрыть].
3. Петербургский панегирик
Петербургский панегирик зародился спустя всего несколько лет после закладки Петропавловской крепости. В 1708 г., когда Петербург еще не был царской резиденцией и его существование постоянно находилось под угрозой из-за войны со шведами[53]53
Лишь после Полтавской битвы (1709 г.), изменившей военную ситуацию в пользу России, обстановка в Петербурге постепенно разрядилась. Переезд двора состоялся в 1712 г. В том же году Петр I закрепил роль Петербурга как царской резиденции, справив в новооснованном городе свадьбу со своей второй женой Екатериной Алексеевной.
[Закрыть], Стефан Яворский выступил в тогда еще деревянной Троицкой церкви с циклом проповедей «Три сени», в которых Петербург прославляется как воплощенная «сень Христова», а Петр I – как новый апостол Петр[54]54
О многослойном значении этой аллегории см. главу II, 1.3.
[Закрыть]. Первое литературное приближение к Петербургу состоялось в прославляющей литературе Петровской эпохи, а не в одах Ломоносова и Сумарокова[55]55
До сих пор первые литературные описания города связывались с поэзией Сумарокова; см., например, [Анциферов 1991: 49]: «Из русских художников слова едва ли не первый Сумароков придал ему [то есть образу города – Р. Н.] определенные черты».
[Закрыть]. В похвальных речах и отчасти трансформированных в похвальные речи проповедях Стефана Яворского, Феофана Прокоповича и Гавриила Бужинского складывается культурная семантика новооснованного города[56]56
Одним из центральных текстов петербургского панегирика первых лет является «Слово в похвалу Санктпетербурга» Гавриила Бужинского (1717).
[Закрыть]. Решающую роль в данном случае играло заимствование чужой традиции панегирического изображения города (laus urbium): наделявшийся топическими предикатами из этой традиции, Петербург вводился в легитимировавший его семантический контекст. Утвердившаяся со времен античности топика laus urbium, разработанная в приложении к Афинам, Риму, Константинополю и позже Флоренции, стала при этом источником ценностных критериев, соответствие которым ставило Петербург в один ряд со старыми и новыми историческими центрами. В этом контексте авторитет риторики был решающим, поскольку применение к Петербургу новых для русской культуры риторических критериев прославления уже само по себе являлось подтверждением того, что этот город достоин похвалы.
Параллельно с этим в петербургском панегирике Петровской эпохи складывается миф о демиургическом основании города, имеющий центральное значение для всей петербургской литературы. Участвуя в (пере)создании русской культурной идентичности, этот миф на символическом уровне представляет «новое рождение» России в результате реформаторской деятельности Петра, основавшего на берегах Невы образец микрокосмоса. Создавая образы своего и чужого, петербургский панегирик Петровской эпохи отчетливо отмежевывается как от «старой» русской культуры, так и от Запада: в проведении этой двойной границы Петербург, как децентрированный центр, играет решающую роль, конкретно и осязаемо воплощая собою нечто радикально «новое».
В эпоху русского классицизма место похвальной речи заняла торжественная ода, ставшая основным жанром петербургского панегирика. В текстах М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова, В. К. Тредиаковского и др., вплоть до Г. Р. Державина[57]57
Важнейшими текстами этой фазы петербургского панегирика являются: стихотворение Тредиаковского «Похвала ижерской земле» (1752); «Ода на победу Государя Императора Петра Великого» (1752) и «Слово V» (1752) Сумарокова; «Слово на освящение академии художеств» (1764) и другие оды Ломоносова; «Видение Мурзы» (1783) Державина.
[Закрыть], происходит сдвиг в изображении Петербурга: основное внимание уделяется теперь не легитимации его как царской резиденции и второй столицы, а в первую очередь его репрезентации как панегирической арены важных событий в придворной и политической жизни России. Наряду с петербургским панегириком появляется теперь и панегирическое изображение Москвы, «энтропизированной» в раннем панегирике, а теперь ресемиотизированной. В этом контексте мифопоэтический субстрат петербургского панегирика обретает новое измерение: параллельно с концептуализацией основания города как петровской космогонии с ее пресуществлением хаоса в космос появляется намек на возможность или опасность обратимости этого процесса.
К концу XVIII в. петербургский панегирик становится по преимуществу автореферентной системой: топика, разработанная в ходе столетия, предельно амплифицируется авторами последних панегириков – на место освоения чужих городских топик приходит aemulatio собственно петербургской топики, осложнение (Uberbietung) избитых мотивов и речевых шаблонов. Авторы этих панегириков ориентируются на своего хрестоматийного автора, а именно – Ломоносова, петербургская поэзия которого заменила классические образцы городских панегириков (Аристида, Клавдиана).
Петербургский панегирик завершается поэзией С. С. Боброва, которая, как и поэзия Д. И. Хвостова, подводит итог целой традиции и маньеристически ее осложняет[58]58
Рассматриваться будет в основном «Торжественный день столетия» Боброва (1803); немаловажную роль в этом контексте играют, кроме того, его оды «Установление нового адмиралтейства» (1797) и «Высочайшая воля» (1802), а также «Нева» (1807) и «Послание к NN о наводнении Петрополя» (1824) Хвостова.
[Закрыть]. Его поэзия была своего рода «имплозией» петербургского панегирика, который уже не мог далее разрабатываться, а мог лишь быть «перериторизован» на формальном уровне: в силу своего в основном утвердительного характера панегирик был не способен участвовать в начавшейся в начале XIX века критической переоценке Петербурга. На фоне ухода панегирика петербургская поэзия Боброва кажется пародийной кульминацией традиции, которой уже в 20-е гг. суждено было уступить место постпанегирической петербургской литературе.
Постпанегирическая петербургская литература, образуемая такими текстами, как «Прогулка в академию художеств» К. Н. Батюшкова (1814), «Петербург» П. А. Вяземского (1818), «Петроград» С. П. Шевырева (1829) и, прежде всего, «Медный всадник» А. С. Пушкина, выводит петербургский текст за рамки панегирического жанра: приевшиеся элементы панегирика теперь деконтекстуализируются и «пересаживаются» в новый философский, историософский и литературный контекст. В силу этой деконтекстуализации и – интертекстуально понимаемой – трансформации[59]59
«Трансформация» (Umschreibung) здесь в смысле модели интертекстуальности Лахманн [Lachmann 1990: 38–41].
[Закрыть] петербургский панегирик продолжает жить в петербургской поэзии XIX в., прекратив, однако, существовать как традиция городского текста.