Текст книги "Зов Юкона"
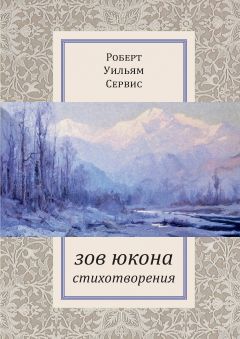
Автор книги: Роберт Сервис
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Баллада про растяпу Генри Смита
Немного на свете таких чудил – захочешь, не враз найдешь.
Три сотни отводов он застолбил, а золота – ни на грош;
Стремглав летел он на край земли, за буйной толпой спеша;
Соседи лопатой злато гребли – а он не имел ни шиша.
Разведал жилу, решил: обман, – сбыл за понюх табаку,
И золото все утекло в карман попутчику-дураку.
Однажды пробил двенадцать шурфов – крупинки не отыскал,
А справа и слева везучий люд мешками злато таскал.
Облом случался за разом раз – тут спиться немудрено
Но Смит Растяпа не верил в сглаз – к утратам привык давно.
И вот в девятьсот четвертом году – то был високосный год —
Растяпа Генри на Ханкер-Крик прибрал боковой отвод.
Начал копать – и решила судьба: везеньем ему воздаст.
В начале зимы он вскрыл наконец богатый и мощный пласт.
В канавках промывочного лотка осел золотой песок.
День-ночь напролет он рыл, словно крот, выкладывался как мог.
Кончался декабрь, леденела мгла, аренды срок истекал,
А он ликовал: наконец-то урвал то, чего так алкал.
Сидел и думал: ну почему коварны судьбы пути?
И вдруг до слез захотелось ему красотку себе найти.
Чтоб ластилась будто зверек она, с него не сводила глаз,
Подруга, советчица, радость, жена, опора во всякий час.
Собрался поесть, костер разложил – мелькнула мысль невпопад:
Что толку от им застолбленных жил? Любовь – вот истинный клад!
Порылся в котомке, сморщив лицо, забытый подарок нашел —
Пасхальное крашеное яйцо, надписано карандашом.
О них с теплом припомнит любой, кто шел по юконской тропе.
Их женщины слали, свои адреса черкнувши на скорлупе.
И самый тупой златокоп-шакал, что только себя ценил,
К подарку такому вмиг привыкал и возле сердца хранил.
Растяпа яйцо осторожно взял и к свету его поднес,
Щурился, долго не разбирал – буквы тоньше волос.
Напрягся – и все же сумел прочесть строчки неровной бег:
«Старатель, захочешь, так напиши – Висконсин, Сквошвилл, для Пег?»
Всю ночь он думал о ней одной – богине издалека.
Казалось, откликнулись небеса на чаянья мужика.
Она приходила к нему во сне, и днем являлась она.
Улыбка ее сквозь табачный дым сияла – легка, ясна.
И сдался он на сердечный зов, пожитки свои повлек
В далекий Висконсин, в озерный край, к дому красотки Пег.
Он чуял: чем ближе конец пути, тем жарче любовный пыл.
Для встречи с нею искал слова, искал – и не находил.
И вот наконец, с мороза застыв, но страстью в душе горя,
Он встал у порога ее жилья, как грешник у алтаря.
От искры малой в сердце зажглись любовные пламена;
Набрался храбрости, постучал – и дверь открыла она,
Прекрасна, словно весенний цвет; смутясь и охрипнув, он
Выдавил: «Здрасте… то есть привет…я с севера, где Юкон…
Я золота полный мешок привез, а адрес… ну в общем, вот…
Хотел повидать я девушку Пег, которая здесь живет».
Краска бросилась ей в лицо; помедлив слегка, она
Ответила мягко – глубь ее глаз слезами увлажнена:
«Да, златокоп юконский, ты прав; девушка Пег – это я.
Тебя отыскать, подарок послать – затея была моя.
К тем, чья жизнь – холод и мрак, сердцем меня влекло.
Но, полагаю, посланье мое поздно тебя нашло.
Ждала, надеялась – вот бы тогда явился ты предо мной…
Но полтора уж года назад я стала мужней женой.
Напрасно проделал ты дальний путь. Не гнать же тебя взашей;
Что ж, заходи, садись и гляди – увидишь моих малышей».
Перевод А. Кроткова
Человек из Эльдорадо
I
Человек из Эльдорадо – гляньте: в город входит он
В старой, драной куртке из оленьих кож,
Он пропах землёй и потом, грязен, солнцем обожжён,
На индейца измождённого похож.
Многодневною щетиной, словно боров, он зарос,
И спина не разгибается пока,
Он бредет, и с ним плетется захудалый рыжий пёс,
Но в котомке – кучка жёлтого песка.
На ходу, казалось, дремлет (взор терзают фонари);
В споминает время тяжкого труда
И убогую лачугу, где мечтал он до зари
(Слава Богу, не вернется он туда!),
Жрал томаты из жестянки, и засушенный бекон,
И прогнившие, прогорклые бобы,
И теперь его желудок этой пищей изнурён —
Но в мешочке – золотишко, дар судьбы.
Он тонул в зыбучей глине, он сплавлялся на плоту
И лебёдки поворачивал рычаг,
Сам себя загнал пинками в немощь, сырость, темноту,
От труда невыносимого исчах.
Но теперь всё это в прошлом; нынче дышится легко,
Запах сена долетает с ветерком.
Мнится сад ему цветущий – где-то, где-то далеко —
Там коттедж, лозой увитый. Это – Дом.
II
Человек из Эльдорадо и умылся, и поел,
Повстречался с парой алчущих друзей,
Часть песка решил потратить – чтобы вечер пролетел,
О стальное спрятал – чай, не ротозей.
У него в глазах сиянье, и рассказ несется вскачь,
Радость в сердце и бутылка на столе;
Неказист, одет в лохмотья, но сегодня он – богач,
О сегодня – самый главный на земле!
Говорит он: «Мне, ребята, Север больше ни к чему,
Хоть я думал, что останусь тут навек.
Но сумел, сумел пробиться я к богатству своему —
И теперь пошлю к чертям проклятый снег.
Я отправлюсь в край чудесный, в Божью, дивную страну,
Я куплю себе земли, построю дом,
Заведу себе хозяйство, и найду себе жену,
И детей десяток мы произведём».
Все его превозносили, возле бара встали в ряд,
Троекратно пожелали долгих лет;
Он дымил сигарой толстой, весел был и очень рад
Предсказаньям денег, счастья и побед.
И за дом, и за супругу – громких тостов череда,
За детей, и вновь – за будущую мать;
Человек из Эльдорадо притомился – и тогда
Уложили его на пол подремать.
III
Человек из Эльдорадо только начал путь большой,
К чумовому опьянению разбег.
На душе у парня похоть, золотишко – за душой;
Танцевал он с местной девкой Маклак Мэг.
Словно фея, белокура, словно ягодка, нежна,
Славно парня вокруг пальца обведет;
И речами музыкальна, и фигуркою ладна,
А в улыбке – только сахар, только мёд.
Лихорадка этих танцев! Этот блеск и этот шик,
Всё кружится, пол качается слегка!
И мелодии, и вина, и объятий чудный миг,
И она – так одуряющее близка!
Маклак Мэг с мадонной схожа, он же – грязен, измождён,
Но она, ему даря любовь свою,
И ласкает, и целует! И уже поверил он,
Что участок застолбил себе в раю.
Вот пришла пора тустепа: как пленителен напев!
Ритмы дивные – заманят и глухих!
Блеск, безумие, брильянты, изобилье дивных дев,
И – бродяга в мокасинах среди них:
Вот кто платит за веселье, за спиртное, за жратву;
Все слетелись, как стервятники, к нему…
Но когда конец настанет и песку, и удальству —
Парня выгонят на холод, в грязь и тьму.
Человек из Эльдорадо славно день проводит свой;
И за ним – заветной пыли жёлтый след;
Он сдержать себя не может, он сегодня как шальной,
И управы на его безумье нет.
Слово сказано – так, значит, как огонь, оно летит,
И – глядите – все друзья ему теперь:
Кавалеры – негодяи, дамы, что забыли стыд, —
Те, что вышвырнут потом его за дверь.
IV
Человек из Эльдорадо пир затеял до утра;
Пусть танцуют все, пусть будут все пьяны:
Денди местного разлива, банкометы, шулера,
Перекупщики, лентяи, хвастуны,
Размалёванные дамы с ненасытным блеском глаз —
Нет, Клондайк еще такого не видал!
Маклак Мэг сказала: «Выпьем за того, кто поит нас,
За того, кто так удачлив и удал!»
«Удалец» ответить хочет, поднимается с трудом —
И мелькают, как в тумане, перед ним
Травы сказочного Юга, напоённые дождём,
Степь зелёная под небом голубым.
Понял он, что не увидит этих трав и этих нив
(А вокруг и шум, и гам, и круговерть),
И, зловонное дыханье подлой жизни ощутив,
Он становится суровым, словно смерть.
Он встает (и сразу – тихо), говорит: «Мои друзья,
В свой карман впустил я ваши руки сам,
Я кормил вас в этот вечер, и поил вас тоже я;
Что осталось? – лишь послать проклятье вам.
Да, конец моим надеждам – что ж, я сам тому виной;
Я растратил состояние свое.
Вы доставили мне радость тем, что были здесь со мной, —
Вам дарю я это, шлюхи и ворье!»
И остатки состоянья, что хранил еще в мешке,
Он швырнул с размаху – на пол, на столы;
Словно зёрна, разлетелись самородки в кабаке,
Жёлтой пылью засияли все углы.
Гости замерли… Но тут же вся собравшаяся дрянь
С криком бросилась за золотом под стол;
Все дрались, как будто звери, и неслась по залу брань…
А «счастливчик» хлопнул дверью и ушел.
V
Человек из Эльдорадо отыскался тем же днём —
Труп лежал от кабака невдалеке;
Весь покрыт замёрзшей грязью, куртка драная на нём,
«Кольт» в руке и дырка лишняя в башке.
А глаза остекленело ввысь глядели – оттого,
Что в ледышку превратил его мороз,
И оплакал горемыку друг единственный его —
О тощавший и паршивый рыжий пёс.
Перевод С. Шоргина
Мои друзья
Убийца – тот, что повыше лежит, а тот, что ниже – вор;
На койке между ними я, не рассказать, как хвор;
Лежу пластом – болезнь и боль из всех сочатся пор.
Мороз разукрасил ноги мои, что всеми цветами цветут;
Скудная глина висит на костях, ткни пальцем – и капут;
А десны – черное гнилье – с зубов потихоньку ползут.
Уверен был – пришел мой черед; никак не мог понять,
Что ж не сбегут они, меня оставив умирать,
Иль не отравят, в конце концов, – ведь труп, ни дать, ни взять.
Но нет; варили хвойный чай, и нянчили, как дитя;
Убийца язвы мои обмывал и толковал, шутя;
И вор голодал, чтоб мне сберечь еще кусок ломтя.
Злодеи оба: я слыхал в ночном полумраке не раз —
О прежних делах своих вспоминал убийца без прикрас,
И вор о тех, кого сгубил, унылый вел рассказ.
Я горький тот не забуду рассвет, его серый оскал кривой,
Когда в шкуры зверья завернули меня, на сани взяв с собой,
За сотню верст, на ближайший пост, зимней дорогой глухой.
Не забыть, как они пробивали путь, этот сдавленный внутренний стон;
И под снегоступами наста хруст, когда ломался он;
Не хватало дыханья, и сердце мое рвалось толчками вон.
И много раз я почти умирал, пробуждаясь к жизни едва;
Над пустыней солнце катилось в огне, слепила небес синева,
И слезы текли и глаза мои жгли, по щекам оставляя два шва.
На ночевку вставали, лишенные сил, когда, съежившись, день угасал;
И – о, эта сладость покоя! – и как, рассвета страшась, я дрожал;
И как на измученных этих людей я утром зол бывал.
Как я молил дать покой, покой: саван-снег – он ведь мягок так;
Как я плакал и тех, что тащили меня, рыдая клял, как собак;
Но тянули вперед, хоть мучительный гнет горбил спины и сковывал шаг.
А дальше – один горячечный бред, и только б избавиться мне
От безжалостных двух, что никак не дадут позабыться в последнем сне;
Очнулся – конной полиции пост, и слепящей конец белизне.
И вот – мой друг убийца здесь, и друг мой вор – тоже тут:
В наручниках оба, злоба в глазах, хорошего не ждут;
Но на Страшном Суде о них резюме пусть мне подготовить дадут.
Перевод Е. Кистеровой
Старатель
Забрёл я на Бонанзу, подумал: погляжу
Одним глазком на старый свой отвод.
С тех давних пор я многое по памяти твержу,
И всех ребят я помню, весь народ.
Все ребята разорились, и у всех карман худой,
Едва ли кто имеет горсть монет;
И я – старатель старый, тощий, битый и седой,
Залез в долги – а прибыли и нет.
Забрёл я на Бонанзу: там хижины пусты,
Всё та же с неба пялится луна,
И вехи, мною вбитые, торчат из мерзлоты,
Безлюдно, бесприютно, тишина.
Мы пыхтели на отвалах – кто с лотком, а кто с киркой,
И дурели, и спивались от тоски;
Чудо-драга паровая возвышалась над рекой,
Берег с отмелью курочила в куски.
Она в грязи барахталась, метала валуны,
И хрюкала, как тысяча свиней;
Жрала и камни, и песок; и меркнул свет луны
В сияньи электрических огней;
В утробу ненасытную пихая по пять тонн,
Казалась жутким чудищем она;
Ей двое управляли; глядел я, потрясён,
И думал: «Златокоп, тебе хана!»
Покрывал хибару дёрном, щели мохом конопатил —
А теперь она просела на углы;
И лебёдка заржавела, и лоток мой огорбател,
И в шурфах – по край водищи и золы.
Закончилось сраженье, и тишина вокруг,
Отвод сменил владельца – он не твой;
Но что же делать с теми, кто вовек не сложит рук,
С помешанной на золоте братвой?
Всему учились на ходу: как россыпи искать,
Как приторочить за седлом вьюки;
Давно привыкли на горбу добро своё таскать
Разбойники лопаты и кирки.
На плоскогорьях юга и в северной глуши —
Едино племя и едина рать;
Им нет нужды, им нет беды; закон один – спеши
На золото в орлянку поиграть.
Намыть случится первый раз крупицу золотца —
Уставишься, не отрывая взгляд;
Не сможешь уберечься, и двинешь до конца,
За золотом попрёшься даже в ад.
И в голоде, и в холоде, в здоровье и в беде,
Один, как перст, и следом за толпой —
Услышав шёпот: «Золото!», ты встрепенёшься: «Где?!»,
И снова вдаль – заветною тропой.
Коль десяток унций за день разом я намыть смогу —
Не припрячу и в заначку не свезу;
Всё пропью, на баб потрачу; а недуг согнёт в дугу —
Я назад на свой участок приползу;
Усталый, отупевший, с перепою чуть дыша,
В свою хибару я забьюсь в бреду;
В землице – миллионы, а в кармане – ни гроша;
Но злато – здесь, ужо его найду!
Мечтаю преуспеть я; стремлюсь накоротке
Со смертью поиграть в глуши лесной;
Была минута торжества – сверкнул в моём лотке
Кусище аж с кулак величиной.
Мечтанье безрассудное – оно благовестит,
Страданием и голодом маня;
Надеждой сердце полнит, как золото блестит,
И в прошлое влечёт оно меня.
Наверно, я свихнулся; а вы – в уме вполне?
Заметна эта разница с трудом.
Страстишка золото искать – сидит она во мне;
Мне золото – любовь, семья и дом.
И я найду его, найду; предчувствие не врёт,
Я вижу, мне подсказывает рок:
Опять рычащая толпа на поиски попрёт —
В былое, вдоль истоптанных дорог.
За горными хребтами, что вгрызаются в лазурь —
Зловещий край, не всем он по плечу;
Там скрыты горы золота; быть может, это дурь —
Но вновь удачи попытать хочу.
К чему обетованья, коль останусь не у дел?
В краю, что беспощаден, лют и груб,
За дальними пределами последний есть предел —
Там ляжет мой окоченелый труп.
Лягу я не на погосте – место вам укажут кости,
Заржавелые лопата и лоток;
А участок тот богатый – золото греби лопатой, —
Отведёт мне сам Господь Всевышний Бог.
Перевод А. Кроткова
Черная овца
«Аристократические бездельники в Канаде часто находят себе применение в рядах Королевской Северо-западной конной полиции». (Цитата)
Внимайте овце, родившей его:
«Природы чудной курбет!
На шкуре из братьев ни у кого
И пятнышка даже нет.»
Внимайте баранам и валухам,
Внимайте их старикам:
«Хоть мой, хоть песочь – он чёрен как ночь,
И стыд для стада, и срам».
Колю дрова позади казарм, насуплен я и небрит;
«Позор для полиции это, сэр», и друг меня сторожит;
Мне так полгода пахать еще, но не откину копыт.
«Полгода тюрьмы и уволен, сэр». Ну разве это не вздор?
Всему виною спиртной закон, красотки туземной взор —
Индейцу бравому я стакан налил – и весь разговор.
По крайней мере писали так в газете, коли не врут,
Я только помню, что поддавал – а после, друзья, капут:
Больным очухался на губе, и тут потащили в суд.
Судья сказал «Ты виновен» мне, а я промолчал в ответ;
В тот вечер я хорошо гульнул, и был я изрядно вдет,
А коли не помню я ничего – ну как тут ответишь «нет»?
Но точно знаю, что это Граббл из местного патруля.
Он в Итоне мне шестерил, причем его не пиявил я!
Мне пьяный потлач устроил он, и вышла кругом петля.
Уж я намастрячился в колке дров за столько позорных дней;
А вон офицера жена идет, и взгляд надменный у ней —
Племяннику графа снести его, пожалуй, всего трудней.
А бедная матушка где-то там печально в окно глядит,
По-прежнему любит она меня, не помня зла и обид.
(Но тучный теленок, что дома ждет, наверное, подгорит.)
И я однажды вернусь назад, в наш деревенский рай;
Буду с барышней танцевать, протягивать дамам чай.
Неважно, где был я, что повидал. Помни, да не болтай.
И будут гордиться моя родня и край, где я жил и рос;
Но разве исправят они меня? Нелепый, смешной вопрос —
Снова уляжется в грязь свинья, вернется к блевоте пес.
Кору удовольствий случалось грызть, и горькой была еда;
Стоял против ада и муки, но держался в игре всегда;
Я знал мгновения скорби, я знавал времена стыда.
Все в прошлом: если сломался ты, натуре починки нет.
Еще найдется, что промотать, пока не упал в кювет.
И если к дьяволу этот путь, на беды – один ответ.
Пропел вечерний рожок во тьме, товарищи встали в строй.
Дежурные с кухни несут жратву и голосят вразнобой.
(Помоюсь я в тюремной бадье и пол подмету метлой.)
Я лягу в камере на тюфяк, не слушая крик и блажь
Моих приятелей, что сейчас пьют из солдатских чаш
Под старый раздолбанный граммофон, гнусавящий «Патронташ».
И смутно мне кажется, что дрова пихаю я в штабеля
Из-за того, что с виски меня подставил подлянки для
Граббл, эта тупая скотина Граббл из местного патруля.
Перевод Ю. Лукача
Телеграфист
Морду я год не мыл.
Волосы не продрать.
В доме я насвинил —
Некому убирать.
Скалы вокруг торчат.
Лес напускает тьму.
Господи, что за ад —
Вечно быть одному!
Будто в ограду бык,
Словно свинья в закут…
Чувствую: я привык
Жить в одиночку тут.
В этом гиблом краю
Ленью зарос, иссох.
В печку дрова сую.
Мыслей скрипит песок.
Я уже одурел,
Счет подбивать устал
Бабам – не поимел,
Деньгам – не промотал,
Дракам – не затевал,
Барам – не заходил,
Пиву, что не пивал
(Вкус его я забыл).
Дни – водой в решето.
Хуже нету возни.
Обматерить – и то
Некого, черт возьми!
Душу мрак затянул.
Равно страшат меня
Ангельских гласов гул,
Дьявола пятерня.
Шепчутся провода.
Бледен, как звездный свет,
Шепот плывет сюда,
В мир, которого нет.
Тени слов говорят,
Жизней тени шуршат,
То надеждой горят,
То от страха дрожат.
Сам толкую с собой —
Худо дело, боюсь.
(Снег – покров гробовой).
Кажется, я свихнусь.
Плотная тишина
Давит, грызет и ест.
Как же она сильна!
Чокнусь в один присест.
Дела нету рукам.
Сна ни в одном глазу.
Синь ползет по щекам.
В драку бы, как в грозу!
Город, толпа, шум-гам,
Танцы и толкотня —
Все это где-то там,
Все мимо меня!
Хватит скулить – встряхнусь!
Стану проще, вольней!
Господи, что за гнусь —
Неразличимость дней.
(Что это я опять?)
Словно дятел немой.
Надо себя занять
Чем-нибудь, Боже мой…
Грусть долой из груди.
Рюмочку глотану.
Худшее – позади.
Боже, пошли весну.
Боже, оборони,
Рухнуть не дай во тьму,
Радостью подмогни —
Худо мне одному!
Перевод А. Кроткова
Вальщик леса
Над нами небо, как письмо
В конверте форменного цвета,
На нем поставлено клеймо —
Луны блестящая монета.
Нам по ту сторону ограды
Ждать приговора иль пощады?
Сижу на помойке Бога, на самом конце земли;
Гор нависает угроза, река швыряет песок;
Я в душу свою глазею, но вижу одни нули;
Гадаю: зачем я создан? Каков же будет итог?
Итог! Так близка развязка. Слыхали вы плач мужской?
(Когда, раздирая душу, рыданья кипят в груди.)
Вот так я рыдал нередко, и слезы текли рекой;
А ныне они пропали – всевечный покой впереди.
Покой! Все вокруг покойно; прозрачная тишина;
В мехах белоснежных горы и в золоте склон холма;
И бурный поток Юкона, вздымающий ил со дна —
Ему я обязан тем, что еще не сошел с ума.
Днем – это монстр ужасный, ненасытимая тварь,
То масляные воронки, то пенный водоворот,
А ночью – Титан ворчащий, кривляющийся дикарь,
Что вечно жаждет покоя и вечно спешит вперед.
Он ищет людские жертвы, но я его нрав струню,
Я знаю его повадки, и он мне слугой быть рад.
Рублю я в лесу деревья, и в Доусон их гоню,
Там дерево – это виски, и дамы, и – после – ад.
Ад и посмертные муки. Мне бы остаток лет,
Сбросив заботы бремя, радостно домотать.
(Неверие в искупленье – горчее горечи нет,
И богохульные губы не могут молитв читать.)
Бессильный, как жук, который пришпилен иглой судьбы;
Цепляющийся за прутья смертник в глухой клети;
Внутри огромной Вселенной я нехотя жду трубы,
И падает мне на плечи звездное конфетти.
Смотри! Вдали, над долиной рапира пронзает тьму,
Светит белый прожектор и близится пароход.
Плывет он, залитый светом, трубы в густом дыму,
Груз из надежд и страхов уверенно он везет.
Смотрю, как на откровение, я на его водорез;
На палубе светятся лица; бегут от колес струи.
В сердце укол; и молчанье обрушивается с небес.
И темнота. Лишь Богу известны чувства мои.
Меня вы, быть может, видели; быть может, вам стало жаль
Бродягу из глухомани, где нет проезжих дорог.
Однажды вы понапрасну обшарите взглядом даль,
Отверженный, бесполезный, я буду от вас далек.
Я прожил свой век скучливым, бессмысленным постояльцем,
Небрежно, неаккуратно считал я свои года,
И сумма вышла ничтожной. О смерть, своим влажным пальцем,
Как кляксу бедовый школьник, сотри меня навсегда!
Перевод Ю. Лукача
Песня губной гармошки
(Приношу извинения автору «Песни банджо»)
Я – простая штука: олово да рог;
Легион потерянный идет за мной;
Коль по части «vox humana» ты не строг,
Пара даймов будут сходной мне ценой.
Слишком сложные пассажи обхожу;
И в тональность попадаю не всегда;
Но за ночью ночь я верно вам служу,
Утешаю, если встретится беда.
Мал размер и унция-другая вес,
Для жилетного кармана – в самый раз;
А когда, усталый, ты на койку влез,
Растянул, кряхтя, суставы в поздний час,
Достаешь меня, и простенький мотив
Полегоньку наиграешь в тишине;
Молод, дров не наломав, слегка слезлив,
Тот мотив когда-то пел ты при луне.
И задумчивым становится твой взгляд,
Посреди рулады мой прервется звук;
И – печальней вздох услышит кто навряд —
В боковой карман меня обронишь вдруг.
Все же чем-то приободренный слегка,
О твернув к стене усталое лицо,
Думаешь: не так-то жизнь моя горька —
Пусть растяпа, но не плох в конце концов.
Помнишь ли глухой полярной ночи мрак;
И стоянку у каньона на пути;
Крохотный огонь палатки ярок так;
Свет чахоточной луны угас почти;
Ужин твой готов, от печки пышет жар;
Хоть устал – доволен ты своим житьем?
И играешь – трудно, что ли! – до губной упрямой боли,
Глухомани вызов бросим мы вдвоем.
Помнишь резкой вспышки хлещущий удар,
Бездну влажной черноты над головой;
Молний и дождя обрушенный кошмар;
Над стадами – ветра погребальный вой;
На лошадке диковатой ты один,
От седла устал и холодом добит?
«Пересмешника» тогда пусть послушают стада —
Голос мой и бессловесных веселит!
Помнишь берегов на горизонте край;
Рев волны и ветра в сумрачной вражде;
Ночи – видно, крышка нам, ты так и знай;
Дни – и снова бьешься в ледяной воде;
Резкий свист снастей, волна – что водопад;
Мертвенно-синюшной пены жуткий вид?
Но «Бен Болт» и «Клементина» выступают заедино,
«Диксиленд» твоих товарищей взбодрит!
Веселится банджо – Младший Сын поет,
Перевод из дома – вот его мотив;
Я же – голос тех, кто ничего не ждет,
Кто доволен, день у жизни отхватив;
Кто изнанку знает от младых ногтей;
Чье наследие – тяжелый, горький труд;
Голос изнуренных, стершихся людей,
Что рабами моря и земли слывут.
Я – Стэйнвей убытков или неудач;
Страдиварий промотавшихся дотла;
В преисподней водит пляску бес-ловкач,
Но меня и там приветствует зола;
Человечества неугомонный дух,
Я со смертью поиграю в поддавки;
Даже если прочь с откоса полетим мы, как отбросы,
Мой победный вопль раздастся шутовски.
Скромная вещица – олово да рог;
Я – присловье, прибаутка, мишура;
Виртуоз сдержать презренья бы не смог;
Но бывает, что иду я на ура.
Лесоруба и забойщика спроси;
Кочегара, моряка спроси о том;
Верен мне пастух в долине, жнец на желтой плоскотине,
Среди них – непритязательный мой дом!
Перевод Е. Кистеровой
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































