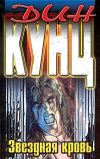Текст книги "Книга Черепов"

Автор книги: Роберт Силверберг
Жанр: Фэнтези
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Тимоти спросил:
– И ты хочешь заставить нас поверить, будто «Книга Черепов» указывает именно этот путь, так?
– Это одна из возможностей. Она дает вам шанс попасть в бесконечность. Разве это плохо? Разве не стоит попробовать? Что нам дают насмешки? Что дает нам сомнение? Куда ведет нас скептицизм? Разве мы не можем попробовать? Разве мы не можем посмотреть?
Эли вновь обрел свою веру. Стоя голым, он кричал, потел, размахивал руками. Все его тело горело. Именно сейчас он был по-настоящему красив. Красавчик Эли!
– Я участвую в этом деле с самого начала, – заговорил я, – но в то же время не дам ни цента за все это. Вы меня понимаете? Я разрабатываю диалектику мифа. Его невероятность борется с моим скептицизмом и гонит меня вперед. Натяжки и противоречия – моя питательная среда.
Адвокат дьявола, Тимоти, покачал головой – тяжелое бычье движение; его массивная, мясистая фигура перемещалась, как медленный маятник.
– Продолжай, старик. А во что ты по-настоящему веришь? В Черепа – да или нет, спасение или дерьмо, факт или фантазия? Во что именво?
– Ив то, и в другое, – ответил я.
– Да? Но ты не можешь получить и то, и другое.
– Могу! – воскликнул я. – И то, и другое! И да, и нет! Ты можешь последовать туда, где я обитаю, Тимоти? В то место, где напряжение достигает максимума, где «да» крепко привязано к «нет»? Где ты одновременно отрицаешь существование необъяснимого и принимаешь существование непостижимого. Жизнь вечная! Чепуха все это, груз вожделений, старинная бредовая мечта, не так ли? Но в то же время это и реальность. Мы можем прожить тысячу лет, если захотим. Но это невозможно. Я утверждаю. Я отрицаю. Я аплодирую. Я смеюсь.
– В твоих словах нет смысла, – буркнул Тимоти.
– Зато в твоих его слишком много. Плевать я хотел на твой смысл! Эли прав: нам необходимо безрассудство, нам требуется неизвестное, нам нужно невозможное. Целое поколение научилось верить в невероятное, Тимоти. А ты вот стоишь тут со своей армейской стрижкой и бубнишь, что в этом нет смысла.
Тимоти пожал плечами.
– Все верно. А чего от меня можно ожидать? Я же просто тупой жлоб.
– Это твоя поза, – заметил Эли. – Твой имидж, твоя маска. Большой, туповатый здоровяк. Это ограждает тебя, избавляет от любых обязательств – эмоциональных, политических, идеологических, метафизических. Ты говоришь, что ничего не понимаешь, пожимаешь плечами, отходишь назад и смеешься. Почему ты хочешь выглядеть эдаким зомби, Тимоти? Почему ты хочешь от всего отключиться?
– Он ничего не может с собой сделать, Эли, – сказал я. – Ов рожден быть джентльменом. Он по определению в отключке.
– Ах ты, мать твою, – весьма по-джентльменски ответствовал Тимоти. – Да что вы вообще знаете, вы оба? И что я здесь делаю? Позволить еврею и голубому протащить себя по половине западного полушария, чтобы проверить сказку, которой тысяча лет!
Я сделал легкий реверанс.
– Отлично исполнено, Тимоти! Признак истинного джентльмена: он никогда не оскорбит непреднамеренно.
– Ты задал вопрос, – сказал Эли, – так сам и отвечай. Что ты здесь делаешь?
– И не надо обвинять меня в том, что я тебя сюда потащил, – заметил я. – Это затея Эли. Я сомневаюсь не меньше, а то и больше твоего.
Тимоти фыркнул. По-моему, он ощутил численное превосходство. Очень тихо он сказал:
– Я поехал просто прокатиться.
– Прокатиться! Прокатиться! – возмутился Эли.
– Ты просил меня поехать. Ты же сам говорил, что для поездки нужны четверо, а мне на Пасху все равно делать было особо нечего. Мои друзья-товарищи. Моя машина, мои деньги. Могу же я подыграть. Вы ведь знаете, Марго балдеет от астрологии: ах, Весы здесь, Рыбы там, ах, Марс в десятом доме Солнца. Да она трахаться не станет, прежде чем со звездами не сверится, а это иногда очень неудобно. И что, разве я над ней смеюсь? Разве я подкалываю Марго, как делает ее отец?
– Если только в душе, – согласился Эли.
– Это мое дело. Я принимаю то, что могу принять, а остальное неважно. Но я к этому отношусь спокойно. Я терплю ее ведьм и знахарей. И твоих, Эли, я тоже терплю. Это еще один признак джентльмена, Нед: он добродушен, он никого не тянет в свою веру, он никогда не проталкивает свои идеи за счет чужих.
– У него нет в этом нужды, – сказал я.
– Да, нужды в этом нет. Ладно: я здесь, верно? Я плачу за этот номер, так? Я участвую в деле на четыреста процентов. Должен ли я быть Истинно Верующим? Должен ли обратиться в вашу веру?
– А что ты будешь делать, – спросил Эли, – когда мы действительно окажемся в Доме Черепов, а Хранители Черепов предложат нам подвергнуться Испытанию? Не станет ли твоя привилегия неверия помехой, и сможешь ли ты отдаться в их руки?
– Я все оценю, – медленно ответил Тимоти, – как только появится нечто, достойное оценки.
Он вдруг повернулся к Оливеру:
– Что-то ты совсем притих, Истинный Американец.
– А что бы ты хотел от меня услышать? – откликнулся Оливер. Его длинная поджарая фигура вытянулась перед телевизором. На коже проступала каждая мышца: ходячий анатомический справочник. Его продолговатый розовый член, свисавший из золотистой поросли, навеял на меня неуместные мысли. Retro me, Sathanas[12]12
Изыди, Сатана (лат.).
[Закрыть]. Этот путь ведет к Гоморре, если не к Содому.
– Не желаешь ли поучаствовать в дискуссии?
– Я не очень-то прислушивался.
– Мы говорили про эту поездку. Про «Книгу Черепов» и степень нашей веры в нее, – пояснил Тимоти.
– Вон оно что.
– Не желаете ли заявить о своей вере, доктор Маршалл?
Оливер имел такой вид, будто находился на полпути в другую галактику.
– Привилегию сомневаться предоставляю Эли, – сказал он наконец.
– Так ты веришь в Черепа? – спросил Тимоти.
– Верю.
– Хоть нам и известно, что все это абсурдно?
– Да, – кивнул Оливер, – пусть и абсурдно.
– Такую же позицию занимал Тертуллиан, – вставил Эли. – Credo quia absurdum est. Верю, потому что абсурдно. Вера, конечно, другая, но психология та же.
– Да-да, точь-в-точь моя позиция! – обрадовался я. – Верю, потому что абсурдно. Добрый старый Тертуллиан. Он высказал именно то, что я чувствую. Моя позиция, один к одному.
– Но не моя, – подал голос Оливер.
– Неужели? – заинтересовался Эли.
– Нет. Я верю, несмотря на абсурдность.
– Почему? – спросил Эли.
– Почему? – спросил и я после долгой паузы. – Ты знаешь, что это абсурдно, и все же веришь. Почему?
– Потому что вынужден. Потому что это моя единственная надежда.
Он в упор смотрел на меня. Глаза его имели особое выражение, будто когда-то ему уже пришлось заглянуть в лицо смерти и уйти живым, лишившись при этом какого-либо выбора, оставшись почти без единого шанса. Тогда, на краю Вселенной, он услышал трубные звуки и барабаны похоронного марша. Этот ледяной взгляд испепелил меня. Эти сдавленные слова пронзили меня насквозь. «Я верю, – сказал он. – Несмотря на абсурдность. Потому что вынужден. Потому что это моя единственная надежда». Это прозвучало, как сообщение с другой планеты. Я почувствовал присутствие в этой комнате Смерти, безмолвно обдающей своим холодным дыханием наши цветущие мальчишеские щеки.
14. ТИМОТИ
Гремучая смесь – наша четверка. Как мы вообще оказались вместе? Какие переплетения линий судьбы собрали нас в одной комнате?
Поначалу были только мы с Оливером, два первокурсника, определенные компьютером в двухместную комнату с видом во двор. Я недавно выпустился из Эндовера и был исполнен сознания собственной значимости. Не хочу сказать, что пыжился из-за семейных капиталов. Я воспринимал это как должное и всегда спокойно относился к деньгам: богатыми были все, с кем я рос вместе, и поэтому я не ощущал реальных размеров нашего состояния, тем более что сам палец о палец не ударил, чтобы его заработать (как и мой отец, и дед, и прадед и т. д. и т. п.), так что нос задирать не с чего. Чем была забита моя голова, так это осознанием преемственности, осознанием того, что в жилах моих течет кровь героев Войны за независимость, сенаторов и конгрессменов, дипломатов и великих финансистов прошлого века. Я представлял собой ходячий кусок истории. А еще мне было приятно осознавать, что я высок, силен и здоров: в здоровом теле – здоровый дух, все естественные преимущества при мне. За пределами кампуса раскинулся мир, полный черных, евреев, шизанутых, неврастеников, педиков и прочей нечисти, но я вытянул счастливый билет и теперь мог гордиться своей удачей. Вдобавок я имел сотню в неделю на карманные расходы, что было вполне удобно, и я, пожалуй, и не задумывался над тем, что в восемнадцать лет большинство ребят вынуждены довольствоваться меньшим.
Потом появился Оливер. Я решил, что компьютер снова сыграл мне на руку, поскольку вполне мог попасться какой-нибудь эксцентричный чудак, кто-нибудь с изломанной, ревнивой, озлобленной душой, а Оливер казался вполне нормальным. Будущий медик приятной наружности, вскормленный кукурузой на просторах Канзаса. Он был примерно одного со мной роста – разве что на дюйм повыше – и это было неплохо: я всегда испытываю неловкость при общении с малорослыми. Наружность Оливер имел самую беззаботную. Почти все вызывало у него улыбку. Беспечный тип. Родителей нет в живых: он попал сюда на полную стипендию. Я сразу же понял, что денег у него вообще нет, и слегка испугался, что это обстоятельство может вызвать натянутость в наших отношениях, но напрасно. Казалось, деньги его совершенно не интересуют, пока он в состоянии платить за пищу, одежду и крышу над головой, а на это ему хватало – за счет небольшого наследства и выручки от продажи семейной фермы. Толстая пачка денег, которую я всегда таскал с собой, скорее забавляла его, чем вызывала благоговение.
В первый же день Оливер сообщил, что хочет войти в баскетбольную команду, и я решил, что он собирается поступить на спортивное отделение, но ошибся: ему нравился баскетбол, он очень серьезно относился к игре, но сюда он попал для того, чтобы учиться. В этом-то и состояло коренное различие между нами: дело не в Канзасе и не в деньгах, а в его целеустремленности. Я-то поступил в колледж, потому что все мужчины из моего рода учились в колледже между окончанием школы и возрастом зрелости; Оливер же поступил туда, чтобы превратить себя в неумолимую думающую машину. У него был и до сих пор есть чудовищный, невероятный, ошеломляющий внутренний позыв. В течение первых нескольких недель я иногда заставал его без маски: ослепительная улыбка деревенского парня пропадала, лицо приобретало жесткое выражение, челюсти плотно сжимались, а в глазах появлялся холодный блеск. Его напористость была способна вызвать страх, ему во всем нужно было достичь совершенства. Он получал только отличные оценки, учился чуть ли не лучше всех на курсе, а еще он сколотил из первокурсников баскетбольную команду и побил рекорд колледжа по очкам в первой же игре. По полночи он проводил над учебниками, обходясь вообще почти без сна. И при этом умудрялся вполне прилично выглядеть. Парень пил много пива, имел несметное количество девиц (мы обычно обменивались ими) и вполне сносно играл на гитаре. Единственное, в чем проявлялся другой Оливер, Оливер-машина, было отношение к наркотикам. На второй неделе жизни в кампусе я раздобыл классного марокканского гашиша, но он наотрез отказался, сказав, что не для того семнадцать с половиной лет шлифовал мозги, чтобы теперь превращать их в кашу. И за последние четыре года, насколько я знаю, он выкурил не больше одной сигаретки. Он терпимо относился к тому, что мы покуривали, но сам сторонился наркотиков.
Весной на втором курсе к нам присоединился Нед. В том году мы с Оливером снова поселились вместе. Нед пересекался с Оливером на двух курсах: физике, которая была нужна Оливеру для научного минимума, и сравнительной литературе, которой Оливер занимался для сдачи минимума по гуманитарным дисциплинам. Джойс и Йейтс вызвали у Оливера некоторые затруднения, а у Неда возникли аналогичные проблемы с квантовой теорией и термодинамикой. Это и стало основой для их взаимовыгодного репетиторства.
Эти двое представляли собой полную противоположность друг другу – Нед был невысокий, с тихим голосом, тощий, с большими кроткими глазами и изящными движениями. Ирландец из Бостона, выросший в полностью католическом окружении и закончивший приходскую школу: даже на втором курсе он продолжал носить распятие и иногда посещал мессу. Он собирался стать поэтом и писать рассказы. Нет, пожалуй, «собирался» – не то слово. Как Нед однажды объяснил, люди талантливые не собираются становиться писателями. У тебя это или есть, или нет. Те, у кого есть, пишут, а те, у кого нет, собираются. Нед всегда писал. И до сих пор пишет. Таскает с собой блокнот на проволочной спирали и заносит туда все, что слышит. Положа руку на сердце должен сказать, что считаю его рассказы чепухой, а стихи – бредятиной, но признаю, что дело, .возможно, в моем вкусе, а не в его таланте, поскольку те же чувства я испытываю по отношению к писателям куда более знаменитым, чем Нед. По крайней мере он постоянно оттачивает свое искусство.
Нед стал для нас чем-то вроде талисмана. Он всегда был ближе с Оливером, чем со мной, но я не имел ничего против его присутствия: он был другим, с совершенно иными взглядами на жизнь. Его хрипловатый голос, печальные собачьи глаза, экстравагантная одежда (он носил в основном балахоны; полагаю, изображая, будто все же заделался священником), его поэзия, его своеобразный сарказм, его путаные мозги (любой предмет он всегда рассматривал с двух-трех сторон и умудрялся одновременно верить во все сразу и ни во что) – все это интриговало меня. Мы должны были казаться ему такими же чужеродными, как и он нам. Нед проводил у нас так много времени, что однажды, на предпоследнем курсе, мы пригласили его жить с нами в комнате. Не помню, кто первым это предложил: Оливер или я (или сам Нед?).
Тогда я не знал, что он педик. Или, точнее, голубой, если пользоваться термином, который он сам предпочитает. Проблема замкнутого образа жизни «истинного американца» состоит в том, что ты сталкиваешься лишь с узким кругом людей и не ждешь никаких неожиданностей. Конечно, я знал, что есть такая штука, как голубые. Были у нас в Эндовере. Они ходили, оттопырив локти, много занимались своими прическами и говорили с особым прононсом, характерным произношением гомосеков, который можно услышать от острова Мэн до Калифорнии. Они всю дорогу читали Пруста и Жида, а некоторые из них под футболками носили лифчики. Впрочем, явно феминизированным Нед не был. Да, он был артистичен, эрудирован, спортом не увлекался, но ведь нельзя же ожидать, чтобы человек, в котором сто пятнадцать фунтов живого веса, проявлял повышенный интерес к футболу. Зато он почти каждый день ходил в бассейн. (Мы, конечно, плавали там с голыми задницами, так что для Неда это было вроде бесплатного кино, но тогда я об этом не думал.) Единственное, что я заметил – он не увлекался девицами. Но ведь это еще не основание для обвинений. Два года назад, за неделю до сессии, мы с Оливером и еще с несколькими ребятами устроили в нашей комнате, я бы сказал, оргию, на которой присутствовал и Нед, и видимого отвращения у него эта затея не вызвала. Я своими глазами видел, как он натягивал одну телку, официантку из города. Прошло немало времени, прежде чем я сообразил: во-первых, оргия могла послужить Неду материалом для его писаний, а во-вторых, он не то чтобы презирал женский пол, просто предпочитал мальчиков. Нед притащил к нам Эли. Нет, любовниками они не были, просто приятелями. Практически первое, что я услышал от Эли, было примерно следующее: «Если вам интересно, то я гетеросексуален. Нед – не мой тип, а я – не в его вкусе». Никогда этого не забуду. Это было первым намеком на то, что из себя представляет Нед. Думаю, Оливер тоже об этом не догадывался, хотя никогда не знаешь, что на самом деле творится у него в голове. Эли, конечно, сразу же раскусил Неда. Городской мальчик, интеллектуал с Манхеттена, он с первого взгляда мог отнести любого к соответствующей категории. Так получилось, что он терпеть не мог своего соседа и хотел переехать, а у нас комната была большая. Нед спросил, не можем ли мы взять его к себе. Было это в ноябре, на предпоследнем курсе. Мой первый знакомый еврей. Я и этого не знал – ах ты, святая простота! Эли Штейнфельд с Западной 83-й улицы, а тебе и невдомек, что он еврей! Если честно, я думал, это типично немецкая фамилия: евреи обычно называются Коэн, Кац или Гольд-берг. Меня не слишком-то занимала личность Эли, но когда я узнал, что он еврей, то ощутил потребность пустить его к нам жить. Просто ради того, чтобы расширить свои знания о жизни за счет какого-то разнообразия, а еще потому, что я был воспитан в нелюбви к евреям, и мне захотелось взбунтоваться против этого. Мой дед по линии отца имел печальный опыт общения с умными евреями году в 1923-м: какие-то Абрамы с Уолл-стрит уломали его вложить крупные средства в организованную ими же радиокомпанию, а поскольку они оказались жульем и в результате он потерял пять миллионов, недоверие к евреям стало семейной традицией. Они-де и вульгарные, и нахальные, и лицемерные, и так и норовят избавить честного протестантского миллионера от его нелегко доставшегося по наследству богатства, и т. д. и т. п. На самом деле, как мне однажды признался дядя Кларк, дедушка мог бы удвоить вложенные деньги, если бы в течение восьми месяцев продал свои акции, как тайком сделали его еврейские партнеры, но нет, он все выжидал навара погуще, в результате чего и облежался. Как бы там ни было, я поддерживаю далеко не все семейные традиции.
Эли переехал к нам. Малорослый, смугловатый, с волосатым телом, быстрыми, нервными, сверкающими глазками, крупным носом. Блестящий ум. Специалист по языкам средневековья: уже признан видным ученым в своей области, а всего лишь на последнем курсе. С другой стороны, он был довольно жалок – косноязычен, неврастеничен, очень напряжен, постоянно озабочен по поводу своих мужских достоинств. Все время, причем, как правило, безуспешно, волочился за девицами, в том числе и за клёвыми. Не за картинно страшненькими, которых неизвестно почему предпочитал Нед: Эли приударял за женщинами типа неудачниц – стыдливыми, сухопарыми, неприметными плоскогрудыми девчонками в очках с толстыми стеклами… Ну, в общем, понятно. Естественно, такие же неврастенички, как и он, пугающиеся секса, они не шли ему навстречу, что лишь усугубляло его проблемы. Казалось, Эли просто страшно подвалить к нормальной, симпатичной, страстной девице. Однажды прошлой осенью я подослал к нему в качестве дара христианского милосердия Марго, а он самым невообразимым способом обмишурился.
Вот такая четверка. Вряд ли я когда-нибудь забуду первую (возможно, единственную) встречу наших родителей весной на предпоследнем курсе, во время большого карнавала. До той поры, как я думаю, никто из предков и не представлял себе более менее отчетливо соседей своего сына. Пару раз я привозил к себе домой на Рождество Оливера и познакомил его с отцом, но Неда и Эли не приглашал ни разу, и их стариков тоже никогда не видел. Вот мы все и собрались. Со стороны Оливера, конечно, никого. У Неда отец тоже умер. Его мать была высоченной женщиной футов шести росту, вся в черном, сухощавая, с глубоко посаженными глазами и сильным ирландским акцентом. Никогда бы не сказал, что она может иметь какое-то отношение к Неду. Мать Эли была низенькой, полной, с переваливающейся походкой, слишком крикливо одетой; отец же был почти незаметным, часто вздыхавшим человечком с печальным лицом. Они оба выглядели намного старше Эли. Должно быть, он появился на свет, когда им было лет по тридцать пять – сорок. Приехал и мой отец, который выглядел примерно так, как, на мой взгляд, буду выглядеть и я лет через двадцать пять: гладкие розовые щеки, густые светлые волосы, подернутые сединой, выражение глаз свидетельствует о больших деньгах. Крупный, красивый человек типа члена совета директоров. С ним была Сайбрук, его жена, которой, кажется, лет тридцать восемь, но можно дать и на десяток поменьше: высокая, ухоженная, длинные прямые золотистые волосы, ширококостная спортивная фигура, в общем – женщина, похожая на гончую. И представьте себе: вся эта компания сидит под зонтом за столиком во дворе и пытается поддерживать разговор. Миссис Штейн-фельд пробует опекать Оливера, бедного сиротку. Мистер Штейнфельд с ужасом взирает на костюмчик из итальянского шелка моего папаши за четыреста пятьдесят долларов. Мать Неда в полной отключке: она не понимает ни своего сына, ни его друзей, ни их родителей, и вообще не соображает, какой век на дворе. Сайбрук сердечно и оживленно щебечет про благотворительные чаепития, про грядущий дебют своей падчерицы. («Она у вас актриса?» – спросила озадаченная миссис Штейнфельд. «Я имею в виду ее выходной бал», – пояснила не менее озадаченная Сэйбрук.) Мой отец очень долго разглядывал свои ногти, затем пристально изучал супругов Штейнфельд и Эли, не желая верить тому, что видел. Стремясь поддержать разговор, мистер Штейнфельд заговорил с моим отцом о рынке акций. Вложений у мистера Штейнфельда нет, но он очень внимательно читает «Тайме». Отцу про этот рынок ничего не известно. Пока перечисляются дивиденды, он счастлив; кроме того, не говорить о деньгах – один из его принципов. Он делает знак Сэйбрук, и та искусно меняет тему, начав рассказывать про то, как руководит комитетом по сбору средств в помощь палестинским беженцам: ну вы знаете, говорит она, это те, кого выгнали евреи, когда образовался Израиль. Миссис Штейнфельд начала хватать ртом воздух: каково выслушивать такое активистке! Хадессы! Тогда мой отец показывает через двор на одного из наших однокурсников с особенно длинными волосами и говорит: «Готов был поспорить, что это девушка, пока он не повернулся в нашу сторону». Оливер, у которого самого волосы до плеч, как я полагаю, чтобы показать, что он думает о Канзасе, одаривает отца самой ледяной улыбкой, на которую способен. То ли не испугавшись, то ли не заметив, отец продолжает: «Возможно, я ошибаюсь, но меня не оставляют подозрения, что многие из тех молодых людей с длинными волосами несколько гомосексуальны». Нед при этом громко расхохотался. Мать Неда побагровела и закашлялась – не потому, что ей известна правда о ее мальчике (она об этом и помыслить неспособна), но потому, что этот приличный с виду мистер Винчестер произнес за столом неприличное слово. Быстро соображающие Штейнфельды смотрят сначала на Эли, потом на Неда, потом друг на друга – очень сложная реакция. Не грозит ли что-нибудь их сыночку с таким-то соседом? Мой отец никак не может сообразить, почему его случайное замечание вызвало подобную реакцию и перед кем и за что ему следует извиняться. Он хмурится, а Сэйбрук что-то шепчет ему на ухо – ай-ай-ай, Сэйбрук, шептаться в обществе! Что люди скажут! – после чего он вспыхивает, чуть ли не багровеет. «Может быть, закажем что-нибудь?» – громко, чтобы скрыть замешательство, предлагает он и величественным жестом подзывает официанта из студентов. «У вас есть Шазань-Монтраше 1969 года?» – спрашивает он. «Простите, сэр?» – тупо переспрашивает парень. Доставляется ведерко со льдом и с бутылкой «Либфраумильх» за три доллара – лучшее, что у них есть, – и отец расплачивается новехоньким полтинником. Мать Неда с недоверием глядит на купюру; Штейн-фельды кисло смотрят на отца, решив, что он собирается сразить их наповал. Незабываемый, чудесный эпизод – весь этот обед. Уже потом Сэйбрук отводит меня в сторонку и говорит: «Твой отец чувствует себя очень неловко. Если бы он знал, что Эли… м-м-м… увлекается другими мальчиками, он ни за что не сделал бы подобного замечания».
«Да не Эли, – говорю я. – Эли-то нормальный. Нед».
Сэйбрук взволнована. Она думает, уж не разыгрываю ли я ее. Ей хочется сказать, что они с отцом надеются, что я ни с кем из них не трахаюсь, однако воспитание не позволяет. Вместо этого мачеха переводит разговор на нейтральные темы, через положенные три минуты изящно закругляется и возвращается к отцу, чтобы объяснить ему последнюю примочку. Я вижу, как взбудораженные Штейнфельды проводят беседу с Эли и, без сомнения, дают ему нахлобучку за то, что он поселился с богомерзким язычником, одновременно строго предостерегая его держаться подальше и от того маленького файгелех , если (ой! вей!) еще не поздно. Неподалеку и Нед со своей матерью, тоже воплощающие сцену на тему конфликта поколений. До моего слуха доносятся обрывки фраз: «Сестры молятся за тебя… припади к Святому Кресту… эпитимья… четки… твой крестный… искус… иезуит… иезуит… иезуит…» Поблизости в одиночестве стоит Оливер. Наблюдает. Улыбается своей венерианской улыбкой. Прямо пришелец какой-то, наш Оливер, обитатель летающей тарелки.
Я считаю Оливера обладателем самого глубокого ума во всей нашей компании. Его знания не настолько обширны, как у Эли, он не производит столь яркого впечатления, во я уверен, что его интеллект гораздо мощнее. А еще он – самый странный из нас, потому что внешне кажется таким здоровым и нормальным, но в действительности это не так. Эли из нас самый сообразительный, но и самый страдающий, самый озабоченный. Нед выступает в роли нашего слабака, нашего голубенького, но не стоит его недооценивать: он всегда знает, чего хочет, и знает, что добьется желаемого. А я? Что можно сказать обо мне? Обычный посредственный школяр. Правильные семейные связи, правильная студенческая община, правильные клубы. В июне я выпускаюсь и после этого заживу счастливо. Звание офицера ВВС – это да, но никакой действительной службы; все уже решено, наши гены считаются слишком драгоценными, чтобы ими разбрасываться – а потом я подыскиваю подходящую дебютантку в лоне епископальной церкви, патентованную, девственницу, принадлежащую к одному из семейств ( первой сотни, и начинаю вести жизнь джентльмена. Господи Иисусе! Слава Богу, что эта самая «Книга Черепов» – не что иное, как суеверная чепуха. Если бы мне пришлось жить вечно, я бы уже лет через двадцать надоел бы себе до смерти.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?