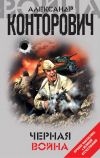Текст книги "Искупить кровью!"

Автор книги: Роман Кожухаров
Жанр: Книги о войне, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Глава 2. В котле
I
Вечером, после поверки, выжившие из третьего взвода поминали своего командира и погибших товарищей. Из двадцати трех утром осталось семеро – цена взятия высоты 200.
– Ничего, завтра новых пригонят, – с полным ртом пробубнил Бесфамильный. Он никак не мог прожевать своим беззубым ртом кусок трофейного сервелата.
– Кхе, незабористый он какой-то… – даже не поморщившись от выпитого своим изрытым оспинами лицом, заметил Деркач. – Не то что наш первач… И клопами воняет.
– Сам ты, Деркач, клопами воняешь, – беззлобно отозвался Лобанов. Они с Деркачом были земляками, из-под Кирова, и вместе из окружения выходили, в одну штрафную роту и попали. На почве малой родины и возник у них спор, переросший в противостояние мировоззрений. Лобанов называл область на новый лад – Кировская, а Деркач упрямо стоял на старой Вятке.
– Сидел бы там в своем клоповнике и не узнал, что такое настоящий французский коньяк, – подзуживал земляка Лобасик.
– А вот и сидел бы… – с горячностью подхватил Деркач. – С превеликим удовольствием…
Бесфамильный захохотал и чуть не подавился колбасным куском, который он продолжал мусолить во рту.
– Кхе-хе… Не торопись, сесть ты всегда успеешь. Если тут не прихлопнут.
– Вот именно… – не унимался Деркач. – Лучше лес валить, чем…
Коньяком, колбасой и шоколадом Аникин и Саранка разжились в захваченном доте. Запасами шикарной снеди оказался до отказа забит один из ящиков немецкого пулеметного расчета.
Никто с Лобановым не стал спорить, как выходило обычно. Даже извечный его оппонент молча допивал из котелка свою порцию ароматной французской выпивки. Молчал и Бесфамильный, в другой ситуации не преминувший обязательно что-нибудь ввернуть насчет «отсидочки». Крагин выжил, и его отправили в госпиталь. Дружков Бесфамильного, Малявина и Гуцика, повыбило, и теперь, оставшись без «пахана», он вынужденно кучковался со всеми. Сразу после поверки он даже что-то одобрительно пробурчал Аникину про то, что он «правильный», что, мол, «пахан» ему рассказал, как Андрей спас ему жизнь. Впрочем, Аникина это мало согрело.
II
С Крагиным у Андрея не заладилось в первый же день его появления в роте. Аникин на всю жизнь запомнил ни с чем не сравнимый запах горячих макарон и настоящей свиной тушенки, распространявшийся над окопами. Андрей ни разу до этого не получал на фронте такой сытный ужин. Получив свою порцию мяса и макарон, а также ломоть настоящего ржаного хлеба и полкотелка чая из рук замкомвзвода Теренчука, он уже собрался накинуться на еду, но его прервал тихий, но наглый оклик:
– Эй, фраерок…
Обернувшись, он наткнулся на скалящуюся вовсю ширь украшенных железными фиксами зубов физиономию. Потом он узнал, что фиксатого звали Гуцик.
– Нехорошо, фраерок. Пришел к людям, а почтения не засвидетельствовал…
– Я командиру доложил… по форме, – несколько растерявшись, ответил Андрей и огляделся вокруг.
Солдаты сидели кто где, на приличном расстоянии и были заняты каждый своей тарелкой. Однако Аникин понял, что все исподволь следят за их разговором, отлично все слышат и наблюдают, что будет дальше.
– Командиру? Хе-хе… – Фиксатый оглянулся на группку, вальяжно расположившуюся с другой стороны окопа, на бруствере. Из троицы выделялся один – рослый, с крупными руками и трофейной, офицерской портупеей на выстиранной гимнастерке, он развязно полулежал, откинувшись на бруствер окопа, как на прибрежную морскую гальку.
– Слышь, недомерок… – Фиксатый вдруг сделался совершенно серьезен и даже грозен. – Вон твои командиры, а вон главный – Василий Федотович Крагин. Понял?.. Мясо ему отдай.
Сидящие по бокам от рослого кандидаты в аникинские командиры фыркнули от смеха, а рослый, тот, что претендовал на самого главного, одобряюще кивнул.
– Тебе и макарон хватит, – отчетливо и чуть ли не с заботой о ближнем произнес он.
Тут фиксатый добродушнейше улыбнулся и настойчиво толкнул Андрея в плечо: давай, мол, двигай к главному, не задерживай порцию.
– Хорошо-хорошо, будет вам мясо, – как ни в чем не бывало ответил Андрей и, уже принявшись жевать первую ложку с макаронами, обильно приправленными вкуснейшей тушенкой, с набитым ртом ответил: – Только сейчас оно жесткое. Вам жевать неудобно будет. Зубы-то беречь надо, и так вон, железные. Будут вам через пару часов – котлеты…
Фиксатый непонимающе оглянулся на своих корешей, потом снова – на Аникина.
– Какие котлеты? – все еще не понимая, почти растерянно спросил он.
– Известно какие… Из фарша, – объясняюще, как бы досадуя на непонимание собеседника, уточнил Аникин.
– Фарш за пару часов приготовится… – Аникин похлопал себя по животу и продолжил: – А там – и котлеты готовы…
Оглушительный хохот раздался со всех сторон, подтверждая, что почти весь взвод наблюдал за разговором.
– Ах ты гад!..
Андрей ждал этого выпада. Фиксатый попытался схватить Аникина за шею, но тот резко наклонился вперед, и Фиксатый, ухватив воздух, не совладал с инерцией и кубарем скатился в окоп. Хохот прокатился с новой силой. Дружки фиксатого дернулись было вперед, но рослый остановил их:
– Тихо вы… Теренчук катит…
Взгляд его, кипящий злобой, буравил Андрея насквозь, и тому стоило немалых усилий не отвести глаз в сторону.
– А тебе, падла, не жить, – полушепотом цедил рослый. – Из тебя котлеты наделаем…
В этот момент к ним подошел замкомвзвода.
– Шо тут зробылось? – сурово, отрывисто спросил он.
Аникин, все также держа тарелку и ложку, вытянулся во фрунт:
– Все в порядке, товарищ сержант. Боец вот оступился…
Из окопа выбрался фиксатый, весь пунцовый, извалявшийся в пыли, он старался не смотреть ни на Аникина, ни на дружков.
– Шо, Гуциревич, ножки ослабли? – еле сдерживая за суровостью нотки смеха, спросил Теренчук. – Може, треба тоби усиленную порцию питания выбить? А, котлеты, к примеру?..
Гуцик, красный как рак, продолжал отряхиваться, бросая исподлобья на Аникина ненавидящие взгляды.
– А ты, Аникин, – за мной…
Не дожидаясь ответа, замкомвзвода повернулся и с удивительной для его кряжистого, тяжеловесного тела быстротой пошел вдоль окопа.
По дороге замкомвзвода, не сбавляя суровости, отчитал Аникина:
– Шо ты? Не успел прийти в роту и борзеешь? Со своим отделением треба макароны трескать, а не шариться по позициям…
– Так я же, товарищ сержант…
– Отставить!.. Так я же… пошукал, с кем связаться… с цим… Чикнут тоби враз. Це ж не просто части. Це ж ШУ-РА!.. Зрозумил?
– Виноват, товарищ сержант. – Аникин замялся, переминаясь с ноги на ногу. – Не понял…
– Не понял. Як с уркаганами собачиться вин понял… Позывной Шу-Ра. Штрафная рота…
Сержант вдруг прервал свой наставнический ликбез и хмыкнул.
– А гарно ты им пятаки утер… Котлеты! Ладно, тикай до сержанта Бережного. Це твой командир отделения. И от него – ни на шаг! Вона его лысина из окопа сияет.
III
Оказался он в роте всего месяц назад. По окопным меркам – целая вечность. Но все равно Аникину иногда не верилось, что всего несколькими неделями раньше он мало чем отличался от Саранки. Что ж, прав был Колобов, бросив ему при первой встрече: «Ничего, казак, атамана тебе не обещаем, а солдата из тебя выправим».
Андрей сразу почувствовал, что к его взводу среди сослуживцев особое отношение. За глаза взвод в самой роте звали «штрафным». Все – из-за взводного. Колобов единственный из всего комсостава роты сам был штрафником. Разжалованный в рядовые из подполковника, он был направлен в штрафбат. По дороге, по непонятным причинам, о которых было известно, наверное, только ротному и парторгу, а сам Колобов не распространялся, его перевели в штрафную роту.
Скорее всего, попросту из-за нехватки командного состава во вновь созданных после сталинского приказа «Ни шагу назад!» подразделениях. Навыков руководства подчиненными в бою Колобову было не занимать. И в быту, и в бою взводный старался беречь солдат, в замы назначил себе запасливого Теренчука, который дружил со своим земляком, ротным старшиной Диденко. Так что хозяйственное обеспечение взвода наладилось лучше не придумаешь – прямиком с армейских складов, и даже водка поступала в третий взвод неразбавленной, что вызывало законную зависть у марчуковцев, командир которых на той же земляческой почве со старшиной поцапался.
Да и боевую задачу взводный планировал с умом, тактически, под каждый конкретный случай, с учетом местности и взводных силенок. В общем, людей без толку под пули не посылал. Наверное, из-за этого на него постоянно обрушивался гнев ротного. И не только из-за этого. У майора Углищева был пунктик по поводу трусости и уголовного прошлого своих подчиненных. Кто знает, может, в прошлой, довоенной, жизни его квартиру обчистили воры или избили хулиганы? Только майор считал делом принципа не жалеть трусов и уголовников, которые по документам, собственно, и являлись личным составом отдельной штрафной роты. Получая приказ из штаба дивизии, он не особо задумывался над его тактическими воплощениями, всем остальным предпочитая свое любимое: «В лобовую атаку крупными силами». Конечно, мало кому будет приятно терпеть у себя под носом комвзвода, разбирающегося в тактике и стратегии ведения боя, который к тому же не боится высказывать свою точку зрения в лицо старшему по званию. Это «старшинство по званию» было еще одним пунктиком майора Углищева. К месту и не к месту он любил подчеркивать особый – «отдельный армейский» – статус роты, что автоматически возвышало его, майора, до самого командира полка. Как тут вынести своеволие взводного, который, к тому же, в «режиме реального», нештрафного, времени является выше тебя по званию?
Всю эту предысторию Теренчук как-то разом выложил Аникину после ста граммов водки, пока тот помогал тащить в расположение продукты. По мнению Теренчука, «це и стало» причиной того, что командир роты майор Углищев вдруг назначил рецидивиста Крагина главным по ротной разведке и прикомандировал того вместе со всей «пальцы веером» разведгруппой к третьему взводу. Создал, так сказать, взводному головную боль на ровном месте. «Зробил подлянку», – подытожил, как отрезал, сержант.
Особо о довоенных лагерных заслугах Крагина замкомвзвода не распространялся. Аникин с первых дней пребывания в роте догадался, что о собственном прошлом тут болтать не принято, а уж тем более расспрашивать. Кому припрет, у костра, да после ста граммов водки, сам разоткровенничается. Единственное, о чем помянул Теренчук, так это то, что за Крагой, среди прочих «заслуг», есть «мокрое» и что двое – Гуцик и Бесфамильный – прибыли вместе с ним по этапу и уже тогда у него, как выразился замкомвзвода, «в холуях ходили».
Номинально Крагин подчинялся ротному, а довольствие на себя и подельников получал в третьем взводе. Отсюда и пошло противостояние взводного и Краги. Теперь один отправлен в госпиталь, а другой – на тот свет. Что ж, при отправке с передовой выбор пунктов назначения не богат.
IV
Аникин вдруг вспомнил про еще один путь. Тот самый, который и привел его в штрафную роту. Плен, бегство, возвращение к своим, потом Смерш… Воспоминания особого энтузиазма не прибавили. Да и то, что он видел вокруг, не особо радовало.
Настроение у всех было подавленное. Давило даже не то, что погибли товарищи, а что все это – смерть товарищей и кровавый пот – оказалось зря. Вечером, уже после разгрома артиллерийских расчетов, штрафники вернулись на свои утренние позиции, покинув растерзанные немецкие траншеи. Ротный получил соответствующий приказ от командования дивизии «ввиду перегруппировки сил и невозможности удержаться на новом рубеже». Еще, чего доброго, прикажут в обратном направлении реку форсировать.
– Какого черта, если… – опять завел пластинку Деркач.
– Какого черта?.. – вопросом оборвал его Андрей. – А такого, что Колобов погиб, а ты выжил, сидишь тут и жрешь шоколад и нос от коньяка воротишь… Так что не ной и не скули, а радуйся…
– Верно Андрей говорит, – поддержал Бесфамильный. – Такие, как ты, Деркач, везде скулят – что в окопе, что на лесоповале. Посмотрел бы я, как ты в лагере заголосил бы…
Лобанов улыбнулся и кивнул на Иванчикова.
– Бери пример вот с Саранки. Пока вы тут лясы точите, он времени зря не теряет. Колбасу уминает со скоростью пулемета…
Саранка, захмелев после первых же глотков, даже не отреагировал на внимание к его персоне, вперемешку с колбасой набивая рот шоколадом.
– Ничего, Саранка пулеметные скорости заслужил… – одобрительно проговорил Аникин, разливая по котелкам вторую бутылку коньяка.
– Одно беспокоит… – отозвался Бесфамильный. – Как бы не повторилась история с тушенкой, но уже в другом варианте.
Дружный смех огласил позиции, вызвав волну замечаний и реплик.
– Ага, в шоколадном!..
– Ха-ха… Будет у тебя, Саранка, жизнь в шоколаде!..
Андрей сам был не в силах сдержать смех. Сколько уже раз он убеждался в том, насколько скоротечны на фронте скорбь и прочие унылые эмоции. Потеря товарища, отзываясь болью, одновременно означала еще одно: если ты чувствуешь эту боль, значит, ты жив. Смерть и так ходила вокруг да около, кружила над головами. Мысли о ней отогнать было невозможно, но заводить разговоры на эту тему считалось последним делом. Подсознательно пытаясь отгонять, всеми силами цеплялись за малейшие поводы жить и из любой заунывной темы, так или иначе, все равно обращались к шуткам и воспоминаниям о мирной жизни.
– Ну, что… будем…
– Будем…
– Слышали, усатовских к деревне переводят? – сказал вдруг Лобанов, принимаясь за шоколад. – Во Владимирском, говорят, девки есть…
– Откуда ты все знаешь, Лобасик? – удивленно поинтересовался Аникин. Казалось, никаким тяготам и лишениям окопной жизни не по зубам неунывающий характер Лобанова. В самой беспросветной ситуации он так или иначе находил что-то жизнеутверждающее. Девки, которых, по словам Лобанова, на гражданке у него было пруд пруди, были излюбленной темой его разговоров.
– Известно, откуда. Цыганская почта… Яшка, пулеметчик у Усатого, родом из-под Уржума. Короче, наши, вятские…
– Из третьего взвода? – примирительно уточнил Деркач.
– Ага… Так он уже познакомился с одной, самоходом два раза у ней был. Пять км туда, пять обратно… Ядреная, говорит, аж трещит на ней одевка…
– Видать, он одевку-то с нее дюже быстро снимает. Вот она и трещит… – заметил под общий хохот Бесфамильный.
– Вот бы нас тоже… в деревню… – мечтательно произнес Саранка, чем вызвал новую волну смеха.
– Сам ты деревня, Саранка… – охая от смеха, шептал Лобанов. – Кто же штрафников в деревню переведет. Нам и близко к населенным пунктам подходить нельзя. Установка такая. С самого верху.
Неожиданно в августовских сумерках из-за поворота траншеи возник силуэт парторга.
– Что за веселье? – спросил капитан каким-то усталым, отсутствующим голосом.
Солдаты попытались подняться, но парторг прервал их движение:
– Сидите, сидите. Набегались сегодня… Так по какому поводу смех?
– Да вот, Саранка… требует, чтобы роту в деревню перевели. До зарезу ему, понимаешь, девки понадобились!.. – убрав улыбку, отозвался Лобанов.
Парторг, сосредоточенный на каких-то своих думках, оперся на бруствер.
– Смотри, какое у нас пополнение боевое!.. – добродушно произнес он вдруг. – Винтовку об фашиста расколошматил, пулеметный расчет с Аникиным ликвидировал и снова в бой рвется…
Парторг имел в виду «СВТ», прикладом которой Саранка саданул по черепу во время рукопашной немца. Оказалось, что удар вышел у Иванчикова приличным, да только башка у немца была крепче чугунной, и приклад раскололся.
– Давайте, товарищ капитан, помяните Колобова…
Аникин протянул Теренчуку котелок с коньяком. Тот принял его и на секунду замер.
– Подполковника Колобова… – Произнеся, парторг осушил котелок одним залпом.
– Долго совещались, товарищ капитан, – дипломатично заметил Бесфамильный.
Капитан испытующе посмотрел на него так, что тот первым отвел взгляд.
– А ты, Бесфамильный, и время засек, небось? А не зря у тебя на каждой руке по три пары часов…
– Я ниче, товарищ капитан… – жалко проблеял Бесфамильный. – Так это ж трофейные…
– Ну хватит… Ситуация не сахар… сами видите, – сурово произнес парторг и вдруг, улыбнувшись, добавил: – Ну, не считая, что у всех у вас рты шоколадом набиты…
Замечание капитана тут же вызвало оживление. В роте парторга уважали за справедливость, и острое слово, и за то, что он частенько вступался за штрафников перед ротным.
– Аникин!
– Я, товарищ капитан…
– Примешь команду взводом. Приказ майора Углищева. Видно уж, суждено вашему взводу в «самых штрафных» числиться… Ясен приказ, командир?
– Так точно…
– Ну вот… – Сбавив суровость, капитан развернулся и уже на ходу обратился к порядком растерявшемуся Андрею: – А теперь, товарищ Аникин, входи, как говорится, в командование взводом. Кумекай, как дальше быть… Через полчаса – совещание у ротного. Часы-то есть? Ну, ничего, у Бесфамильного спросишь, который час.
Под дружный смех, вызванный последними словами капитана, тот направился прочь по траншее, но вдруг остановился и повернулся к сидящим.
– И это… Дайте хоть закусить, этого… Шоколаду.
V
Перетянутая портупеей спина капитана исчезла за поворотом траншей, но повисшая над окопом тишина продолжала густеть. Сослуживцы молчали. Никто не торопился поздравлять Андрея с повышением. Первым очнулся Саранка:
– Я же говорил, товарищ командир… что вы… товарищ командир…
Запутавшись в собственных речах, он беспомощно оглянулся на сидевших вокруг. Все продолжали упорно держать паузу.
Аникин, отпив из котелка, откинулся на спину. Коньячные пары приятно клубились в голове, как эти сиреневые сполохи сумерек над головой, сквозь которые прорезались первые звезды, такие низкие и лучистые здесь, в небе подо Ржевом.
В груди новоиспеченного командира взвода «Шу-Ры» подымалась томительная волна. Справится ли он? Радоваться этому назначению или наоборот?.. Вот и товарищи молчат. Он прекрасно знал, что средний срок жизни командира на передовой – не больше недели. Сам Колобов об этом говорил, с усмешкой обреченного добавляя: «Так что я тут – рекордсмен». И в то же время неистребимая в человеке надежда, глубоко засевшая в самой глубине души, спорила с этим отчаянием обреченности. Русский «авось» – единственная опора духа для каждого, кто, просыпаясь рано утром и добираясь живым до вечерней кромки дня, обозначенной долгожданной командой «отбой!», наблюдал неизменный «натюрморт», в буквальном смысле слова, – «мертвую натуру», воплощение смерти – картину переднего края фронта.
«Бог не выдаст, свинья не съест», – как заговор, повторил про себя Андрей любимую отцовскую поговорку. Сколько уже раз выносила его нелегкая из таких ситуаций, когда, казалось уже, все – хана. «Глядишь, и теперь не подкачаем», – словно бы убеждая себя самого, рассуждал Андрей. Он закрыл глаза, и вдруг волной неподдельных эмоций, остро пахнущих потом, смертью, ржаным колосом и всеми другими запахами тех дней, перед ним мелькнули, как вспышки реальнейшего кинематографа, картины, которые он пережил от первой до последней секунды – побег из колонны пленных, там, под Харьковом, в адском котле мая 42-го.
VI
Воспоминания нахлынули на него разом, с запахами и ощущениями, захлестнув все его существо. И Аникину вдруг показалось, что лежит он не в расположении своего взвода, на глинистой кромке переднего края обороны, километрах в двенадцати от деревни Владимирское, в редкостную минуту затишья после бесконечного, многодневного боя за высоту 200. Он лежит на животе, зажмурив глаза и вжавшись в примятую траву, и слышит, как совсем рядом – кажется, возле самого уха – тянется людская река изможденных, отрешенно испуганных пленных, бывших солдат Красной армии, подгоняемая рыкающими, словно щелчки бичей, криками конвоиров.
Минуту назад он был частью этого потока.
Он, необстрелянный салажонок, буквально с поезда, в первом бою вместе со своим батальоном угодивший в плен, – каждый миг всех тех бесконечных, наполненных мучительной жаждой и томительным бредом часов, что они брели по прожаренным пыльным дорогам Харьковщины, – с ужасом ощущал себя не Андреем Аникиным, любимцем папы и мамы, учителей и даже Марты Михайловны, строжайшего директора школы, начитанным (не в пример другим поселковым) и подающим надежды для поступления в институт, а всего лишь букашкой, никчемнейшим муравьем, которого при первой же прихоти, в любую минуту могут прихлопнуть.
Немцы объявили привал, и он пополз сразу. Потом будет поздно. Чуткие фашистские уши засекут шорох его ползущего тела. Нужно было делать это сейчас – пока колонна устраивалась, раненые со стонами усаживались и ложились на землю, пока немцы на своем «гыр-гыр-гыр» переговаривались друг с дружкой, принимаясь пить из своих фляжек, переводя дух и немного теряя бдительность. Он отполз, насколько позволил ему животный, всего его переполнивший страх, и замер, еле-еле выдержав, чтобы не вскочить и не побежать сломя голову прочь по полю. Сколько раз уже он был свидетелем таких безумных побегов, которые заканчивались одним – прицельными очередями из «шмайсеров» с нескольких точек.
Сейчас его хватятся и прихлопнут. Прихлопнут. Это слово снова и снова набухало и лопалось в мозгу, словно хлопушка. Прошлогодний ковыль шумел на ветру сухо и обреченно. Как море, которого он никогда не видел. И не увидит. Теперь уже никогда. Сейчас его найдут, прямо здесь, в этой сухой траве. Солнце палит прямо ему в затылок, и, кажется, будто уперся в затылок нарезной раскаленный ствол.
Не спрятаться, не спрятаться. Это не ветер, это их шаги. Кованые сапоги сминают и топчут созревшие стебли, и зерна сыплются с дробным, нарастающим, нескончаемым шумом, и шум этот давит на уши, и он, липкий от холодного пота, вдруг понимает, что это шумит кровь в голове, толкаемая тяжелыми, гулкими ударами сердца.
VII
Прихлопнут… Это слово, жуткое своей обыденностью, пробуравило мозг навылет, и он вжался в землю еще сильнее. Страх прорастал в нем. Мучная горячая пыль забила ноздри. Но ему было все равно. Он готов был рыть и вгрызаться в эту истощенную солнцем землю, чтобы стать с ней единым целым. Да, кучей гниющего мяса, которое растащат на корм зеленые мухи и навозные жуки!.. Да-да, именно так и будет, когда немцы его шлепнут. Как того старшину сегодня утром. Он еле шел, волочил свою простреленную ногу, страшную, с побуревшей от крови обмоткой, которую сделал ему на коротком привале Силантьев. А Силантьев, неунывающий и пронырливый, всех подбадривал. Даже с фрицем конвойным нашел общий язык. Выпалит какое-нибудь Commen zih bitte, froilen или что-нибудь из школьной программы и выпучит свои глазищи, которые и так навыкате. А немец, русоволосый здоровяк, хохочет, да так весело и добродушно и кричит что-то своему товарищу, который на десять шагов впереди, и они начинают переговариваться, «гыр-гыр» на своем фашистском. Здоровяка зовут Гельмут, и он говорит другому, что, мол, русская свинья пытается хрюкать по-немецки. Это Силантьев переводит. Он довольно подмигивает и тут же заговорщицки шепчет, что конвойные – олухи и что им при первой же возможности надо драпать. «Не дрейфь, Гришака, со мной не пропадешь, – толкает его в бок Силантьев. – Это ерунда… Я вот один раз был у бабы, а тут мужик ее заявился…
Со второго этажа, через окно пришлось драпать». Но досмеяться Силантьев не успел, потому что немец ему двинул прикладом в челюсть. Тот прямо в пыль повалился и с кровью выплюнул в убитую дорогу два зуба, а здоровяк стоит над ним и все приговаривает: «Русиш швайн, не болтать, идти – молчать». И весело так, добродушно это все говорит.
А вчера нога стала вонять, даже за несколько шагов от старшины чувствовалось, и он начал говорить вслух сам с собой и часто останавливаться. Силантьев и он по очереди брали старшину на буксир. Старшина был тяжелый и что-то все время бормотал себе под нос, и речь его звучала Андрею прямо в ухо, как назойливая муха. Он совсем обессилел, когда тащил его, перекинув руку через плечо, и все не мог дождаться, когда наконец немцы объявят передышку. И вот они объявили, и Аникин чуть не уронил раненого. Силантьев, молодчина, успел подхватить старшину и пытался помочь усадить его. А немец, тот самый Гельмут, подошел и выстрелил сзади старшине в затылок одиночным из своего «шмайсера». Пуля вошла в затылок аккуратной дырочкой, а на выходе вывернула часть лобной кости и переносицу. Этой зияющей дырой старшина и уткнулся в густую перину из пыли. Андрей и Силантьев, оглушенные выстрелом, даже не попытались поймать падающее тело одеревеневшими от ужаса, забрызганными кровью убитого руками.
– Zer gut! – добродушнейше произнес немец, махнув стволом своего автомата в сторону убитого, словно бы какой-нибудь токарь, только-только закончивший работу над сложной деталью. Потом он, заткнув нос пальцами, замотал головой и поморщился. Силантьев взялся было за труп – оттащить убитого старшину дальше за обочину, но получил сапогом пинок по лопатке. Немец с деланой суровостью погрозил пальцем и что-то весело крикнул своему напарнику-конвоиру. Так они и просидели с Силантьевым скоротечные минуты привала бок о бок с трупом старшины. Мухи тут же облепили дырку в затылке убитого и разбухшую ногу, от которой распространялся тяжелый смрад сладковатой мертвечины.
VIII
Шум голосов конвоиров и топот десятков ног затих. Но он еще долго лежал без движения, боясь пошевелиться и не веря, что ему удалось вырваться из потока обреченных. Наверное, он потерял сознание или забылся полусном-полубредом. Когда Аникин решил, что можно двигаться, уже начало смеркаться. Он побрел по полю наобум, стараясь держаться направления, обратного тому, которым их гнали от линии фронта. Нарвав в жменю колосьев, он перетирал их в ладонях и высыпал в рот, механически жуя упругие зерна, доводя их до безвкусной массы, которая создавала иллюзию насыщения. В ржаном поле он просидел всю ночь – пытался заснуть, но ему начинал сниться старшина: облепленный мухами, с зияющей кровавой дыркой вместо лица, он беспрестанно говорил Андрею: «Зер гут, зер гут…», а Андрей во сне никак не мог понять, как старшина может говорить, если у него нет рта, и от этого невыносимо хотелось кричать. Он очнулся в холодном поту от собственного крика, не зная, кричал ли он на самом деле. Андрей решил бороться с дремотой, боясь, что опять закричит во сне и немцы его услышат…
Разбудили Аникина шум моторов и перекрикивания на немецком. Оказалось, что он проспал как убитый почти до полудня, всего в нескольких метрах от дороги. Солнце палило нещадно и хотелось пить. Аникин вновь принялся жевать зерна, но от жажды они не спасали. Дождавшись затишья на дороге, он отполз в глубь ржи и пролежал там весь день.
Когда уже совсем стемнело, он нашел на звездном небе Полярную звезду и, взяв от нее правее, пошел, как ему казалось, на северо-восток. Туда, откуда их гнали немцы. Скоро поле закончилось, и он шел перелеском, держась проселочной дороги, крадучись, прислушиваясь к неясным звукам и шорохам. В каждом из них ему мерещились немцы. Горячее тепло поднималось от прожаренной за день почвы, и ночная мгла не приносила прохлады и облегчения.
Андрею показалось, что шел он очень-очень долго, пока не услышал вдали лай собак. В непроглядной темени блеснули огоньки. Инстинкт самосохранения подсказывал ему, что к жилью лучше не соваться. Но голод толкал его вперед, прямо на эти огни. Ему так хотелось есть, что резкие спазмы в желудке заставляли его останавливаться и пережидать, скрючившись, пока тянущая боль утихнет.
Почти вплотную к крайней хате подступали осиновые заросли. Андрей попытался лезть напрямик, но только оборвал гимнастерку. Тогда он упал на четвереньки и пополз прямо по грязи, через густые сплетения скользких осиновых ветвей.
Наконец он подобрался к самому краю зарослей. Неказистый деревянный плетень, с нацепленными на колья горшками, упирался прямо в осиновые заросли. Задняя часть двора, стена хаты без окон, и толком не разобрать, есть кто-нибудь внутри или нет. Андрей прислушался. Собака лаяла где-то на другом конце. А во дворе тихо. Из трубы вился дым. И тут Андрей учуял другое. Запах. Он жадно втягивался ноздрями. Аникин распознал его. Не запах… вернее, дух. Картошка с топленым молоком. И какая-то выпечка из теста. Видать, ее только-только извлекли из печи. Андрею показалось, что желудок и кишки в животе перекрутились жгутом. Крепиться не было сил.
IX
Аникин с трудом перетащил свое обессилевшее тело через забор и прокрался к самой стене хаты. Глиняная, выбеленная известкой, стена отчетливо просматривалась в густившейся темноте. Она отдавала прохладой, пахла свежестью и домом. Андрей не утерпел: сковырнул кусок известки и, сунув в рот, принялся жевать ее. Его тут же стошнило. Опираясь о стену рукой, он прошел по периметру хаты. С боков и спереди вокруг хаты чернели деревянные постройки. Собака, звеня цепью, заливалась где-то у ворот.
Андрей подкрался к окну. В неосвещенной глубине хаты мелькали какие-то тени. Скорее всего, их отбрасывал свет керосиновой лампы откуда-то из соседней комнаты. Толком разобрать ничего нельзя было. Голод толкал его к двери. «Иди, иди!» – словно что-то настойчиво твердило внутри, заставляя забыть об осторожности. Он постучал и, превратившись в слух, замер в ожидании. Неясные шорохи и шум доносились изнутри. Наверное, стук его был настолько слабым, что его не услышали. Андрей ткнул дверь с большим усилием, и она неожиданно открылась. Дверь в просторных сенях была распахнута настежь. Два немца, сидевшие за столом, уставились на него в упор. В фигурах и лицах их застыли растерянность и испуг. По всему было видно, что появление Андрея застало их врасплох. В глубине горницы, возле печки, застыла с ухватом в руке фигура женщины. Там же, прислоненные к стене, стояли две винтовки возле брошенных прямо на деревянный струганый пол ремней с амуницией. Разглядеть ее можно было с трудом. Две керосиновые лампы хорошо освещали стол, уставленный едой. Но в углах просторной горницы сгущался сумрак. Только глаза хозяйки блестели из печного угла испуганным блеском.
Волна страха захлестнула Андрея. «Бежать, бежать. Еще есть возможность», – всколыхнулось внутри, но ноги словно оказались в свинцовых колодках.
Хозяйка вдруг вскрикнула и бросилась ему навстречу.
– Коленька!
Это оказалась женщина средних лет с убранными под платок волосами. Лицо ее, с двумя глубокими морщинами на лбу, исказила гримаса радости. Она прижалась и обняла его. Андрей почувствовал ее нестарое, нагретое печью и домом тело, и как груди, большие и крепкие, уперлись ему чуть ниже солнечного сплетения. Он не мог пошевелиться.
– Я… не Коленька… – Андрей осторожно, но настойчиво, насколько позволяли силы, попытался отстранить ее за плечи. – Я не Коля.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!