Текст книги "Рок умер – а мы живем (сборник)"
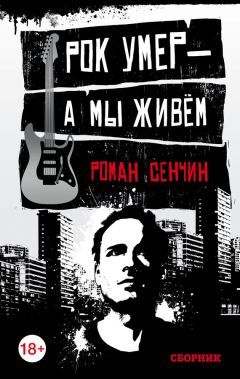
Автор книги: Роман Сенчин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
9
Работа продвигалась туго, мучительно. На то, что вчера ещё делалось механически, сейчас приходилось затрачивать массу усилий. Думать…
Донимал, крутил водочный отходняк, манил диванчик. В мозгу словно бы образовалось выжженное, безжизненное пятно, и теперь Чащин, болезненно морщась, заращивал его новыми клетками, шёпотом, вдумываясь в каждое слово, читал:
– «Пила: Игра на выживание»… Так. «Режиссёр Д. Ван, США, 2004». Так. «Триллер/ужасы»… Так. «Продолжительность»…
Но кроме тяжести похмелья всё острее становилась тревога, что же будет теперь, с приездом Димыча. Как теперь…
Уже начался кавардак и напряги. Собираясь на работу, Чащин стал его инструктировать, как вести себя в квартире. Но первый же пункт возмутил гостя: «С чего это никуда не звонить?! Трубку не поднимать? Я сюда по делам приехал, мне звонить надо срочно!» Чащин попытался объяснить, что квартира не его собственность, если нагрянет хозяйка или услышит в трубке незнакомый голос (а она звонила раза два в месяц, интересовалась, всё ли в порядке), то это может кончиться требованием освободить жильё. Дескать: «Нечего тут притон устраивать». Чащин знал о таких случаях…
Правда, спорить не стал. Почувствовав внутри угрожающую тряску, махнул рукой, отдал Димычу дубликат ключей от квартиры и кодового замка, поехал на работу… Вообще, в последнее время он старался ни с кем не спорить, не выяснять отношений, не торговался – в самой завязке любой щекотливой ситуации его начинало потряхивать, скулы сводила судорога, глаза становились влажными, и хотелось или отойти, или сказать что-то острое, убийственно-грубое – такое, чтобы противник оказался обезоружен, раздавлен. И однажды Чащин чуть было не поплатился, дав волю языку. Ехал в автобусе, купив у водителя билет и пробив его компостером. Пробил в начале салона, а потом постепенно, под давлением входящих, оказался почти в хвосте; билет, немаленького размера прямоугольник из твёрдой бумаги, привычно-машинально свернул в трубку. И тут ввалились контролёры, крепкие, похожие на бандитов. Стали торопливо проверять билеты. Чащин показал свой. «Где компостировал?» – нагло щурясь, спросил один из них. «Там», – Чащин кивнул. «А почему там, если ты здесь? И вообще, – брезгливо покрутил измятый билет контролёр, – он у тебя в кармане-то потомства не успел наделать? Месяц там валялся, а? Ну, чего делать-то будем с тобой?» От этого тона, от «тыканья», от того, что к нему ни с того ни с сего имеют какие-то претензии, предлагают что-то «делать», Чащина затрясло, скулы стали крепкими и тяжёлыми, и он, неожиданно для себя, непроизвольно, громко, тонковатым голосом, с немужской обидой выкрикнул: «Да пошёл ты в жопу!» Выхватил билет.
Это могло кончиться если не дракой, то долгими, изматывающими разборками, быкованием контролёров. Но – обошлось. Парень ошалел на секунду, а потом пообещал: «Я тебя сам туда отправлю» – и полез дальше по забитому людьми салону, принимая протянутые билеты, проверяя проездные документы… А Чащин долго не мог унять нервное дрожание, неловкость, возмущение. И хотелось догнать контролёра и – или, схватив за волосы, долго бить кулаком в круглую наглую морду, или извиняться, объяснять, что он всё сделал правильно, прокомпостировал билет в этом автобусе; что он не заяц…
Нечто похожее чуть было не случилось и во время утреннего общения с Димычем – вспыхнуло желание немедленно взять и выгнать, но и тут же – усадить в кресло, сесть напротив и подробно, обстоятельно объяснить, как живёт здесь, как дорожит этой квартирой, из чего складывается его день. И так далее… Но он побоялся, что, начав объяснять, собьётся на оскорбления, на колкие, обидные слова. Что всё закончится ссорой. И потому махнул рукой. Будь что будет.
Заглянул Игорь.
– Ну как, подготовил?
– Почти. – Чащин, торопливо пожав его руку, продолжал сокращать информацию о фильмах. – Много лишнего.
Игорь, по своему обыкновению, присел на край стола. Достал «Зиппо», поиграл, покрутил колёсико.
– Друга-то встретил?
– Да-а.
– Не хило, вижу, гуднули. Водку пили?
– Её…
– Молодцы. Сибиряки… Он тоже ведь оттуда, земляк твой?
Чащин пересилил желание сказать, что Игорь мешает; наоборот, оторвался от бумаг, вытряхнул из пачки «Винстона» сигарету. Ответил:
– Земляк. – И, опережая дальнейшие вопросы, добавил: – Мы с первого класса знакомы. В Питере вместе учились, в одной группе играли.
– Да ты что! – Игорь громко звенькнул крышкой зажигалки. – Кру-уто. Вот, глядишь, опять соберётесь, дадите угару.
Чащин покривил губы.
– А чего кривишься?! Сейчас снова на панк мода пошла. Конечно, с ирокезом на башке тебе уже поздно, а так… Будете такими интеллектуальными панками. «Люмен» слышал? «Мы никогда не доживём до пенсии, как Сид и Нэнси, как Сид и Нэнси». Нормальные ребята, песни – в самую тему. Да и у тебя тоже, помню, довольно такие были… без мать-перемать.
– Я же акустику играл. А для электричества всякие были…
– Ну! Тем более! – Игорь уже горел идеей вывода Чащина и его земляка на сцену. – Прикинь, у нас в редакции будет своя звезда. Интервью дадим, информационную поддержку окажем по полной. Кстати, в этом номере с «Люменом» интервью идёт. Неплохое. Интеллигентные парни… Нет, Дэн, ты подумай, действительно. Сейчас, говорю, самое время для такой музыки. Снова бурление, недовольство. Можно на этой волне подняться легко и без особых затрат. Подумай… Земляк-то твой как, играет?
– Не знаю… С гитарой приехал.
– Ну видишь! Он кто – гитарист, басист?.. Дадим объявление, что группа ищет барабанщика и кого вам надо ещё, базу для репетиций. И – понеслось. Месяца через два можно где-нибудь отыграть. В «Точке» у меня связи остались…
– Да брось ты! – наконец нашёл силы перебить Чащин. – Какие концерты? Смешно же… Ладно, всё, у меня дел… Пять полос лишних.
– Ну-ка. – Начальник взял со стола листы, пробежал взглядом, уже суховато, по-деловому, дал указание выкинуть полуторастраничную рецензию на фильм «Сматывай удочки», наполовину сократить рецензии на «Корсиканца» и «Взломщиков сердец». («Только «Двенадцать друзей Оушена» не трогай – за него уже по объёму проплачено!»)
– И аннотации подрежь. – Игорь бросил листы обратно. – Ладно, работай, труженик.
В начале восьмого Чащин был возле своего подъезда. Нашёл глазами окна – свет горел и в комнате, и на кухне. Значит, Димыч дома. Может, и хозяйка… Сидит на кухне и ждёт, чтобы всё высказать. «Что это тут за бомж?! Что вы устроили, Денис Валерьевич?! Я думала, вы порядочный человек, а оказались!..»
Оглянулся. Его «девятка» стояла на месте, кузов ровно покрыт снегом. Никто ею не интересовался. И слава богу… Надо собраться, прогреть. Может, прокатиться. Без внимания машины быстро стареют…
Прислонил магнитный ключ к кружку на кодовом замке. Раздался щелчок и мягкий, тихий писк. Чащин дёрнул дверь, вошёл в подъезд. Поднялся к лифту. Нажал кнопку. Створки тут же разъехались. Отлично. Вечером его редко можно застать на первом этаже. Вечером все едут вверх – в свои квартиры, и почти никто не спускается. Зачем? Разве что собаку выгулять, у кого есть. А так – еда в холодильнике, телевизор соскучился без хозяев, душ наготове. Спокойный вечер, все условия, чтобы набраться сил для завтрашнего дня…
Пахло чем-то очень знакомым, но забытым, давним. Чем-то таким, что раньше очень часто ел. Слишком часто.
– Привет! – вышел из комнаты Димыч; он дружелюбно, гостепреимно улыбался. – А я уж хотел позвонить… Ты до скольки вообще работаешь?
– До шести.
– И далёко?
«Далёко». Чащин поморщился.
– Нет, не очень… А чем это несёт?
– Ну как! – радостно возмутился Димыч. – Дэнвер, ты чё? Балабасом же!.. У вас тут, правда, килька дорогущая. Пятнадцать рублей банка… Давай мой руки, похаваем!..
Действительно, это блюдо они «хавали», бывало, каждый день на протяжении целых недель, и в девяносто шестом – девяносто восьмом оно было главным в рационе Чащина. Названия ему давали разные, но рецепт приготовления был практически одинаковый. Да и какой это рецепт: варится рис, лучше круглый, краснодарский, а потом в него вываливается одна-две банки кильки в томате. И хорошенько перемешивается. Быстро, а главное – дёшево и сытно, с голодухи – вполне съедобно. И не особенно надоедает.
Но сейчас Чащина передёрнуло от воспоминаний о «балабасе», о том, как он готовился, как его поедали – десяток похмельных парней вокруг стола таскают из кастрюли ложками и вилками розоватое липкое месиво…
– Присаживайся, – по-хозяйски кивнул Димыч на табуретку. – Есть охота!.. Я без тебя не стал… – Вынул из морозильника заиндевевшую литруху «Ферейна». – С устатку глотнём? – Снял крышку с кастрюли. – Та-ак-с… Остыл уже балабасик. Ну ничего, он и холодный вкусный. Помнишь, как в общаге на Народной его варили? И ведь в столовке же кормили на убой, а жрать всё время хотелось… А как на Москарик за тошнотиками ездили? А?
– Всё, кончай, а то вырвет… Кстати, знаешь, кто здесь живёт? – Чащин обрадовался внезапной идее – поселить Димыча у Макса. У Макса двухкомнатка, бурная жизнь, тусовки. Тем более Димыч действительно с Максом, можно сказать, дружили. – Твой питерский друг.
– Какой ещё друг? – Димыч встревожился.
– Макс. Помнишь? Подкармливал нас рассольниками…
Димыч округлил глаза:
– В натуре?! Он здесь?..
– На «Белорусской» квартиру снимает огромную. В воскресенье только был у него.
– Во, видишь, все в Москву гонят! – Димыч сел за стол, уверенно скрутил крышку с бутылки; наливая водку в рюмки, спросил: – И что он делает?
– Макс? – И, вдохновлённый своим планом переселить внезапного постояльца, Чащин совершил ошибку – честно рассказал о Максовом бизнесе.
– Гадёныш, – отреагировал Димыч. – Девчонок наших… Стрелять таких надо. Очищать страну… Ну, хрен с ним, забыли. – Поднял рюмку: – Давай, Дэн, за успех в нашем деле. У меня к тебе серьёзный есть разговор. Вчера не получилось… Надо спокойно, подробно обсудить.
Без всякой охоты Чащин стукнул своей рюмкой о рюмку Димыча, сделал крошечный глоток. Закусил сыром. Балабас есть не решался.
– В общем, – начал Димыч после второй, – приехал я не просто так. И – не на шару. Долго по электронке переписывался с серьёзными парнями, сегодня им звонил… Я сим-карту купил, потом запишешь мой мобильный… Ну вот. Они рады, что я здесь уже, ждут, когда начнём…
Сейчас Димыч говорил совсем иначе – ни торопливости вчерашней, ни криков… Говорил медленно, почти без выражения, словно бы начал читать длинный и очень сложный доклад.
– Наступает время решительных действий. Это, может, смешно звучит, но это так. Да. Создаётся крупный молодёжный союз. Завтра – выборы руководителя. Его основали творческие ребята – музыканты, писатели, журналисты, политики молодые, художники. Главная цель, – Димыч понизил голос, – революционные перемены путём объединения молодой протестной интеллигенции. Это реально. Всё идёт к этому. И я – с ними. – Быстро, но без суеты наполнил рюмки. – Вон, по всему миру подъём, везде трясёт… Понимаешь, Дэн… Давай выпьем.
Выпили. Зажевали.
– Понимаешь, пришло наше время. Мы как раз с тобой в том возрасте, когда нужно действовать. Потом ведь, если сейчас в стороне останемся, проклинать себя будем, не простим… Ведь нас, наше именно поколение, так объ… так обманули. Не обманули даже, а просто послали… Вспомни восемьдесят седьмой, восемьдесят восьмой, всё это кипение. «Взгляд», «Музыкальный ринг», «Ассу», пластинки… А в итоге кем стали? Кем нас сделали?.. И где мы живём вообще? Ничего у нас нет, даже государства нет. Одно лицемерие: «Мы строим сильное государство»… А на самом деле…
– Погоди-погоди! – перебил Чащин. – С чего это ты о государстве забеспокоился? Ты же вроде бы анархистом был.
– Я и сейчас анархист. Я своим принципам… я от них не отступаю. Но на данном этапе нужно возродить государство. Вернуть, как было до Горбачёва. Ну, как до Ельцина хотя бы. Ведь когда всё рухнуло? В девяносто первом. Согласись. И государство, и рок, и анархизм, и вообще смысл всего… Вспомни, что до этого… Как мы седьмого ноября в восемьдесят девятом шли по Питеру, а? Сколько нас было! Тысячи с чёрными знамёнами. Сила. Армия!.. А драку на Арбате из-за картины? Помнишь, лодка, а в ней Горбачёв, Лигачев, ещё там кто-то… Как на этого художника налетели, и мы за него впряглись. Помнишь, Денис? Блин, как она называлась, картина эта?
– «Коммунистический ковчег». – Чащин, конечно, всё помнил.
– Во, точно! Эх, как тогда всё бушевало, каждый день что-нибудь приносил. А теперь – болото. Последние кочки топят… Я дома на свой «ВЭФ» «Эхо Москвы» ловлю, слушаю, как тогда Севу Новгородцева. Больше и слушать нечего. Всё зачистили…
– Дим, извини, – вздохнул Чащин, – я устал сегодня, ничего не понимаю. Кто зачистил, кого… И, честно говоря, твои пенсионерские стенания слушать не хочется.
– Да это не пенсионерские!.. Ладно, я коротко, по существу. Так, давай по капле…
– Я не буду.
– Символически. Я вот о чём… Заметил, какой сейчас год и месяц?
– Какой?
– Январь две тысячи пятого. Ровно сто лет первой русской революции.
Чащин усмехнулся, и Димыч сразу сорвался с более-менее спокойного тона:
– Да, Дэн, да! Числа – великая вещь! Давай за новую революцию. Давай! Долой гнилую стабилизацию. Она – смерть!
– Слушай, мне надоело…
– Хорошо. Всё. Ладно… – Димыч посмотрел Чащину в глаза, улыбнулся. – Я очень рад, что мы вместе. Не думал вообще, что ещё когда-нибудь с тобой… Думал, навсегда… Я скучал очень… У меня ведь, Денис, ближе тебя никого нет. Честно.
Чувствуя, что душевно размякает, сдаётся, Чащин поджал губы, но не выдержал, тоже улыбнулся.
– Правда, Денис, – продолжал Димыч. – Мы же с тобой с самого детства, всё вместе прошли, жили, считай, одинаково. И вдруг так… десять лет не виделись.
– Ну какие десять. Я в девяносто восьмом приезжал на Новый год. Ты доволен был тогда жизнью, работой. Жениться, кажется, собирался.
– Не надо. Всё в дерьмо превратилось. Всё – блеф. Не жизнь. Знаешь, я понял, наше поколение никогда покоя не найдёт, комфорта. Точно тебе говорю. Вот смотри – кто из нашего поколения успешным стал? А? Ни в политике никого, ни в искусстве. Ни одного рок-музыканта достойного. Все или старше, или младше. Согласись. Да хотя бы из нашего класса… Вообще из тусовки. Никого благополучного. А ведь были же настоящие… Помнишь Ваньку Бурковского, Шнайдера, Владьку? Блин, Владьку жалко! Он же нам рок открыл, я считаю, вообще людьми нас сделал. И что? Сторчался в семнадцать лет. А Ванька… Они жить не хотели как все, по всем этим законам, поэтому и ушли. Поняли просто – или не жить, или продаться. А ведь такие парни! Помнишь?..
– Да помню я, помню! – не выдержал Чащин. – Но толку-то вспоминать? Многое было, прошло, жалко. И что теперь? Жить надо.
– Эх-хе. – Димыч вздохнул с укором, налил себе водки, выпил в одиночку. – Жить… Только я что-то не ощущаю, что мы живём. Да, жили когда-то, а последние годы… Плющит, с кровати встать невозможно. – И снова посмотрел в глаза Чащину, как-то с мольбой посмотрел. Спросил тихо: – У тебя не так? Денис?
И Чащин не посмел соврать:
– Так. – Но тут же спохватился: – Но это не от каких-то поколенческих дел зависит. Это у всех… Взрослая жизнь началась…
– А смысл? Смысл какой?
Чащин усмехнулся; Димыч сделал вид, что не заметил. Торжественно наполнил рюмки, но пить не предложил. Сказал примирительно:
– Не будем философствовать. Это ничего не даст… У меня к тебе предложение. Ради этого я и приехал… Только ты сразу не отвергай. Подумай. Это очень серьёзно всё. Мы, может, и на свет появились, чтоб… – Уловил, что Чащин опять раздражается, заторопился: – В общем, давай группу возобновим. У меня тут ребята, музыканты отличные…
– Да вы сговорились, что ли?!
– Что? С кем сговорились?
– Нет, так… Всё, я спать пошёл. У меня завтра работа… – Чащин поднялся.
– Погоди, Дэн! Ну присядь, пожалуйста! Ещё пять минут… Если б ты видел, что у меня внутри… Там кипит всё. Я горы свернуть готов… Знаешь, дома как? Мрак полнейший. Конец! Нужно что-то сделать, Дэн, доказать, что мы не биомасса, которую… Попробуем, поиграем, вдруг получится. Да?.. Я тут твой «Джипсон» проверил – в идеальном состоянии… Попробуем, ладно? Пожалуйста, я ведь иначе… Понимаешь, я жить не хочу. Как все последние годы эти – не хочу… Давай наших помянем. – Димыч поднял рюмку. – Ваньку Бурковского, Шнайдера, Янку, Эжена… И Владька, скорей всего, там… Тоже ушёл. И надо доказать нам, пока мы живы, что они не напрасно… не зря… Ладно, Дэн? Договорились? Пожалуйста.
10
Это была одна из их последних общих отвязок. Хотя трудно назвать отвязкой то, что происходило тогда в квартире у Серёги Махно. Просто собрались и то пили, что удавалось найти, совершая короткие вылазки на улицу, то курили слабую, неторкающую траву, а если не было ни алкоголя, ни травы, закидывались димедролом и сидели в комнате по углам – убивали время. Причина убивать его была у каждого. От хозяина квартиры, Серёги, ушла жена с маленьким сыном, подала на развод; Димыч разругался с подругой, а Чащин – с владельцем магазина, в котором работал, из-за того, что владелец, до того стойкий приверженец серьёзной музыки – рока, блюза, авангарда, – заказал большую партию кассет с блатняком… Ещё у одного участника этого времяубивания, Олега, которого все называли Шнайдер, умерла от рака мать, и он остался один; а у самого младшего в компании – у Ваньки Бурковского с погонялом Мышь – с жизнью были вечные нелады.
Ванька занимался всем понемногу – красил картинки, писал статьи и рассказы (кое-что даже появлялось в местных газетах), время от времени играл на барабанах в разных группах, как-то в театральной студии пединститута исполнил роль Серёги Гуревича в «Шагах Командора»; работы Ванька менял чуть ли не ежемесячно – продавал книги с лотка, мясо рубил в «Мясной лавке», сторожил ларьки на рынке, монтировал декорации в филармонии, малевал афиши для театра кукол «Сказка»… Но в основном он бродил по городку, искал, с кем бы выпить и поговорить, обсудить новую книгу Лимонова, новый альбом Летова… У него была странная традиция – как сильно ни напивался, какой интересной ни была бы тусовка, обязательно ночевать дома. Добирался туда хоть на карачках, хоть в два часа ночи, но просыпался в своей кровати. Объяснял это тем, что жалеет маму… Чащин пару раз провожал его до дверей квартиры, видел – Ванькиной маме пьяный до бесчувствия сын доставляет не очень-то много радости. Лучше уж, наверное, приходить утром, просить прощения, а не мычать на пороге и срывать одежду с вешалки…
Чащин хорошо помнил ощущение от той осени девяносто пятого – было ужасно скучно. Скучно всё и везде. Скучно было снова искать место для репетиций группы, скучно было искать нормальное место работы, смотреть телевизор, читать, проявлять знаки внимания к девушкам. Скучно было жить. Вдыхать-выдыхать, совать в рот еду, идти в туалет, просыпаться, заправлять, расправлять постель…
А вокруг бурлило. Разрастались рынки, открывались новые, всё дороже и респектабельнее, кафе, чище и богаче становились магазины, множились состоящие из рекламных объявлений газеты, друзья один за другим бросали «маяться дурью» и начинали обустраивать жизнь, становились взрослыми. У людей появился вкус к деньгам, и денег стало катастрофически не хватать, и если ещё недавно даже малознакомому могли дать в долг (а на самом деле – подарить) пачечку розовых двухсоток, вытащив из кармана, как мешающий мусор, то теперь знали, на что их потратить: вкусное пиво, прикольная бейсболка, пакетик горячей картошки фри…
И общаться с ребятами, с этими последними несдавшимися, тоже было скучно. Уже не о чем стало говорить, нечего планировать, не о чем мечтать. Всё то, чем жили последние годы, никак не становилось реальностью, бесконечная цепь обломов лишила сил и веры, что впереди настоящее может всё-таки получиться. Они сидели молча, на полу, положив головы на колени, или же вяло переругивались, стебались, хаяли за глаза вчерашних друзей, ставших примерными, благополучными. Иногда кто-нибудь замечал карты и предлагал сыграть, и несколько часов подряд они яростно рубились в дурака, каждый за себя, а потом так же резко бросали, расползались по своим углам, скрючивались, клали головы на колени и ждали-ждали, что вот сейчас в дверь позвонят и войдёт кто-нибудь с пакетом вина, вкусной закуской. И, случалось, эти ожидания оправдывались, заглядывали даже девушки, осторожно и опасливо садились на диван, сочувствующе-брезгливо наблюдали, как последние в городке неформалы, рок-музыканты, среди которых есть даже те, кто видел живьём Виктора Цоя, жадно распивают принесённую ими бутылку, а потом включают магнитофон, ложатся на пол. И сквозь похмельную дрёму слушают, втягивают, как воздух:
И теперь, десять лет спустя, Чащин казался себе тогдашний умирающим, разлагающимся стариком. Впереди была тьма, Серегина квартира стала склепом, и если бы не то, что случилось с Ванькой-Мышом, они, наверное, действительно умерли бы все. Кто-то должен был остановить их медленную общую гибель, быстро погибнув сам. Двадцатилетний Ванька оказался самым смелым. И честным.
В то утро он заявился особенно рано – часов в восемь, – хотя накануне удалось прилично напиться. Бодрый, улыбающийся; быстро прошёл на кухню, огляделся, пропел:
– Я вернулся сюда, а здесь уже музей. – Растолкал спящего на полу возле холодильника Чащина: – Дэн, пойдём бутылки сдадим.
Складывали их в большую тряпичную сумку, а когда та заполнилась, стали собирать в футляр от гитары.
– У меня идея мощная появилась, – говорил Мышь по дороге к пункту приёма стеклотары. – Как раз погода нормальная. Сейчас сдадим, купим водочки…
– Оригинально, – кисло хмыкнул болеющий с похмелья Чащин.
– Подожди-и! Выпьем, зарядимся и кое-что сделаем… Я давно собирался.
Сдали бутылки благополучно, купили три поллитровки «цыганки» – разбавленного градусов до тридцати спирта – в кривоватом домике в частном секторе. Потом направились, к удивлению Чащина, не обратно к Серёге Махно, а к Мышу. Его матери дома не было, наверно, ушла на работу; Ванька вынес свои картинки.
– Хватай, сколько сможешь.
Чащин давно не видел его таким деятельным и увлечённым и был рад этому. Но и что-то сумасшедшее появилось в мышовском взгляде, улыбке, в пританцовывающей походке, нетерпеливых движениях…
Подняли Серёгу, Димыча и Шнайдера, выпили почти не хмелящей «цыганки». Ванька стал объяснять:
– У меня такой план на день. Берём эти хреновины, – с показной небрежностью кивнул на картины, – и идём в «Жарки», попытаемся их пристроить.
– Да ну, – отмахнулся Махно. – Ты серьёзно вообще?
«Жарки» были единственным и довольно респектабельным художественным салоном их городка. Местных художников, даже известных, там выставляли очень неохотно. Не говоря уж о таких, как Мышь…
– А что? – искренне удивился он. – Пора действовать. Тем более – это не бессмысленные пейзажи, натюрморты.
– Попробовать можно, под лежачий камень вода не течёт, – поддержал Шнайдер, вечный бездельник, но парень начитанный, любящий поговорить о высоких вещах, непременный участник всяческих рискованных мероприятий, которые он называл акциями; и в итоге во время одной их них, в драке с китайскими торговцами на городском рынке, кто-то разбил ему голову железным прутом…
– Ну! – Мышь, почувствовав поддержку, воспрял. – Допиваем – и двигаем!
И Махно, быстро подавив сомнение, стал подсчитывать:
– Так, полотна больше семидесяти на пятьдесят оценим в лимон… нет, лучше в восемьсот тыщ… лимон – пугающая цифра… А поменьше – в шестьсот. Если будут покупать хотя бы по одной в неделю…
Появление компании встревожило персонал «Жарков». Охранник поднялся со стула. Продавщицы – одна молоденькая, похожая на неопытную экскурсоводшу, другая в годах, но молодящаяся – нахмурились.
– Добрый день! – почти вскричал Мышь, широко улыбаясь.
Молоденькая кивнула в ответ и улыбнулась коротко, заученно-вежливо. А та, что постарше, сдвинула брови ещё сильнее. Спросила:
– Что желаете? – В голосе тревожное удивление, ни грамма любезности; да и какая любезность к пяти как попало одетым молодым алкашам, вдобавок нагруженным непонятными размалёванными фанерками и холстами…
– Что желаем? – переспросил Мышь уже деловитым тоном. – Желаем сдать для выставки-продажи вот эти произведения. – И положил на стекло прилавка те картины, что держал в руках.
Минуты две продавщицы непонимающе смотрели на них. На одной – ряды бетонных, с ржавыми воротами, гаражей, на не убитых колёсами и маслом клочках земли желтеют одуванчики, на другой – полутёмная лестница и наклеенные на холст маски из папье-маше, на третьей полуразрушенная кочегарка в виде руин средневекового замка, на четвёртой натюрморт – роза, вставленная в бутылку из-под «Русской»… И по технике, и по сюжетам совсем не то, что висело на стенах «Жарков». На стенах – прекрасные виды сибирской тайги, задумчивых горных озёр с непугаными гусями, садовые цветы в вазах; самое смелое – фантазии на темы наскальной живописи местных членов Союза художников Капелько и Ковригина или откровенный кубизм Смертенюка.
– Гм, – растерянно взглянула наконец на Мыша молодая. – Вы это серьёзно?
– А как же! Что здесь необычного? Автор принёс свои работы…
Серёга, Шнайдер, Димыч и Чащин стояли позади Мыша и держали картины изображением к женщинам, а за их спинами нервно переступал с ноги на ногу охранник, готовый при первом же признаке скандала вступить в борьбу.
– Ну так как? – теряя терпение и потому наглея, спросил Мышь. – Куда? – Оглядел плотно занятые картинами и гобеленами, всяческой бижутерией стены, заметил полосу, высотой с метр, возле пола. – Вот есть свободное место. Очень удобно. – И улыбнулся неожиданно совсем по-детски, обезоруживающе чисто. – Давайте? Можно? Недели на две…
– Да вы что?! – встрепенулась пожилая продавщица. – Издеваетесь?
Серёга пихнул Чащина углом подрамника:
– Я ж говорил – чушь. Надо было сидеть и пить… Зачем-то выползли.
А Мышь, уверенно и не спеша, оценивающе кривя шею, подошёл к стене и стал расставлять картины вдоль плинтуса.
– Вы их бросаете? – вроде бы даже с сочувствием спросила молодая.
– Я их выставляю. Здесь они будут ждать покупателя. Ребята, давайте.
– Извините, но мы будем вынуждены удалить это за пределы салона!
И тут охранник, поняв, что пора действовать, взял одну из картин, сунул её обратно в руки Мышу:
– Хорэ. Вам ясно сказали. Очистите…
Мышь скакнул в центр зала, постоял, словно выбирая, что делать дальше, и швырнул своё детище на пол.
– Всё! Всё, бля, уезжаю! Не могу больше, всё! В Омск! В Норильск! Заебало…
Выскочил из «Жарков» и исчез. На квартиру Махно больше не приходил, на телефонные звонки не отвечал.
А через два дня пришёл бывший трэшер, а теперь продавец игрушек на рынке, Вовка, когда-то звавшийся Каркасом, сообщил:
– Ванька умер, – полез дрожащей рукой за сигаретами.
…Знакомые Мыша сидели в большой беседке на территории детского сада. Старались вести себя тихо, чтобы сторож не выгнал. Идти больше было некуда, а место удобное – мышовская четырехэтажка через улицу. И не так холодно под какой-никакой, но всё-таки крышей.
В основном парни – Джин, Сид, Мочегон, – девушек в их тусовке никогда не было много, да и те, что отваживались с ними какое-то время дружить, повыходили замуж, одомашнились. Но вот, заметил Чащин, Лена Монолог, некрасивая, но душевная девушка, фанатка «Калинова моста» и Джима Моррисона, обычно неостановимая говорунья; а в стороне от всех скрючилась на скамейке и плакала Юля, которую Мышь долго и почти безответно (с её стороны иногда – то ли симпатия, то ли жалость) любил. Плакала она то тихо, почти неслышно, то завывая, задыхаясь от рыданий.
Пришедшим налили по полстакана портвейна. Выпили молча – любые слова казались не теми, не настоящими. Не знали ещё, как вести себя, когда кто-то умирает, тем более не старый, а кто младше многих из них, с кем совсем недавно разговаривали о важном, звонко чокались, с кем, казалось, они долго-долго будут вместе мучиться в этом родном, но ненавистном городишке. И вот вдруг этого человека не стало.
Сели к остальным, закурили. Вздыхали, горестно покачивали головами, разливали в пластиковые стаканчики дешёвое невкусное вино и глотали его, судорожно двигая кадыками… Иногда прибредал новый, шёпотом спрашивал:
– Что, были там?
И кто-нибудь один за всех отвечал:
– Нет, не можем… Да и… там же мать его. Ещё набросится.
Пока шли сюда, Каркас рассказал, что Мышь задушился телефонным шнуром, сидя в кресле в своей комнате. Не повесился, а задушился… Вот так, среди знакомых с детства вещей, тянуть шнур руками в разные стороны. Десять секунд, двадцать. И не испугаться, не передумать… Похороны завтра… Уже появилась легенда – перед смертью он разговаривал с Юлей. Её и обвиняли: довела, дескать. И прозвище-ярлык успели пришлёпнуть – Мышеловка.
– Из-за неё всё, тварюги, – тихо говорил амбалистого сложения гитарист по кличке Вэй. – Мозги ему петрушила запостой, вот он и сделал.
– Ну откуда ты знаешь? – устало поморщилась Лена Монолог.
– Знаю. И все знают.
– Здесь сложная ситуация, – сказал Димыч, принимая очередной стакан. – Нельзя её одну винить.
– Можно, – настаивал Вэй. – Виновата, что дёргала его: то «да», а через день – бац! – уже «нет». При таком раскладе любой в петлю залезет.
– У него запои какие были, по два месяца, по три. Как ей – «да»? Сами знаете, каким он в запоях был.
– А мозги все равно нечего было петрушить!..
На приставленных один к другому ящиках из-под газировки, заменяющих стол, – несколько бутылок вина, бутылка водки, куски хлеба, солёные огурцы в целлофановом мешочке.
– Ванька бы сейчас порадовался, – кивнул на бутылки Шнайдер. – Столько бухла, закуска. В последнее время туговато стало у нас с этим делом…
Появилась высокая красивая женщина в дорогой длинной шубе. Именно – женщина, не тусовочная герла. Чащин встречал её, но сейчас не мог вспомнить где. В руках держала пачку отксерокопированных фотографий Мыша. Стала раздавать их, словно листовки. Чащин тоже взял, долго разглядывал расплывчатое изображение знакомого лица. Одутловатое, толстогубое, с широкими линиями бровей; волосы на копии стали чёрными густыми волнами, будто нарисованные углём. Лишь глаза вышли более-менее чётко – задумчиво-грустные, трезво, мудро даже, они в упор смотрели на Чащина… Да, как бы Мышь ни напивался, глаза у него не менялись, всегда оставались трезвыми. Или это теперь так вспоминалось?..
– Денис, – позвала Чащина Монолог, – можно тебя?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































