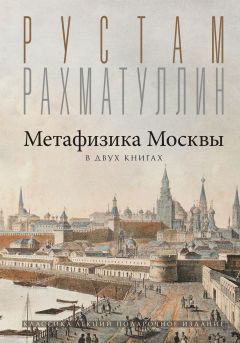
Автор книги: Рустам Рахматуллин
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Галата
Морской пейзаж Константинополя трудно вместить в речной, континентальный пейзаж Москвы. Несовпадение масштабов и количества воды мешает видеть сходство принципа. Однако принцип сходен.
Как мысовому треугольному Кремлю – Арбат, так мысовому треугольному Царьграду противолежит Галата, пригород за водным пограничьем Золотого Рога. Как Неглинная в Москву-реку, – Золотой Рог течет в Босфор. И как Арбат, Галата есть пригород за меньшей водой. Ландшафт, готовый к царским бегствам и другим трагическим делениям.

Константинополь на гравюре К. Буондельмонти. 1422. Прорись. В северной части города, за Золотым Рогом, – Галата
Изгнавший крестоносцев император Михаил VIII Палеолог отдал Галату генуэзцам, своим союзникам, за выход из латинской коалиции. С тех пор Галата есть иное города, его Арбат. Последствие победы над Латинской империей, как называлась крестоносная империя на месте православной, Галата удержала на Босфоре католическое знамя, поскольку Генуя взяла от Михаила суверенитет над византийской экономикой.
Через сто лет, в очередную династическую и гражданскую войну, Галата приютила ставленника генуэзцев Андроника IV, оставившего город Иоанну V.

Осада Константинополя турками в 1453 году. Книжная миниатюра. XV век. Слева, за Золотым Рогом, – Галата
Галата и в Стамбуле остается вестерном. Архитектурно это всякая Европа, здесь и ее посольства (ныне консульства). Из-за Галаты наступают небоскребы.
Попятная Энеида
Отыскание Константинополя в Москве осложнено тем обстоятельством, что сам он был архетипическим примером царского побега и переоснования столицы. Драматическая диалектика Москвы как Рима в том, что Риму полагается Константинополь – отрицание. Царское бегство. Константинополь одновременно внутри и вне Москвы. На берегах Неглинной – и на берегах Невы.
Если правда, что в константиновом искании столицы городку Виза́нтию предшествовала Троя, Илион, – то бегство Константина было попятной Энеидой. Он искал вернуться в точку исхождения имперской власти. Ей, воцерковлявшейся, менявшей санкцию, вновь предстояло овладеть пространством собственной Империи.
Попятным ходом русской Энеиды были опричнина Ивана, Яуза и Петербург Петра. Они, как к русскому Энею, возвращались к Рюрику и ранне-княжескому типу власти. В разгроме Новгорода Грозным Энеида на возврате стала Илиадой.
Жертва царевича
Как Константин бежал из Рима на Босфор, Петр из Москвы бежал на Яузу, позднее в Петербург. Беглец осознавал и культивировал это подобие: Великий Константин есть непременная фигура апологетики и эмблематики Петра. Царевич Алексей убит Петром по знаменитому примеру Константина, убившего царевича Криспа (исследование Марии Плюхановой).
О казни Криспа помнил также Грозный: «Вспомяни же и в царех великого Константина, – писал он Курбскому: – како, царствия ради, сына своего, рожденного от себе, убил есть!» Цитируется Символ веры: царь уподоблен Богу Отцу, отдавшему Сына в жертву. Отсюда шаг до царского безумия, если, конечно, он уже не сделан. По мысли Александра Панченко, сыноубийство Грозного не столь нечаянно, как кажется: ад слышал эти царские слова.
Из лет, предшествовавших катастрофе, дошел народно-песенный рассказ «О гневе Грозного на сына» – о смертном приговоре, вынесенном царевичу отцом. И даже разным царевичам в различных записях сказания.
В каждой редакции дядя царевича, боярин Никита Романович Захарьин-Юрьев, кем-либо подменяет племянника на плахе (в одном из вариантов – самим Малютой) и наутро предъявляет безутешному царю живого сына. Выбирая за такое своеволие награду, Никита Романович, согласно одному из списков песни, просит дать ему «прощеную слободу». В имени слободы запечатлелась народная мысль об опричнине как об уделе избранных, прощенных на страшном царском суде.
Глава VI. Москва – ИерусалимАрбат и Арбатец
Реконструируя метафизический посыл опричнины, Андрей Юрганов обратил внимание на 45-ю главу из Книги пророка Иезекииля:
«Когда будете по жребию делить землю на уделы, тогда отделите священный участок Господу <…>; да будет свято это место во всем объеме своем, кругом. <…> И во владение городу дайте <…>, против священного места, отделенного Господу; это принадлежать должно всему дому Израилеву. И князю дайте долю по ту и другую сторону, как подле священного места, отделенного Господу, так и подле городского владения, к западу с западной стороны и к востоку с восточной стороны <…> Это его земля, его владение в Израиле, чтобы князья Мои вперед не теснили народа Моего, и чтобы предоставили землю дому Израилеву по коленам его» (Иез. 45: 1, 6–8).
Юрганов видит этот текст осуществленным в истории Москвы. Место для Господа отождествляется с Кремлем, владение народа или города – с Большим посадом (Китай-городом), а доля князя (князя, не царя!) – с арбатским западом и с яузским востоком.

Воронцово (Малый Арбатец) на панораме Москвы П. Пикарта. 1707. Фрагмент. На вершине холма (справа) выделяется, предположительно, церковь Благовещения (Ильи Пророка)
Действительно, в московскую опричнину вошли, кроме Арбата, Воронцовский царский дом и его слободы на нижней Яузе. Это пространство за Покровским и Яузским бульварами, на стержне Воронцова Поля – улицы к былому царскому дворцу, и несколько за Яузу.
Другой путь ко дворцу остался переулком, некогда носившим имя Малый Арбатец (ныне Дурасовский). Предположение в копилку академического знания: «Малый Арбатец» означает малую, кроме Арбата, опричнину.
Земщина вернулась в Воронцово с Ополчением 1611 года. Его вожди Прокофий Ляпунов, Иван Заруцкий и князь Димитрий Трубецкой встали за Белым городом, один у Яузских ворот, а двое – против Воронцова поля. Не очень ясно, где эти «у» и «против», но известно, что Ляпунов, убитый казаками в ополченских таборах, был погребен при церкви Благовещения в Воронцове, некогда дворцовой.
Так ландшафтная способность Малого Арбатца противостоять Кремлю была востребована для изгнания поляков. А Второе ополчение использует для этого Арбат.
…Устройство будущего Иерусалима, открывшееся Иезекиилю, иерархично: две доли князя уравновешивают и возносят место Господа, Его святилища. Княжьи места – только предместья этого святилища.
Значит ли это, что Иван, впадая в историческое прошлое, впадал и в профетическое будущее, в послевременье? Что прибегал к архаике для новизны? Что умалял, развенчивал себя во князи в скором присутствии Царя царей, Которому и оставлял святилище Кремля?
Тогда Опричный двор и образный его преемник дом Пашкова, оставляя Кремль, определяют его именно святилищем, местом Царя царей.
Если опричный царь действительно руководился Книгой Иезекииля (что, по Юрганову, отобразилось и во внутреннем устройстве Опричного двора), то отношение Ивана ко Кремлю оказывается по крайней мере двойственным. Сложнейшим, чем позднее у Петра. Как дом Пашкова и как самый холм Арбата, опричнина поставлена предпочитать между борьбой с Кремлем и дополнительностью ко Кремлю. Иван хотя бы внешне затруднялся предпочтением; отсюда постановка с верховенством Симеона и превознесением Кремля.
Петр одолеет это затруднение и внутренне, и внешне. Настолько, что даже «кесарь» Ромодановский, сей новый Симеон, переберется из Кремля на Яузу, парадоксально сочетав обязанности подставного земского царя с обязанностями Малюты.
Средняя Яуза Петра преемственна от нижней Яузы Ивана, Малого Арбатца. Петр со своими резиденциями отступает вверх по Яузе, поскольку город наступает: Воронцово после Грозного лишается дворца и частью входит в очерк новых стен Москвы. На средней Яузе Петр сохраняет формулу опричнины как загорода против земщины как города.
Дворец Ирода
Если видение пророка Иезекииля отражено в строении и зрелище Москвы, тем более отражено в них устроение и зрелище земного Иерусалима. Это зрелище преломлено через кристалл Пашкова дома.
«На закате солнца высоко над городом на каменной террасе одного из самых красивых зданий в Москве, здания, построенного около полутораста лет назад, находились двое…»
Прервем цитату, чтобы лишний раз не называть имен двоих: героика злорадного романа «Мастер и Маргарита», увы, темна. Однако сам роман необходим и неминуем в разработке нашей темы. Не как беллетристика, но как метафизическая интуиция о городе. Роман Булгакова есть наблюдение Москвы как Иерусалима на архитектурном материале Нового времени.
Две реплики на крыше – вопрос: «Какой интересный город, не правда ли?» и ответ: «Мессир, мне больше нравится Рим» – комментирует Михаил Алленов:
«…Установлена сопоставимость Рима и этого «интересного города». <Но> равновеликий Риму не-Рим в историко-культурных параметрах есть центр не земного, а духовного владычества – Иерусалим… Известный бином политической мифологии «Москва – Третий Рим», он же «Второй Иерусалим», перенесен в сталинскую империю и связан с современной Москвой». «Зеркальное подобие Москвы и Ершалаима текстуально выявлено с самого начала. Тогда как римская ипостась этого подобия выговорена лишь в развязке. Простая фраза Азазелло, произнесенная с высоты Пашкова дома, разворачивает образ этого двуединства совершенно тем же способом, как это делает баженовский шедевр». Поскольку выбором архитектурных средств «…Баженов локализовал римское присутствие именно здесь, рядом, но за пределами Кремля. Тем самым он произвел операцию вычитания из Третьего Рима, он же Второй Иерусалим, собственно римского, романского компонента, указав, следовательно, на Кремль как на не-Рим, но затронутый в окрестностях римской экспансией. Он создал таким образом точку, где Москва предстает как одна из экзотических провинций Римской империи, вроде той, какой некогда был Иерусалим…»
С минутной стилизацией антично-римского воззрения, в котором средоточие Земли низведено на степень экзотической провинции, соседствует у Алленова постановка Иерусалима и Москвы превыше Рима: «Конфессиональный аспект идеи «Москва – Третий Рим» <…> – это Москва как центр подлинной святости, впервые воссиявшей не в Риме, а в Иерусалиме».
Среди зеркальных подобий Ершалаима и Москвы Булгаков выстроил подобие между Пашковым домом и романной резиденцией Пилата – бывшим дворцом Ирода Великого. С балкона дворца Пилат, с крыши Пашкова дома Воланд наблюдают приближение грозовой тьмы от запада. Гроза застает обоих на тех же местах. С тех же мест оба следят закат в зеркале стен и окон города. Обоим там и здесь является Левий Матвей. Словом, параллельный чертежный перенос.
Несколько линий переноса текстуально не проявлены, но очевидны всякому знакомому со зрелищем Москвы, именно Боровицкой площади. Храм за стеной на восточном холме (Второй, на месте Храма Соломонова) – и «противостоящий храму на западном холме дворец Ирода» с колоннадами и статуями, с помещенным в него прокуратором. Дворец обращен к Храму балконом с колоннадой. На городскую площадь и к ристалищу в долине междухолмия (Тиропеонской долине в Иерусалиме) Пилат спускается по лестнице на склоне сада. (Лестница на склоне перед Пашковым домом появилась при Булгакове, в 1930-е. Тогда же уничтожена ограда парка вдоль Моховой.)
Западным холмом в романе именуется гора Сион, восточным – Храмовая гора. Противостояние дворца и храма зрительно преувеличено: подлинный Иродов дворец был отдален от первой террасы холма. В романе он приближен к междухолмию словно под впечатлением московского пейзажа. Булгаков вчитывал один пейзаж в другой.
Согласно Иоанну, Христа повели к Пилату в римскую преторию (Ин., 18:28). По Матфею, взяли от Пилата в преторию на бичевание (Мф., 27:27). Претория в традиции отождествляется с Антонией (Антониевой башней). Именно Антония служила цитаделью римского имперского присутствия. Но место этой цитадели – к северо-западу от Храма, на продолжении его платформы, на выступе скалы. Рядом предание располагает дом Пилата, и отсюда начинается счет стадий Крестного пути.

Д. Робертс. Иерусалим. (Цитадель с городской стороны.) 1839. Справа в глубине – храм Гроба Господня

Иерусалим. План XVII века, исполненный в Амстердаме. Британская библиотека. План ориентирован на запад. Вид от Елеона. Внизу – Иосафатова долина с потоком Кедрон. За Золотыми воротами, к которым ведет дорога от моста, – Храмовый двор с мечетью Купол Скалы на месте Второго Храма. Левее (южнее) Храмового двора – опустевший холм Офель с выходами подземелий города Давидова. В центре выделяется храм Гроба Господня на вошедшей в городскую черту Голгофе. В линии западной (дальней) стены – Цитадель (Башня Давида). Левее (к югу от нее), в особой ограде, – Сионская Горница
Счет осложняется тем обстоятельством, что прокуратор отсылал Иисуса к Ироду (тетрарху Ироду Антипе, сыну Ирода Великого), от которого Тот потерпел насмешки и уничижение (Лк., 23: 7–11).
Сказать, что поселив Пилата на западном холме, Булгаков перепутал место, значит не сказать, что он сначала перепутал, подменил Христа. Только Булгаков знал, где именно Пилат беседовал с Иешуа Га-Ноцри, отвечающим на «Что такое Истина?» словами «Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова…»
Но интуиция Булгакова о римской ипостаси Иродова дворца точна. Иродианскую династию поставил в Иудее Рим. Один из корпусов дворца Ирод Великий назвал Цезарионом в честь Октавиана. Дворец на западном холме яснее противостоит восточному холму, чем римская Антония, которая есть только прибавление восточного холма. Антония, напротив, послужила цитаделью Иерусалима против Тита.
Иродов дворец и дом Пашкова суть знаки римского начала против Иерусалима и Москвы. Однако дом-дворец не вычитается из этих городов, как внешний знак, а пребывает в них как внутренний знак внешнего. Как обернувшаяся в город цитадель.
Дворец на западном холме, по версии Булгакова, есть образ овладения скорее чем владения по праву. Прислонясь ко внешней ограде Иерусалима, дворец глядит фасадом и заставкой географического запада и Западной империи, заморской власти. Можно сказать: фасадом моря, поскольку словом «море» нарицался запад, как в Книге Иезекииля. Что тьма от запада и тьма от моря – одна и та же тьма, Булгаков знал.
Граница Рима с Иерусалимом у Булгакова проходит через Иерусалим, Рима с Москвой – через Москву.
Место Давидово
Иерусалимская традиция считает Иродов дворец на западном холме древнейшим царским местом. Цитадель, оборонявшая и город, и дворец, как камень в перстень вправленная в городскую стену, слывет Башней Давидовой. На деле башен в Цитадели семь, Ирод построил три из них. Южнее Цитадели, также на Сионе, чтут Давидову могилу.
Отдавая Иродово Давиду, традиция, по сути, доверяет поздней Цитадели роль библейской крепости Сион, иначе города Давидова, первоначального Иерусалима. Ирод и Давид суть имена иерусалимской цитадели, обращенные внутрь и вовне. Давид как будто обращает цитадель к защите города, а Ирод – против города.
Библейский, подлинный город Давидов занимает иное место – южный мысовой отрог восточной, Храмовой горы, Офель (Офел). Имя Сион ушло с восточного холма на западный не позже I столетия от Рождества Христова. Иосиф Флавий называет его так в 70-х.
На склоне нового Сиона помещался Верхний город, облюбованный аристократией. Это была эллинизированная среда, наследница культуры македонского завоевания, господства Птолемеев и Селевкидов. Уже в этом смысле верхний город был Арбатом Иерусалима. Именно его венчали Иродов дворец и Цитадель.
Римляне Тита пощадили в Верхнем городе лишь Цитадель, расположив в ней новый лагерь. В восточной половине города были разрушены Антония и самый Храм.
Восточный холм, Храмовая гора, отождествляется, конечно, с Соломоном. Его дворец также стоял на Храмовой горе.
В новозаветной иерусалимской топографии Давид и Соломон яснее представляются на двух холмах, чтоб не сказать: как два холма. С восточного холма на западный яснее, чем ступенями восточного холма, видится перенос Ковчега из Скинии Давида в Храм.
Или Давид, словно согласный с Иезекиилем, уходит с восточного холма как места Бога, у Которого он только князь?
Иносказуя Иродов дворец, московский дом Пашкова по определению, во всяком случае булгаковскому, означает Башню Давида (Цитадель). Дому идет имя Давид.

Д. Робертс. Цитадель Иерусалима с внешней стороны стен, Башня Давида. 1839
Начальные холмы Москвы, восточный Боровицкий и западный Ваганьковский, спорят, как иерусалимские холмы об имени Давида. Оба спора – о начальном месте города. Оба – о царском месте. Оба – между городом и замком.
Иерусалим и Рим сличаются холмами цитаделей, холмами знати. Напрямую – и через сличение с Ваганьковским холмом Москвы. Башня Давида – иерусалимский Капитолий.
Вселенское и местное
В разнообразно разделенном Иерусалиме, городе на строгом юге; в этом средокрестии Земли, где сходятся все доли мира, Булгаков усмотрел границу Запада с Востоком. Римской метрополии – с равновеликой ей в духовном измерении провинцией. Языческого Запада, заката, моря – с Востоком Ближним, горячей сушей единобожия в канун восхода христианства.
Однако не восточная, а западная половина Иерусалима, где Голгофа и Сион с Сионской горницей, стала и остается христианской. (С особым выделением армянской четверти.) Восточная же половина с Храмовой горой стала на четверть иудейской, на другую четверть – мусульманской.
Христианский универсализм воспользовался римским. Провиденциальность Рима, приготовившего мир для проповеди Нового Завета, сознавалась проповедниками уже в первые века от Рождества Христова, много раньше Константина. Святой Григорий Богослов учил, что «…Государство христиан и Римское государство выросли одновременно, и Римское превосходство зародилось с пребыванием Христа на земле, а до этого оно никогда не достигало монархического совершенства». «Рах romana создал не Август, а Христос», – формулирует, ссылаясь на святого Григория, Иоанн Мейендорф.
Не слишком погрешая против строгой географии и точно следуя метафизической, Булгаков пропускает иерусалимский мировой меридиан через Москву, город на севере.
Москве как христианке трудно строить отношение вселенского и местного между своими старшими холмами. Конечно, дом Пашкова, нарядившись романо-европейцем, думает сказать, что Кремль наряжен слишком местно. Однако Кремль со времени Ивана III есть Рим; душа его соборов найдена однажды итальянско-русской.
Напротив, дом Пашкова произрос на почве самой местной – почве княжеской, опричной собственности, государева удела.
Всякая опричнина, лучше сказать опричность, как опыт переоснования, трансляции столицы, строит оппозицию вселенского и местного. Неявный в грозненском побеге (церковь Петра и Павла Опричного двора), вселенский вектор явно вычерчен в петровском, петербургском бегстве. И в павловском, как русское мальтийство, проект соединения церквей под властью императора России.
Глава VII. Лица и жестыКоролевский жест
В 1818 году прусский король Фридрих Вильгельм, «этот деревянный человек», поднялся с сыновьями на высоту Пашкова дома, восстановленного после 1812 года, опустился на колени и со словами «Вот она, наша спасительница» сделал три земных поклона погорелой Москве.

Н. С. Матвеев. Король Прусский Фридрих Вильгельм III с сыновьями благодарит Москву за спасение его государства. 1896. ГТГ
Зная об этом эпизоде, философ Николай Федоров, четверть столетия работавший под той же крышей чиновником Румянцевской библиотеки, предлагал установить на высоте Пашкова дома памятник коленопреклоненному монарху.
Король на крыше, его жест по-новому одушевляют архитектурную жестикуляцию Пашкова дома. Дом и сам есть жест – или, как ясно, два переменно противоположных жеста, фронды и смирения, но неизменно царственных. Жесты вращающейся цитадели.
Химера «Гоголь»
Король и принцы – первые, но не последние в ряду фигур, являвшихся на крыше дома. Фигура короля, казалось бы ампирная, как восстановленный после пожара 1812 года бельведер, на высоте классического дома претерпевает странную метаморфозу: восходит в романтический регистр. Другой такой фигурой станет Гоголь, с высоты Пашкова дома, в сущности, простившийся с Москвой.
Вечером 22 августа 1851 года в бельведере находились несколько: Гоголь, Погодин, Снегирев… Под крышей дома располагалась 4-я Мужская гимназия, а в ней учительствовал некто Шестаков, оставивший воспоминание:
«Помню, как он (Гоголь. – Авт.), долго любуясь на расстилавшуюся под его ногами грандиозно освещенную нашу матушку Москву, задумчиво произнес: «Как это зрелище напоминает мне вечный город»».
Перекличка сцен и реплик столь разительна, что впору предположить знакомство Булгакова с воспоминаниями Шестакова, опубликованными в 1891 году.
Но если верно, что Булгаков, выговаривая тождество Ершалаима и Москвы, растождествляет Москву и Рим, – то это возражение на Гоголя, на его мнение, произнесенное с той же возвышенной трибуны.
На этой высоте фигура Гоголя так неожиданно уместна. Плащ романтика и знаменитый птичий силуэт, готическая химеричность Гоголя на балюстраде классического дома так же органичны, как античные фигуры в колоннаде.
Другой раз Гоголь говорил известному мемуаристу предпринимателю Чижову: «Кто сильно вжился в жизнь римскую, тому после Рима только Москва и может нравиться».
Казалось бы, фигура Гоголя, даже изваянная для Арбатской площади, чужда Арбату как холму интеллигентской фронды, индивидуализма, парадоксально сбитого в кружки, личного творчества и личного счастья творящих. Гоголь лоялен, беспартиен, несчастливо одинок, пишет совершенно не интеллигентскую утопию, и в очаге его сгорает творчество.
Однако всем иным частям Москвы Гоголь предпочитал для жизни и предпочел для смерти именно Арбат. Арбат с центром на соименной площади, возле которой, в приходе церкви Симеона Столпника, его последний адрес. Арбат с периферией Девичьего Поля, где Николай Васильевич бывал и останавливался у Погодина; где в церкви Саввы Освященного он причащался.
Гоголь, как прежде Фридрих Прусский, одушевил способность Пашкова дома быть фигурой замирения Арбата и Кремля. Фигура Гоголя выводит дом из фронды. Даже сатире Гоголя дух фронды вчуже; тем она и выше иных сатир. Слывя сатириком, Гоголь, конечно же, поэт – пара царю. Пара, удостоверенная тезоименитством. Между Николаями, поэтом и царем, нет электричества, какое было между Александрами, поэтом и царем; какое оставалось между Пушкиным и Николаем, вряд ли парными друг другу.
Иллюминация Москвы, которую смотрел из бельведера Гоголь, приурочивалась к четвертьвековому сроку николаевского царствования. Царь пребывал в Москве. Как пишет комментатор, Гоголь в этот час не мог не вспомнить пребывание царя шестью годами раньше в Риме, и тоже на его глазах.
Арбат посредством Гоголя пытается преодолеть себя, коль скоро Гоголь ставит на себе опыт преодоления интеллигенции. Живая проповедь, Гоголь нарочно подвизается в Арбате.
Есть Арбат славянофилов, которые сопровождали Гоголя на крышу и которые записаны в интеллигенцию лишь потому, что составляют полемическую пару западникам. Да, две партии заспорили над телом Гоголя (не умещавшегося в партии при жизни и не уместившегося после смерти) о месте отпевания; но если западники указали на Татьянинскую церковь Университета по соображениям действительно партийным и фрондерским, то славянофилы предпочли бы Симеоновскую церковь только как приходскую покойного.
Славянофилы, как и Гоголь, ставят опыт одоления Арбата, но парадоксально встроенный во встречный опыт нового, после опричнины, обособления, интеллигентской мифологизации, вестернизации Арбата.
Славянофилы и западники олицетворяют две стратегии Арбата как предместного холма: быть подле или против царского холма Кремля. Два положения предместной цитадели.
Александр и Николай
Зрелище замирения является смотрящему с моста через Москву-реку. Здесь видно больше города, всё говорит со всем. Виден Большой дворец в Кремле, постройка Николая I, от Боровицкой площади едва заметный, не смотрящий на нее. Здесь дом Пашкова заговаривает с ним.
О том, что уступает место. Как классицизм и Александр I – романтизму и Николаю I. Русский Давид, по слову митрополита Филарета, – русскому Соломону.

Круговая панорама Москвы с храма Христа Спасителя. Фототипия «Шерер, Набгольц и Ко». 1867. Фрагмент. Слева – дом Пашкова. Справа – Кремль и Большой Кремлевский дворец
Жест отступа и замещения организует сцену с двумя дворцами. Если в неглименской долине, на Боровицкой площади, высокая стена Кремля и дом Пашкова образуют пару в самом деле полемическую, то развернутый к Москве-реке Большой дворец определенно равнодушен к своему сопернику. Теперь и дом Пашкова развернулся на реку из глубины второго плана. Уходит фронда, возникает дополнительность на отступе. Оборотилась цитадель.
Так отступил дворянский век. Так отступил и Александр Благословенный, по преданию, отдавший власть.
Федор Кузьмич
Не этот ли уход царя пресек дурную бесконечность провокационных бегств властителей? Федор Кузьмич – не искупление ли Иванца Московского? Александр не шутил с уходом, уходил не на Арбат. Не взял с собою власти, не думал посмотреть, что выйдет из его ухода. Мнимая смерть его, конечно, спровоцировала возмущение 14 декабря, но спровоцировала бы и настоящая. После ухода Александра русская столичность изготовилась вернуться по наведенным Николаем рельсам, изживать бегство Петра. Тем часом из Москвы ушла дворянская «республика», и недворянской сделалась империя.
Сегодня сам дворец в Кремле служит разительным свидетельством ухода, отсутствия царя вообще: официальный злато-белый фасад чернеет окнами. Такой вот триколор. Уход Николая II, царя, который мыслил уйти как Александр, из тоже-человека стал слишком человеком, «гражданином Романовым», и в этом качестве погиб.









































