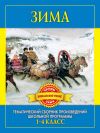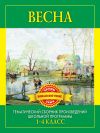Текст книги "Родной край. Произведения русских писателей о Родине"
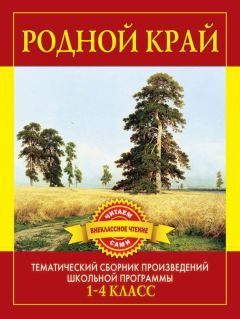
Автор книги: С. Дмитренко
Жанр: Детские стихи, Детские книги
Возрастные ограничения: +6
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 2 страниц)
Дмитрий Мамин-Сибиряк
На реке Чусовой
(в сокращении)
По западному склону Уральских гор сбегает много горных рек и речонок, которые составляют главные питательные ветки бассейна многоводной реки Камы. Между ними, без сомнения, по оригинальности и красоте первое место принадлежит реке Чусовой, которая прорыла своё каменистое ложе сквозь скалы и горы на расстоянии нескольких сотен вёрст. Эта горная красавица представляет для судоходства почти непреодолимые препятствия, и поэтому нам особенно интересно познакомиться с тем, как преодолевает это препятствие простой русский мужик, даже не знающий грамоты. Своё начало Чусовая берёт немного южнее Екатеринбурга, сначала течёт на север, а потом медленно поворачивает к северо-западу, пока не впадёт в реку Каму выше города Перми вёрст на двадцать.
Сплавная часть Чусовой, то есть та, по которой возможно судоходство, тянется на 600 вёрст. Средняя часть этого течения, занимающая вёрст 400, составляет самую живописную полосу Чусовой и кончается как раз в том месте, где проходит через реку Уральская железная дорога. Здесь Чусовая выбегает окончательно из «камней», как бурлаки называют горы, и дальше уже течёт по низменной равнине, где берега только иногда поднимаются высокими буграми, и на них, как исключение, попадаются те страшные прибрежные скалы, которые бурлаки называют бойцами. Самая красивая часть Чусовой вместе и самая опасная для плывущих барок: у бойцов «бьются» не только барки, но и люди гибнут десятками.
На всем своей протяжении Чусовая представляет совершенно пустынную реку, где прибрежные селения являются каким-то исключением. Правда, на Чусовой стоят несколько больших заводов, которые, конечно, оживляют реку, но их слишком мало; затем остаются пристани, откуда отправляются барки; но пристани оживляются едва на один месяц в году, на время весеннего сплава, а на всё остальное время точно засыпают…
А между тем Чусовая имела и имеет громадное значение для Урала, потому что по ней ежегодно сплавляется больше шести миллионов пудов разных грузов, одних бурлаков на чусовских пристанях каждую весну собирается до двадцати пяти тысяч человек.
Несколько лет тому назад мне случилось проплыть без малого всю Чусовую с весенним караваном, о чём я и хочу вам рассказать.
В последних числах апреля месяца, когда на открытых местах снег уже стаял и показалась первая бледная зелень, я подъезжал по самой ужасной дороге к одной из верхних чусовских пристаней. На Чусовой стоял ещё лёд, рыхлый и ржавый; в лесу лежал почерневший снег, но в воздухе уже чувствовалась весна, и с неба лились волны тёплого весеннего света, заставлявшего высыпать из-под прошлогодних листьев зелёные усики молодой травки и набухать ветви берёз, рябин и черёмухи. Весна на Урале, как и в других северных или гористых местах, наступает быстро, разом, так, что, собственно, пожалуй, и нет той весны, какая бывает на юге: переход от зимы к лету слишком резок, как и переход от лета к зиме.
<…>
Весь берег Чусовой был запружен бурлаками; на мыске, где стояли магазины и совсем готовые барки, люди шевелились, как живая муравьиная куча. От домика Ермолая Антипыча до мыска было с полверсты, и мы всё время шли между живыми стенами. На время сплава на чусовские пристани народ набирается со всех сторон: из ближайших уездов Пермской губернии, из Вятской, Уфимской и даже Казанской. Некоторые бурлаки приходят на сплав за целую тысячу вёрст. Такой дальний путь в весеннюю распутицу требует недель пять и крайне тяжело отзывается на бурлаках: испечённые на солнце лица с растрескавшейся кожей, вместо одежды – какие-то лохмотья, на ногах лапти, за плечами – рваная грязная котомка, в руках – длинная палка, – по этим признакам вы сразу отличите бурлаков из дальних мост от рабочих с пристани и ближайших заводов.
<…>
По реке длинной вереницей плыли льдины всевозможных форм: одни – жёлтые от весенней наледи, другие точно были источены червями. На заворотах они сталкивались и лезли одна на другую, образуя ледяные заторы; особенно сильно напирал лёд на мысок, где стояли барки; льдины, как живые, вылезали на песок и рассыпались здесь сверкающими ледяными кристаллами и белым снежным порошком. В воздухе потянула струя холода, а стоявший на Чусовой лес глухо зашумел. Откуда-то взялись вороны, которые, с беспокойным карканьем, перелетали с льдины на льдину.
– Ну, теперь нам самая горячая работа, только успевай поправляться, – говорил Ермолай Антипыч. – Нужно завтра спустить все барки в воду и в три дня нагрузить. Каждый час дорог! Ведь на каждую барку нужно положить грузу тысяч пятнадцать пудов… На некоторых пристанях есть свои гавани, ну, там успевают нагрузиться заблаговременно, а нам приходится грузить прямо в реке.
<…>
На другой день происходила «спишка» барок. До двух тысяч бурлаков собралось на мысу. От барок к воде проведены были «склизни», то есть толстые бревна, смазанные дёгтем; по этим склизням барку и спихивали в воду. Крику и суеты при таком важном событии было много. Барку с одной стороны сталкивали «чегенями», то есть деревянными кольями, а с другой – удерживали толстыми канатами, снастью. В воздухе висела стоголосая «Дубинушка», все лица были оживлены, громкое эхо катилось далеко вниз по реке и гулко отдавалось на противоположном берегу. Ермолай Антипыч с раннего утра был здесь, потому что необходимо было поспеть везде, все предусмотреть, везде отдать необходимые приказания. Крик рабочих и дружная бурлацкая песня на спишке – всё это на первый раз производило оглушающее впечатление, как на громадном пожаре, где люди совсем потеряли голову и напрасно надрывают себя в бесцельной суете.
<…>
Спущенную в воду барку сейчас же на канате подвели к магазинам с металлами. С берега на борт было перекинуто несколько сходней; несколько сот бурлаков уже ждали очереди начать нагрузку. Я забрался на носовую палубу, чтобы посмотреть, как пойдёт бурлацкая работа.
<… >
Как только сходни были готовы, на барку бесконечной вереницей двинулись бурлаки с тяжёлыми ношами в руках. Барка Ильи, как лучшего сплавщика, грузилась сортовым железом, то есть самым ценным материалом, который может много потерять, если попадёт в воду. Бурлаки, как муравьи, тащили на барку связки всевозможной формы; среди топота сотен бурлацких ног и резкого лязга нагружаемого железа трудно было расслышать человеческий голос. Илья едва успевал распоряжаться, куда и как класть принесённое железо; скоро около бортов и по средине барки образовались правильные кладки листового железа… Барка медленно садилась всё глубже: Илья постоянно справлялся с мерой осадки и прикидывал опустившуюся часть бортов в воду при помощи деревянной намётки, разделённой на вершки.
<…>
Пока шла нагрузка, вода на Чусовой спала почти до прежнего уровня, – вал, выпущенный из Ревдинского пруда, прошёл. Весенние чусовские караваны отправляются вниз по этому валу, который растягивается по реке вёрст на двести; для этого второго, самого главного паводка вода из Ревдинского пруда выпускается иногда в течение двух суток. Вода в реке поднимается на несколько аршин; но караваны могут плыть вниз только по определённой высоте такого паводка: он должен стоять выше летнего уровня воды на Чусовой от 2 1/4 до 3 аршин. Если вода стоит ниже, тогда караванам грозит опасность обмелеть; если выше – барки рискуют разбиться около бойцов. Понятно поэтому, с каким нетерпением на пристанях ждут второго вала: от него зависит весь успех сплава…
– Вода идёт… Вода!.. – пронеслось по улице рано утром, когда я ещё спал.
Вся пристань собралась на берегу. Выползли самые древние, полуслепые старики и старухи, чтобы хоть одним глазом посмотреть, как будет «отваливать» караван с пристани. Ледоход и отвал каравана – два великих праздника на пристани для старого и малого. Всё, что есть живого и имеющего хоть малейшую возможность двигаться, всё до последнего человека выползает на берег; откуда-то появляются калеки и увечные: у одного ногу раздавило при нагрузке тяжёлой железной крицей, другому «на хватке» руку перерезало снастью, третий не владеет ни руками, ни ногами от ревматизма, полученного на съёмке обмелевших барок. Для этих несчастных инвалидов чусовского сплава каждый ледоход и отвал только лишний раз напоминает об их несчастье, но они все-таки толкутся на берегу: «Хошь часок погалдеть с бурлаками, и то на душе легче». Лето да зима долги, успеют ещё насидеться и належаться по избам.
– Ноне вода самая мерная, – говорил Илья, осматривая свою совсем готовую барку. – Авось сплывём помаленьку.
– Не загадывай вперёд, Илья, – останавливал рыжий водолив, отличавшийся вообще очень «сумнительным» характером и недоверчивостью.
Барка Ильи называлась «казёнкой», потому что на ней плыл караванный приказчик, и по этому случаю на палубе была устроена небольшая каюта, около которой поднимался «глаз», то есть высокая мачта с разноцветным пером наверху, что-то вроде павлиньего хвоста. На всех пристанях устраиваются такие же казёнки; при них существует особый разряд бурлаков, известных под именем «косных». Косные выбираются из самых лучших бурлаков и щеголяют во все время каравана в кумачных рубахах и в шляпах с разноцветными лентами: по этим лентам и различаются косные разных пристаней. Своё название косные получили от косной лодки, на которой они разъезжают от барки к барке с разными приказаниями приказчика…
Мне тоже предложили поместиться на казёнке, в каюте приказчика, и, как только вода пошла на прибыль, все мои пожитки из квартиры Ермолая Антипыча перешли в каюту.
<…>
С каждым шагом вперёд перед глазами развёртывалась бесконечной лентой величественная горная панорама. Горы сменялись, выступая в реку громадными скалами в несколько десятков сажен высоты. Обыкновенно такие скалы стояли на крутых поворотах реки, на её вогнутом берегу, так что водяная струя прямо несла барку на такую скалу, на боец. Здесь, на этих обнажённых утесах, можно было видеть результаты разрушительного действия воды. В течение тысячелетий река шаг за шагом размывала каменные горы, обнажая громадные, каменные стены, точно созданные руками каких-то гигантов, а не слепой стихийной силой. Таких боевых мест слишком много на Чусовой, чтобы описывать каждое в отдельности; самые опасные бойцы имеют собственные названия, а менее опасные просто называются боевыми местами…
Как теперь вижу одно такое боевое место. Река катилась в сравнительно низких берегах, горы остались назади; барка плыла по вольной струе легко и свободно. На берегу зеленел густой ельник; отдельные деревья подходили к самой реке и протягивали лапистые, мохнатые ветви далеко над водой…
Я долго всматривался вперёд, – река катилась в таких же зелёных берегах, как раньше, только впереди слышался глухой шум. «Это, вероятно, „зайчики“ играют», – подумал я, стараясь разглядеть опасное место. Через минуту всё дело объяснилось: дорогу реке перегородила невысокая каменистая гора, и река образовала под ней крутое колено, чуть не под прямым углом. Вода здесь страшно бурлилась и пенилась, и вверх по реке далеко поднималась пенистая грядка больших волн. Скоро барка попала на «зайчики», её подхватило сильной струёй и быстро понесло вперёд, прямо на каменистую горку. Поворот был так крут, что я на минуту считал опасность неотвратимой, тем более что барка стрелой летела по «зайчикам» прямо на камни. Задача заключалась в том, чтобы пройти у противоположного берега; корма мутила воду, задевая за берег, нос был повернут к струе, которой его отбивало тоже к берегу. Одно мгновение, и барка птицей пролетела под камнем, оставив игравшие «зайчики» назади.
– В третьем годе здесь три барки убилось, – говорил Илья, когда барка опять спокойно плыла по широкому и гладкому плёсу.
Нужно было видеть, как работали бурлаки около «зайчиков». На барке – ни звука, всё замерло, и едва успевала сорваться команда Ильи, как потеси начинали уже неистово грести воду, разгоняя по всей реке пенистую широкую волну.
– Славно работают бурлаки, – заметил я Илье.
– Ничего… Вон погляди на наших пристанских… любо-дорого. В них – вся сила, а пришлые – те только так мешаются. Погляди, как пристанские подбрасывают поносное-то… Игрушка, а не работа!
<…>
Мы проплыли мимо деревни Камасино, под железнодорожным мостом, а затем показалась скоро и небольшая деревенька Кумыш. Эта последняя деревня замечательна тем, что пониже её стоят самые опасные бойцы на всей Чусовой – Молоков и Разбойник. Много барок бьётся о них, особенно в высокую воду. Чусовая идёт здесь в низких берегах, широким разливом, далеко заливая поемные луга; Молоков и Разбойник являются как бы последним и самым страшным препятствием, которым старик Урал загораживает ещё раз путь горной красавице Чусовой.
Под Молоковым Чусовая делает поворот, и в привале этого поворота, куда сносит струёй барку, стоит страшный боец. Самый камень издали не представляет собой ничего особенно страшного: это большая скала, которая повернулась навстречу воде своим отлогим краем. Вот по этой-то отлогости вода взбегает высоко на самый боец, а затем с страшным рёвом и стоном бежит назад, в реку, образуя под бойцом настоящий ад из пенящихся волн. Еще издали слышно, как ревёт река под Молоковым, а ближе вы видите только, что вся вода здесь превращается в сплошной поток белой пены, точно под бойцом кипит молоко. Отсюда и название самого бойца – Молоков.
– Шапки долой! – командовал Илья, когда наша барка с гробовым молчанием начала подходить к бойцу. – Постарайтесь, родимые!..
Конечно, бурлаков нечего просить о работе, они сами сознают всю важность наступающего момента и не пожалеют силы, чтобы барка птицей пролетела под самым страшным бойцом.
Нашу барку подхватило струёй и со страшной быстротой понесло прямо на боец.
Река суживается к бойцу, и чувствуешь, как барку подхватывает могучая стихийная сила и с увеличивающейся быстротой мчит к страшному каменному выступу.
Вот уж мы в полосе пенящейся воды, которая, как бешеная, лезет седыми гребнями на борты нашей барки… Вот и сам грозный Молоков… Он точно растёт с каждой секундой и быстро приближается к нам. Сознание собственного движения как-то теряется в этом хаосе звуков, голова кружится, и кажется, что мимо барки бегут берега, а впереди ждёт неумолимая, кипящая бездна. Но вот несколько сажен до Молокова… в воздухе стоит водяная пыль… Ещё одна секунда, и нас измелет в страшном водовороте… В самый критический момент, когда общая погибель кажется неизбежной, раздаётся команда Ильи, поносные разом упали в воду, и барка быстро прошла под бойцом, в каких-нибудь двух аршинах от рокового выступа.
Мы спасены. Не верится, что опасность миновала так быстро. А впереди ждёт Разбойник, но теперь он уже не страшен нам, потому что барка плывёт по суводи.
– Похаживай, молодцы! – весело покрикивает Илья, похлопывая своими кожаными рукавицами.
Под Разбойником барка прошла благополучно. У всех отлегло от сердца. Слышатся смех и весёлый говор. Кто-то мурлычет себе под нос песенку. Вон на берегу лес, дальше поля, изгороди, а там крошечная безыменная деревенька приткнулась на высоком берегу, на самом юру и весело смотрит под гору, где под кручей вереницей бегут коломенки.
– А есть на Чусовой ещё такие места, как Молоков с Разбойником? – спрашивал я у Ильи.
– Таких-то нет, а около того попадаются… Сплавщик с Дружным, Печка с Высоким: одна у них музыка-то, пожалуй. Ничего, хорошие, весёлые бойцы!..
Если в горной части Чусовой можно встретить разбитые барки, то ниже Камасина начали попадаться барки обмелевшие. Кое-где они снимались с огрудков, как и мы у Камасина, другие совсем обсохли и стояли наполовину в воде без всяких признаков жизни. Рабочие ушли, а груз караулили одни водоливы.
<…>
…На четвёртый день мы благополучно привалили в Пермь. Здесь, на пароходе, сидя в общей каюте второго класса, я долго перебирал впечатление тревожного пути по Чусовой. Только испытавши все опасности сплава на барке, настоящим образом оценишь все удобства путешествия даже на самом скверном пароходе.
1883

Влас Дорошевич
Из книги «Сахалин»
Дул порывистый, холодный, пронизывающий норд-вест, пароход кидало с бока на бок.
Я стоял на верхней палубе и всматривался в открывающиеся суровые, негостеприимные, скалистые, покрытые ещё снегом берега.
Первое впечатление было безотрадное, тяжёлое, гнетущее.
Словно какое-то чудовище, с покрытой буграми спиной, вытянулось, замерло и выжидает добычи.
– Вон место, где погибла «Кострома», – указывает мне капитан.
Я спускаюсь на нижнюю палубу.
Около иллюминаторов на палубе сменяются лица арестантов.
Смотрят, вглядываются в берега острова, где придётся кончать свой век.
Замечания краткие, мрачные:
– Сахалин!
– Зима ещё!
– Дай поглядеть!
– Не на что и глядеть. Всё под снегом.
Качка усиливается. Мы идем Лаперузовым проливом.
Налево – Крильонский маяк. Направо – кипят и пенятся валуны, покрывая «Камень Опасности». Впереди надвигается полоса льда. Льдины застилают весь горизонт.
Право, это звучит горькой насмешкой.
Провезти людей чуть не кругом света. Показать им мельком уголок земного рая – пышный, цветущий Цейлон, дать «взглянуть одним глазом» на Сингапур, этот роскошный, этот дивный, этот сказочный сад, что разросся в полутора градусах от экватора, дать полюбоваться на чудные, живописные берега Японии, при входе в Нагасаки, – на берега, от которых глаз не оторвёшь, для того, чтобы привезти после всего этого к скалистым, суровым берегам, покрытым снегами в половине апреля, в эту страну пурги, штормов, туманов, льдин, вьюг и сказать:
– Живите!
Сахалин…
– «Кругом – вода, а в середине – беда!» «Кругом – море, а в середине – горе!» – как зовут его каторжные.
– Остров отчаяния. Остров бесправия. Мёртвый остров! – как называют его служащие на Сахалине.
Остров-тюрьма.
Если вы взглянете на карту Азии, то увидите в правом уголке вытянувшееся вдоль берега, действительно, что-то похожее на чудовище, раскрывшее пасть и словно готовое проглотить лежащий напротив Мацмай.
И крутые паденья угольных пластов и зигзагообразные, ломаные линии обнажённых слоёв угольного сланца, – всё говорит, что здесь происходила когда-то великая революция.
Извивалась спина «чудовища». Гигантскими волнами колебалась земля. Волны шли с северо-востока на юго-запад.
Недаром сахалинские горы похожи, действительно, на огромные застывшие волны, а долины – или «пади», как их здесь называют по-сибирски, – напоминают собою пропасти, что разверзаются между волнами во время урагана.
Ураган кончен. Чудовище стихло и лишь по временам слегка вздрагивает – то там, то здесь.
Это – остров-нелюдим.
Он отделён от земли Татарским проливом, самым вспыльчивым, самым буйным, своенравным, злобным проливом в мире.
Проливом, где зимой зги не видно в снежной пурге, а летом штормы сменяются густыми туманами, настолько густыми, что среди этой белой пелены еле мерещится верхушка мачты собственного парохода.
Идя этим проливом, штурманскому офицеру приходится спать урывками, по четверти часа, не раздеваясь.
Здесь штиль сменяется свирепым штормом в пять, десять минут.
Полный штиль, – вдруг засвистело в снастях, – поднимай, а то и руби якоря и уходи в море, если не хочешь быть вдребезги разбитым о камни.
Здесь море – предатель, а берег – не друг, а враг моряка. Здесь надо бояться и моря и земли.
Сахалин не любит, чтобы останавливались у его крутых, обрывистых скалистых берегов. На всем западном побережье ни одного рейда. Дно – гладкая и ровная плита, на которой вас не удержит в шторм ни один якорь.
И сколько пароходов пошло ко дну, похоронено в этом проливе!
Сахалин – суровый и холодный остров.
Его скалистый берег лижет холодное северное течение, в незапамятные времена прорвавшееся Татарским проливом.
Здесь суровая, лютая зима. Здесь неделями продолжается пурга, крутит огромные снежные смерчи, по крышу засыпает дома.
Здесь безрадостная весна похожа на осень.
Короткое, холодное, туманное лето.
И только осень ещё похожа на что-нибудь.
20 мая я приехал в Онор – дальнее поселье в самом центре острова, – а 21-го, проснувшись утром, увидал ясное, свежее, прекрасное зимнее утро.
За ночь выпал снег. Снежная пелена в пол-аршина покрывала всё, – крыши и землю, тюрьму и поселье. Снег продержался два дня и сошел только 23 мая. Вот то, что называется на Сахалине «климатом».
Извилистая спина «чудовища», словно дыбом вставшими иглами, покрыта густой хвойной тайгой.
Высокий, обрывистый, отвесный, неприступный берег, по которому зигзагами идут жёлтые пласты глины, дымчатые – угольного сланца, белые – песчаника. Кое-где проступает ржавчина железной руды.
А наверху – тайга.
Ели и сосны, оголённые, совсем лишённые ветвей с наветренной стороны. Они растут в одну сторону. Вершины сосен вытянулись по ветру, словно дым от пароходной трубы. Словно эти великаны-деревья, вытянув руки, бегут от этого ужасного берега, от этого сурового, холодного жестокого моря и ветра.
Заберемтесь вглубь.
Мёртвая тишина. Только валежник хрустит под ногами. Остановишься – и ни звука. Ни птичьей песни, ни писка…
Жутко становится, как в пустой церкви.
Молчанье сахалинской тайги – это тишина заброшенного, оставленного храма, под сводами которого никогда не раздаётся шёпота молитвы.
Глубже в эту страну вечного молчания.
Вот уж и света не видно. Тьма кругом.
Словно огромный баобаб стоит на своих десятках стволов.
Это ветер сбил вершины сосен в одну огромную шапку, сколотил их ветви и иглы. Образовалась плотная крыша, по которой, кажется, можно ходить!
Здесь давит. Здесь тяжко.
Здесь тяжко даже деревьям. Здесь больны даже эти гиганты. Их стволы искривлены огромными болезненными наплывами.
Вот вам картина природы северного Сахалина.
30 лет тому назад здесь бродили медведи да гиляки – жалкие, несчастные дикари, вряд ли в умственном и нравственном отношении стоящие многим выше своих товарищей по тайге.
Не даром же гиляки верят, что у медведя такая же точно душа, как у гиляка, что душа медведя точно так же идёт после смерти к «хозяину», богу тайги, жалуется ему на гиляков, и хозяин судит их как равных. Что медведь даже «женат на гилячке»! До того эти жалкие дикари ставят знаки духовного равенства между собой и медведями.
Теперь в этой стране медведей и гиляков кое-где разбросаны поселья.
Жалкие, типичные сахалинские поселья.
Дома для «правов», построенные только для того, чтобы иметь право получить крестьянство, брошенные, разорённые, полуразрушившиеся.
И здесь ни звука. То же вечное молчание.
– Да есть ли живой человек?
В двух-трех домах ещё живут. Остальные – пустые.
– Ну, что? Как живёте?
– Какая уж жизнь? Маемся.
– Садите, сеете что?
– Что здесь растёт! Одна картошка, да и то с грехом пополам.
Живут молча, угрюмо, каждый, уйдя, замкнувшись в себя, тоскливо выжидал, когда кончится срок поселенья, можно будет получить крестьянство и уйти «на материк».
Дальше, дальше от этой безотрадной стороны.
Тараторят, заливаются, стонут звонки под дугой.
Тройка низкорослых, приземистых, коренастых, крепких, выносливых, быстрых сахалинских лошадей с горки на горку, из пади в падь, несёт нас вдоль острова к югу.
– Вот здесь застрелили Казеева (один из убийц Арцимовичей), – показывает вам ямщик. – Здесь в пургу занесло снегом женщину с ребёнком… Сюда я аномедни возил доктора – поселенца с дерева снимали… Повесился… Здесь в прошлом году зарезали поселенца Лаврова…
Обычная сахалинская дорога.
Картина природы меняется.
Безотрадная северная сахалинская сосна и ель уступают место весёлой, приветливой лиственнице, начинающей уже покрываться своей мягкою, нежною, пахучею хвоей. Кое-где попадётся невысокий кедр.
Забелели местами берёзовые рощицы. Берёзы ещё не собираются распускаться, но их беленькие стволы так весело, нарядно, чистенько выглядят после суровой тёмно-зелёной одежды хвойного леса.
Ива, гибкая и плакучая, наклонилась над речкой, словно хочет рассмотреть что-то в её быстрых струях.
По оврагам ещё лежит снег, а по холмам, где пригревает солнышко, уж пышно распустился лопух.
И горы пошли более пологие и пади шире.
Это уж не ущелья, не огромные трещины среди гор, а равнины, от которых веет простором.
И поселенья встречаются всё крупнее и крупнее. Величиной в хорошее торговое село.
И чаще на вопрос: «Ну, как живёте?» – слышится ответ:
– Живём кое-как. Лето только больно коротенько.
По пути попадаются волы, запряжённые в плуг.
В каждом селенье найдете двоих, троих, а то и больше, зажиточных хозяев.
Это Тымовский округ – картина среднего Сахалина.
Дальше начинается тундра, – «трунда», как её зовут сахалинцы.
Колёса вязнут, еле ворочаются в торфяной массе.
Ямщик слез и идёт рядом, чтобы легче было лошадям.
Двигаемся еле-еле. От лошадей валит пар.
Пахнет вереском. От его удушливого, тяжёлого запаха, похожего на запах кипариса, начинает болеть голова.
Вся тундра сплошь покрыта его красными кустиками. Словно кровь запеклась.
Тундра и тайга. И снова ни звука. Только дятел простучит да кукушка прокукует вдали.
Тоска, ноющая, щемящая, забирается в душу. Чем-то безотрадным веет кругом.
И не верится даже, что где-то на свете есть Италия, голубое небо, горячее солнце, что есть на свете и песня и смех… И всё, что приходилось видеть раньше, – всё это кажется таким далеким, словно происходило где-то на другой планете, – кажется сном, невероятным, несбыточным.
Океан тундры и тайги. И в этом океане, как крошечные островки, – кусочки твердой земли. На этих островках прилепились было поселья. Люди попробовали жить, побороться, – не смогли и ушли.
Унылые, брошенные поселья. Так до Онора.
А дальше уж совсем идёт топь, трясина, по которой ещё проезжают на собаках зимой и нет возможности пробраться летом…
За этой полосой начинается Корсаковский округ, – южный Сахалин.
Разнообразие лиственных древесных пород. Климат сравнительно мягче.
Здесь всё же легче дышится, живётся.
Если вы взглянете на подобную карту, весь юг Сахалина испещрён чёрными точками, – все поселья. Здесь всё-таки можно стать ногой на твёрдую почву.
Здесь труд тяжелый – немножко окупается.
Здесь уж ранняя весна.
Тянут вереницами на север красавцы-лебеди.
Белая полоса тянется по морю версты на две от берега, словно молочная река, – идёт, трётся в водорослях и мечет икру сельдь.
Птицы свистят и перекликаются в тайге.
Здесь всё-таки жизнь, всё-таки солнце, всё-таки свет.
Вот вам картины Сахалина.
Здесь воздух напоён тяжёлыми вздохами. Здесь в ночном крике птицы чудится стон. Здесь много пролито крови этими несчастными, которые режут друг друга из-за грошей.
Здесь что ни уголок – то страшное воспоминание.
Здесь всё дышит страданьем. Здесь много было преступленья и труда.
Здесь всё нужно взять с боя. Сахалинская почва ничего не родит, если на неё не капнут пот и слеза.
В глубине Сахалина таится много богатств. Могучие пласты каменного угля. Есть нефть. Должно быть железо. Говорят, есть и золото.
Но Сахалин ревниво бережёт свои богатства, крепко зажал их и держит.
Он прекратит ваш путь непроходимой тайгой, он утопит вас в трясине своих тундр. Железом и огнём приходится здесь пробивать себе путь человеку, потом, кровью и слезами сдабривать почву, половину жизни отдавать на то, чтоб другую половину прожить хоть чуть-чуть сносно.
Вот что такое этот остров-тюрьма.
Природа создала его в минуту злобы, когда ей захотелось создать именно тюрьму, а не что-нибудь другое.
Трудно представить себе лучшие тюремные стены, чем Татарский и Лаперузов проливы.
Правда, бегают и через тот и через другой. Но разве есть на свете такая тюремная стена, через которую не перешагнул бы человек, ставящий волю выше жизни!
Однако природа была слишком жестока, создавая этот остров-тюрьму.
Идти в ясную погоду по берегу постылого острова и ясно видеть через пролив противоположный берег, который дразнит и манит, уходя вдаль своими голубоватыми очертаниями!
1907

Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.