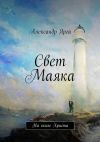Текст книги "Духовный символизм Ф. М. Достоевского"
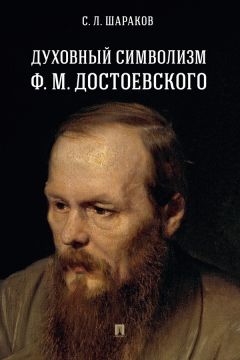
Автор книги: С. Шараков
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Если Платон отстаивал исключительную значимость вдохновения перед художнической способностью, то Аристотель, напротив, в способности подражания увидел существо поэзии.
Полярная оценка мимесиса у философов связана с различным его пониманием. Обоснование мимесиса исходило из определенной трактовки Аристотелем искусства, технэ: технэ «связана с созиданием, как и природа, она способствует возникновению вещей, имеет дело с общим, а не с единичным и исследует причины явлений» [Миллер, 1978, 67]. Иметь дело с общим и исследовать причины явлений есть прерогатива ума, поэтому и мимесис как средоточие художественного творчества отнесено Аристотелем к потребности интеллектуальной. Так Аристотель, подобно Платону, разводит по сторонам «вакхический восторг» и художественное умение, но уже с обратной оценкой: «…Аристотель не только реабилитировал подражание, но и вносил в истолкование поэзии новое понимание интуиции. Если до него источник поэтического творчества осмысливался как трансцендентный (божество, музы), иррациональный (движение воли, чувства – θυμος, φρην) <…>, то Аристотель рассматривал подражание не только как способность, но и как потребность, и потребность не безотчетно-инстинктивную, а интеллектуальную» [Миллер, 1978, 70].
Но неправильно думать, что речь здесь идет о предпочтении мастерства вдохновению. Нет, свободная игра воображения как результат деятельности ума получает у Аристотеля высокий бытийственный статус: ум человека в процессе художественного творчества подражает космическому уму – перводвигателю. Тем самым подражание оказывается универсальным законом творчества, не только человеческого, но космического, в связи с чем искусство уравнивается в правах с природой. Подражание искусства природе – не слепое копирование, а приращение бытия. Тем самым природа и искусство – не противоположности, а разные способы порождения жизни [Коваль, 2008, 115].
В соответствии с этим происходит переоценка и фантазии-воображения. Творческая фантазия художника увязывается философом с принципами мышления: ум всегда мыслит представлениями (φάντασμα – образ ощущаемого предмета в душе) [Месяц, 2005, 396]. Соединение чистой мысли с чувственной образностью и есть фантазия-воображение [Лосев, 2000, т. 4, 424]. Таким образом, художественный вымысел как продукт воображения, наряду с критерием истина/ложь получает и другое, для Аристотеля главное, назначение – выявлять в предметах и событиях общее [Миллер, 1978, 86].
«Это «общее» (то, что обычно случается или может случиться, то, что такому-то подобает делать то-то) мыслилось Аристотелем как схема взаимоотношений и связей» [Миллер, 1978, 86]. Как понимать это «выявление общего»? Общее – это то, чем всякая вещь должна стать в предельном своем развитии; общее – это обобщение, доведенное до своего предела. А так как момент предельного обобщения входит в структуру символа, то мыслить вещи в их предельном обобщении и означает мыслить символически.
Итак, символическая структура, как это следует из мысли Аристотеля, заложена в структуре мышления, художественного, в том числе. Тем самым в паре вдохновение/мастерство философ совершил перестановку: он перенес интерпретационный момент, или стратегию символического истолкования из области прямого вдохновения-прорицания в область мышления, ведь мыслить на основе воображения означает подражать перводвигателю. Мыслить общее, напомним, означает знать вещи такими, какие они есть в своем существе.
И хотя Прокл, наряду с Платоном, будет критиковать подражание, наделение художественного воображения высоким онтологическим статусом станет образцовым для многих поэтологических направлений в последующие века вплоть до сегодняшнего дня.
Здесь стоит обратить внимание на важное обстоятельство. Общее как символ – это и полнота, и закон становления всего частного. На уровне художественного образа, как утверждает Лосев, таким порождающим началом для образа служит первообраз или прообраз. Более того, момент порождающей модели Лосев называет отличительной особенностью символа [Лосев, 1976, 15]. Представляется, что момент порождающей модели, присущий символу в качестве его структурной доминанты, относится не к символу вообще, а к античному стилю символики преимущественно. На это указывает, на наш взгляд, ключевое для античного стиля художественного символизма слово – «порождающий».
С понятием рождения связаны ключевые для поэтологических воззрений поэтов и мыслителей античности слова φύσις = природа и τέXνη = искусство. Греческое слово «фюсис» происходит от глагола φύω, «рождаю», «произвожу» и в соответствии со своим первоначальным значением могло бы быть адекватно передано по-русски такими словами, как «рождение», «происхождение», «возникновение» [Коваль, 2008, 91–92]. В свою очередь, τέXνη произошло от глагола τίκτω = рождаю.
Таким образом, символическое порождение частного из общего по принципу порождающей модели предполагает бытийственную тождественность, соизмеримость выражающего и выражаемого начал.
Известное смешение внутреннего и внешнего, духовного и вещественного, характерное для античного типа символизма выразилось в таком изображении человека античными авторами, которое Лосев назвал антипсихологизмом: «Антипсихологизм есть отсутствие анализа внутренних переживаний человека, отсутствие внутренней мотивировки его поступков и замена их тем или иным физическим изображением, той или иной внешней мотивировкой» [Лосев, 2006, 174]. «Внешней мотивировкой», как правило выступают боги, которые определяют ход событий и роль каждого. Зачастую, как указывает тот же Лосев, под богами понималось то или иное движение души [Лосев, 2006, 178].
Это смешение вещественного и духовного надо правильно понимать, так как человек дохристианской эпохи так или иначе прикасался «мирам иным». И древний грек здесь не является исключением. Но в дохристианском мире, за исключением иудейского монотеизма, смешение идеального и материального было неизбежным, что оценивалось в христианском богословии как неспособность человечества своими силами иметь истинное, правильное, знание о мире духовном, о Боге. Неизбежное замыкание в границах естественного разума, который, по факту, имел дело исключительно с закономерностями природного годового цикла, порождало страх перед непознанным, перед неспособностью понять, объяснить цель непрерывного умирания и нового порождения всего живого. Так и зарождается у древних представление о роке, судьбе, которой подчиняются даже боги. Судьба – это то, что выходит за рамки логического целеполагания [Лосев, 2000, т. 8₁, 399].
Из представлений о судьбе возникает идея игры, которая в античности была попыткой объяснить сверхлогичность богов. Жизнь и цели богов не объясняются при помощи причинно-следственных связей, значит они играют, так как в игре как раз нет практической цели. (В дальнейшем, в эпоху Возрождения, категория игры будет перенесена в сознание человека, но будет выполнять примерно то же назначение – свидетельствовать о незаинтересованном начале в человеке).
Игровой момент, в свою очередь, составной частью входит в символическое мышление, что особенно ярко проявилось в сфере художественного символизма.
Вот пример поэтического символизирования – гомеровский гимн «К Гермесу». Здесь художественно выражается известный миф о похищении Гермесом, когда тот еще был ребенком, коров у Аполлона. Между богами возникает, казалось бы, непреодолимый конфликт, но Гермес начинает играть на лире, которую он сделал из черепахи, и конфликт разрешается примирением, а в награду за игру Аполлон делает Гермеса посредником (символом) между небом и землей, богами и людьми. Интересно, что черепаху, при встрече с ней, Гермес называет символом.
Знаменье очень полезное мне, – и его не отвергну!
Здравствуй, приятная видом, размерная спутница хора,
Пира подруга! Откуда несешь ты так много утехи,
Пестрый ты мой черепок, черепаха, живущая в скалах
[Античные гимны, 1988, 74–75].
Слова «черепаха», «утеха», «хор», «черепок», «пестрый» связаны темой игры в широком смысле слова. Не случайно Гермес называет черепаху αθυρμα – утеха, игрушка. И не случайно, черепаха становится материалом для лиры, на которой Гермес играет. «Черепок» (οστρακον), в свою очередь, и орудие игры, и знак судьбы – какой стороной черепок упадет. С другой стороны, если иметь в виду черепок, на котором писали имя изгоняемого, это знак судьбы для гонимого. В этой связи игровых значений корневым является именование черепахи спутницей хора. Собственно, хор – Xοροιτυπε – топанье ногой, танец, хоровод. Хоровод предназначался для прославления какого-либо бога. Вместе с тем, хоровод представлялся частью игры как мироотношения: божество устроило так, что человек есть игрушка бога, поэтому лучшее, что может человек избрать – жить играя. Такое представление свойственно вообще античности. Гомер описывает смеющихся богов. Гераклит утверждает, что вечность суть играющее дитя. Прокл толкует устроение мира как игру богов. Такое миропредставление основывалось на том, что человек античности не выделял себя из мира природы, чувствовал себя погруженным в круговорот материи с ее вечными рождением и умиранием. Круговоротом этим руководили боги, что и описывалось как игра. Таким образом, черепаха-лира в гимне является символом игры как мироотношения. В конечном счете истолкование символа также связано с игрой ума, с интуицией. Причем критерий истинности толкования был связан с представлением, согласно которому деятельность человеческого ума суть выражение Ума космического.
Итак, весь земной мир видится древним греком как выражение процессов мира невидимого – божественного. Если же соединение двух миров мыслить символически, то следует говорить о том, что мир идеальный суть принцип, порождающая модель для мира земного. Само по себе порождение земного мира есть прежде всего структурное отображение небесных процессов, а именно: Благо Платона или Перводвигатель Аристотеля соединяются с умной материей, порождая мир умных субстанций, и уже по этой, небесной, структуре порождается мир земной.
Следовательно, символически мыслить для человека античной культуры означает найти во всякой вещи ее принцип, ее порождающую модель, ее идею, по Платону, или форму, по Аристотелю, словом – ту структуру или то общее, которое выведено из жизненного становления. Важно понимать, что это общее не мыслилось как что-то абстрактное и внешнее, но как актуальное средоточие и полнота бытия.
В этом отношении интересны наблюдения Аверинцева над категорией характера в античной культуре: «Маска – это больше лицо, чем само лицо: такова глубинная предпосылка, которая не может быть отмыслена от всей античной философской и литературной концепции «характера». Необходимо уяснить себе: личность, данная как личина, лицо, понятое, как маска, – это отнюдь не торжество внешнего в противовес внутреннему или, тем паче, видимости в противовес истине (с греческой точки зрения, скорее, наоборот, ибо лицо – всего-навсего «становящееся» и постольку чуждо истине, зато маска – «сущее», как демокритовский атом и платоновский эйдос, и постольку причастна истине). Неподвижно-четкая, до конца выявленная и явленная маска – это смысловой предел непрерывно выявляющегося лица. Лицо живет, но маска пребывает. У лица есть своя история; маска – это чистая структура…» [Аверинцев, 2004, 52]
Маска как чистая структура – это и есть отображенная в земном мире структура идеального космоса. Человек и земной мир отображают на уровне структуры мир идеальный, мир сущностей или богов. Так, мир людей символизирует мир богов.
Приведенные материалы подтверждают утверждение Аверинцева о таком соотношении внутреннего и внешнего в античных концепциях человека, когда внутреннее никоим образом не связано с внутренним миром человека, миром его души, жизни сердца. Внутреннее относится к началам умных сущностей. Человек при этом видится в качестве экрана, на котором отображаются так или иначе эти умные сущности. С таким представлением связан уже указанный нами известный антипсихологизм античного миросозерцания. Человек претерпевает то, что предназначено ему судьбой; он актер, исполняющий данную ему роль [Лосев, 2000, т. 8₁, 406].
Символ как форма выражения также содержит два начала – внутреннее, осмысляющее, подразумеваемое, и внешнее, очевидное [Лосев, 1976, 36]. И когда в античном символизме предметом символизации оказывается человек, то начало внутреннего при этом помещается вне человека. Как следствие этого поворотные события в человеческой жизни зависят от судьбы, от воли богов [Лосев, 2006, 176].
Вера античного человека в определяющее воздействие богов на его жизнь родственна вере христианина в Божественный Промысл, но если в христианстве так или иначе складывающаяся человеческая судьба видится как результат взаимодействия Бога и человека, то в античности преобладало представление, согласно которому судьба человека целиком и полностью зависит от богов, так что человек, как уже было сказано, игрушка в руках богов.
Итак, мыслить символически для античного человека означало замечать во внешних проявлениях предметов их глубокую сущность. И вот, с одной стороны, это символическое миросозерцание виделось как воспроизведение природного, естественного процесса, так как соединение идеи вещи и материи вещи и есть природа [Лосев, 2000, т. 8₂, 300]. С другой же стороны, человек Античности видел в соединении идеи и материи проявление соотношения целого и его частей, то есть видел это соединение как структуру. Таким образом, античный символизм есть естественный структурный символизм.
2. Символ в христианской словесности: зарождение духовного символизма
В христианстве античный символизм был переосмыслен. Главное отличие христианского типа символизма от античного связано с новым пониманием Бога и человека. Как пишет П. Гайденко, раскрывая антропологию бл. Августина через сравнение с античными воззрениями на природу человека, в христианстве изменяется значение внутренней жизни человека, в душе открываются такие глубины, которые оказываются для человеческого естественного разума недоступны: «Для античного грека, даже прошедшего школу Сократа («познай самого себя») и Платона, душа человека соотнесена с душой космоса. Августин же вслед за апостолом Павлом открывает «внутреннего человека», которому в космосе ничто не соответствует и который целиком обращен к надкосмическому Творцу. Глубины «внутреннего человека», скрыты даже от него самого, они не могут быть постигнуты силами естественного разума и открыты полностью только Богу» [Гайденко П. П., 2005, 354–355].
Так как глубины внутреннего человека не постижимы вполне для света естественного разума, а познание себя, своей души, оказывается важнейшим делом на пути спасения, возникает потребность в символическом миросозерцании, которое было бы направлено на внутренний мир человека.
Символизм внутреннего человека раскрыт в творениях прп. Макария Великого и других Отцов. Т. Миллер основу символического миросозерцания прп. Макария видит в аналогии внешнего и внутреннего человека, а также в аналогии событий внутреннего мира и событий истории: «… жизнь души в беседах преподобного Макария описывалась по аналогии не с биологическими процессами, а с исторической судьбой человечества, которая понималась как путь избавления человеческой природы от власти вещества, материи; этот путь начинался с преступления Адама, которое подчинило весь человеческий род веществу, то есть смерти, и завершался Боговоплощением – соединением человеческой природы с Божественной в личности Иисуса Христа и освобождением от уз смерти. При опрокидывании этой общей схемы на «внутреннего человека» жизнь души представлялась как развитие, начинающееся с подчинения греху и ведущее к воскресению души. Внутренний человек, как и внешний, признавался носителем своей собственной природы, своего собственного тела, а его жизненный путь – буквальным повторением ветхозаветных и новозаветных событий» [Миллер, 2001, 252–253].
А вот что пишет сам прп. Макарий: «Итак, если было написано о различных войнах, то написано таинственно о теперешних невидимых войнах духов зла, бываемых против души; или было сказано о некоторых историях из-за бываемых ныне душе тайн, или много других слов сказал в Писаниях Дух Святой, как о городах и о некоторых вещах. Все было написано ради теперь бываемого в душе. И хотя тогда они происходили в видимости поистине, но Дух Святой, беря предлоги от всех видимых и всех бываемых тогда, сказал о ныне имеющих случиться в душе» [Макарий Великий, 2002, 153]. О том же, в форме определения, пишет св. Игнатий (Брянчанинов): «Ветхий Завет, – в нем истина изображена тенями, и события со внешним человеком служат образом того, что в Новом Завете совершается во внутреннем человеке…» [Игнатий (Брянчанинов), Творения, 2014, т. 1, 238].
Когда Св. Отцы говорят о событиях внутренней жизни, о бываемом в душе, они имеют в виду духовный мир, в котором человеку открывается Бог и обитатели этого мира. Но внутренний человек – это не только вход в духовный мир, но и сам этот мир [Исаак Сирин, 2012, 23].
Но как увидеть то, что происходит во внутреннем человеке?
Казалось бы, ответ находится на поверхности: о внутреннем человеке можно узнать посредством символического созерцания поведения (в самом широком смысле этого слова) внешнего человека, – и здесь перед нами уже известное античной культуре понимание символического миросозерцания как способности замечать в фактах чувственно-материальной реальности проявления вечного, то есть естественный символизм. Более того, о естественном символическом миросозерцании говорит апостол Павел: «Ибо, что можно знать о Боге, явно для них (Иудея и Еллина. – С.Ш.), потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумили, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, – то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца…» (Рим. 1: 19–25).
Но будет большой ошибкой полагать, что в христианская культура унаследовала от Античности тип символического миросозерцания и что различие между символизмом античным и христианским заключается в содержании символизируемой предметности.
Следует обратить внимание: в то время, как ап. Павел говорит о рассматривании в мироздании проявлений Бога, прп. Макарий и свт. Игнатий указывают на Св. Писание, в котором события человеческой истории символизируют события и реалии внутреннего человека. И если естественный символизм рождается из практики рассматривания творений, то символизм Св. Писания – это уже сказанное слово, причем сказанное Св. Духом. Более того, истинным толкованием библейского слова, которое сказал Святой Дух, признается толкование в Духе, примеры которого Церковь находит в творениях духоносных мужей – Отцов Церкви. Из многочисленных высказываний на эту тему Отцов, приведем слова прп. Макария Великого: «Словно бы ребенок, вышедший из чрева уродом, или слепой от рождения (а это как бы знак и примета мира) – так мудрецы, которые хотят быть толкователями Писаний, не имея Небесного Духа и не слившись с Божеством…» [Макарий, 2002, 549]
Из приведенных материалов становится очевидным, что здесь описываются две различных познавательных практики – для одной достаточно усилий естественного ума, другая предполагает соединение с Небесным Духом. Можно сказать, что это две стратегии богопознания, которые соотносятся через единый предмет познания – Бога. Обратим внимание, логика размышления ап. Павла исходит из наличия этих стратегий: Бог открывается человеку через рассматривание творений, это познание предполагает благодарность Богу. Прославить Бога означает не только словесное прославление, но и прославление «посредством жизни и дел» [Иоанн Златоуст, 2011, 617]. И тогда открывается более глубокий уровень познания Бога, но так как язычники Бога не прославили, то получили не истинное, а ложное знание о Боге.
Второе знание, более глубокое, предполагает момент трансформации человеческого существа – человек должен измениться.
Другими словами, в христианстве естественный символизм не исключается, но ему отводится начальная ступень в богопознании. Деятельная христианская жизнь в исполнении заповедей и в очищении ума и сердца от страстей, подготавливает иной, более высокий, уровень символического миросозерцания – духовный. Он заключается, по слову прп. Максима Исповедника, в созерцании видимого через невидимое: «И если невидимое зрится посредством видимого, как написано (у ап. Павла. – С.Ш.), то для преуспевших в духовном созерцании легче постигнуть видимое через невидимое. Ибо символическое созерцание умопостигаемого посредством зримого есть одновременно и духовное ведение, и умозрение видимого через невидимое» [Максим Исповедник, 1993, 160].
Как это понимать? Знание видимого через невидимое – это видение духовного смысла событий и вещей видимого мира, мира, который, по слову св. Василия Великого, есть училище для спасения. Восходя от чувственного бытия через естественное символическое миросозерцание к духовному смыслу вещей, мы завершаем круг познания. Прп. Максим выражает круг знания через образ «колеса в колесе» из книги пророка Иезекииля, где два колеса – это два мира: видимый и невидимый [Максим Исповедник, 1993, 160]. О круге знания, о переходе от видения в свете естественного разума к духовному видению, пишет и свт. Григорий Палама: «Поистине ради несовершенных в знании надлежало, чтобы явное мира предшествовало невидимому Божию, как и символическое богословие закона было преподано погруженным в чувственность людям, сперва через чувственные знаки. Но опять же, как иные из совершеннейших благоудостоились истинного богопознания и помимо символической прикровенности, так есть узревшие и невидимое Бога (Рим. 1: 20), каковы Моисей, Павел и им подобные, хотя к пониманию Его и они ведут нас доступным для нас образом, от зримого» [Григорий Палама, 2007, 287].
Духовное видение духовного мира – это то новое, чем отличается христианство от до-христианских культур, в частности, культуры античной. Тип символического миросозерцания, предполагающий духовное видение духовного мира мы предлагаем называть духовным символизмом.
Само по себе духовное видение духовного мира не является символическим, так как здесь отсутствует чувственное движение. Духовный символизм рождается как боговдохновенное слово, в котором о духовном говорится посредством реалий видимого мира, когда в событиях истории, в вещах, в природных явлениях раскрывается их духовный смысл. Образцы духовного символизма мы находим в книгах св. Писания Ветхого и Нового Заветов, а также в святоотеческой письменности, которая в существе своем есть осененное благодатью Св. Духа толкование Cв. Писания.
Духовный символизм для носителей Духа – это средство выражения, передачи духовного видения. В этом смысле все содержание св. Писания, которое сказал Святой Дух, – в полноте историй, событий, образов, имен и т. д. – написано для того, чтобы ввести человека в духовное пространство его души, в которой только и открывается духовный мир с его законами и порядком. Так через чтение Писания, молитву, исполнение заповедей и жизнь в Церкви христианин начинает постигать основы и порядок духовной жизни, порядок пути спасения.
Так как духовный символизм в полноте проявляется в Св. Писании, особое значение в христианской словесности придается способам истолкования главной христианской Книги.
Медиевист Л. В. Левшун, в частности, выделяет три типа отношения христианских книжников Средневековья к священным текстам – типологическая экзегеза, аллегорическая амплификация, обратная типология. Типологическая экзегеза означает такое отношение к Библии, когда она воспринимается как субъект осмысления бытия. Другими словами, художник усваивает евангельский образ мысли: он начинает смотреть на мир «глазами» Евангелия. Такой способ восприятия и осмысления действительности заключается в том, что «для каждого наблюдаемого события и явления, которые воспринимаются книжником как символическое отражение трансцендентной реальности, обязательно отыскивается (прозревается) в Священном Писании и Предании его прообраз (богодухновенно проявленное «подобие»)» [Левшун, 2009, 118–120]. Два других метода являют собой разную меру отхода от чистоты евангельского образа мысли и означают главенство индивидуального творческого сознания даже и по отношению к Библии. (Несмотря на то, что предложенная типология творческого метода проводится в отношении к средневековым книжникам, она, представляется, справедлива и для светских писателей. Не связывая себя ни концепцией Левшун, ни примененной ею терминологией, в нашем исследовании мы будем использовать сам принцип оценки творческого метода того или иного писателя по способу осознания им Библии).
То, что исследователь именует типологической экзегезой, в контексте символического миросозерцания соответствует тому, что мы называем духовным символизмом. Соответственно, два других типа отношения к священным текстам соответствуют тому, что в рамках нашего исследования называется символизмом естественным.
Богословскую параллель типологии творческого метода писателей по отношению к Библии мы находим в работе митрополита Амфилохия (Радовича) «История толкования Ветхого Завета». Сербский богослов не затрагивает проблему творческого метода. В центре его исследования экзегеза Ветхого Завета в истории религиозной мысли. И здесь митрополит Амфилохий затрагивает тему способов осознания экзегетами Библии. В Ветхом Завете «записана одна великая Драма, которая разыгралась между Богом и избранным народом, и которая остается вечным критерием и зеркалом каждой человеческой драмы, идет ли речь о драме отдельной личности или о драме народа и общности» [Амфилохий (Радович), 2008, 7]. Но для правильного истолкования Библии требуются определенные условия. Митрополит Амфилохий, основываясь на учении ап. Павла о духовном и буквалистском толковании Св. Писания пишет о внешнем и внутреннем подходах к изучению Библии. Внешний/научный подход (историческое, лингвистическое, текстологическое и критическое изучение Св. Писания) означает отношение к Библии как к литературному памятнику со всеми вытекающими отсюда для научного изучения выводами. Внутренний/духовный подход в качестве исходной посылки принимает тот факт (вопрос веры), что Библия – это слово Божие. С другой стороны, вера необходима и при внешнем подходе, так как без веры в то, что за библейским текстом скрывается священная тайна, слово Божие будет искажено. Но одной только веры недостаточно, так как для истинного истолкования Библии требуется проникнутость истолкователя благодатью Св. Духа. Единственно истинный метод правильного истолкования слова Божия, по мысли Радовича, описан в книге пророка Иезекииля. Это то место, где пророк получает повеление съесть свиток и напитать им свою внутренность. Другими словами, слово Божие должно проникнуть все существо человеческое: «… только те, которые съедят Книгу Божию и чьих уст коснется «живой огонь», т. е. огненная сила Духа Святого, смогут понять и истолковать глубину этого слова…» [Амфилохий (Радович), 2008, 7–9] Если же сердце и разум истолкователя не оживлены действием Св. Духа, это свидетельствует о глубине человеческой огрубелости, из которой смысл слова Божия становится недоступным. Без благодатной озаренности и внутреннее толкование, то есть, основанное на вере, может стать внешним. Такой, внешний, подход митрополит Амфилохий называет рационалистическим, то есть основанным на духовной огрубелости сердца и ума [Амфилохий (Радович), 2008, 7–10].
В отличие от концепции Левшун, которая выстроена на категории сознания, точнее, на той или иной установке сознания по отношению к Библии, в подходе митрополита Амфилохия ударение делается на духовно-нравственном состоянии истолкователя. Уровень методологии той или иной теоретической установки экзегета здесь сохраняется, но не является определяющим.
Когда сербский богослов говорит о различии между огрубелостью сердца и серафимским пылом, речь идет о различении разума преображенного и разума естественного, то есть о том различении, которое положено нами в основание культурно-исторической типологии символа.
Общим в концепциях митрополита Амфилохия и Левшун является тот факт, что в них утверждается и развивается основополагающий принцип православной герменевтики – толкование Св. Писания в свете православного Предания [Добыкин, 20014, 84]. Ведь что такое типологическая экзегеза у Левшун и просвещенность экзегета небесным огнем у митрополита Амфилохия? Это правильное, истинное, как это понимает православное вероучение, толкование Библии. Но что такое, в свою очередь, истинное знание слова Божия? В православной традиции под правильным пониманием Библии как раз и понимается соответствие этого понимания православному Преданию.
Как определяет Предание Вл. Лосский, оно есть «жизнь, сообщающая каждому члену Тела Христова способность слышать, принимать, познавать Истину в присущем ей свете, а не в естественном свете человеческого разума» [Лосский, 2007, 682]. Присущий Истине свет – это и есть свет преображенного разума, разума, озаренного небесным огнем. Из такой герменевтической предпосылки следует, что само по себе звание христианина не делает человека духовным, а его разум преображенным. До стяжания святости ум христианина освещается светом естественным. В связи с этим, в Церкви рождается канон, устанавливающий главнейший экзегетический принцип: толковать Св. Писание следует не с опорой на свой разум, а в согласии со святоотеческим толкованием. Вот что гласит 19 правило Пято-Шестого Трулльского Собора: «… если предложено слово Писания, пусть изъясняют его не иначе, как согласно с тем, как изложили светила и учители Церкви в своих писаниях, и пусть лучше в этом ищут доброго имени, чем в составлении собственных слов, дабы, в случае несостоятельности в этом, им не отпасть от надлежащего» [Деяния Вселенских Соборов, 2006, 280].