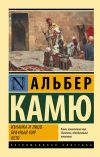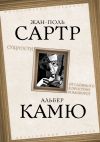Текст книги "В поисках утраченного смысла"

Автор книги: Самарий Великовский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Так, вовлекая в круг своих выкладок немалый запас научных, исторических, культурных, философских данных, Мальро перерабатывает их в доказательство непригодности прежнего гуманизма в обстановке «смыслоутраты». Изверившаяся в Боге личность очутилась покинутой без поддержки «священного» посреди смолкшего мироздания, неподатливой истории, внутренней душевной сумятицы.
4
Столь придирчивый до односторонности пересмотр наследия, слишком пренебрегающий духовными и историческими приращениями последних веков, их освободительной ценностью, тем не менее – и тут, пожалуй, важнейшая особенность Мальро – движим вовсе не намерением поставить крест на гуманистически нацеленном поиске вообще и утвердиться в мизантропии. Скорее это, по замыслу, расчистка площадки для строительства на ней, после скептического испытания пускаемых в ход материалов, иного мировоззренческого здания, задуманного как обиталище для личности, которую осаждает пустота небытия. «Гуманизм возможен, – настаивал Мальро, – хотя надо ясно себе сказать, что это гуманизм трагический… Позицию человека мы можем основать лишь на трагическом, потому что сегодня человек не знает, куда он идет, и на гуманизме, потому что человек знает, откуда он идет и в чем его воля» («Человек и художественная культура»)[56]56
Malraux Andre. L’Homme et la culture artistique // Conferences de l’UNESCO (nov. – dec. 1946). P., 1947. P. 87.
[Закрыть].
Воля идти, захлестываемая «смыслоутратой» и все-таки не сдающаяся, – тень Сизифа легла на страницы книг Мальро задолго до того, как Камю надумал извлечь Сизифа из старой легенды и перенес в XX век. Когда один из близких сотрудников Мальро обозначил сквозную устремленность его творчества почерпнутым у Хайдеггера понятием «бытие-к-смерти», Мальро счел нужным внести поправку: «бытие-против-смерти»[57]57
См.: Picon G. Malraux par lui-meme. P., 1953. P. 74–75.
[Закрыть]. Для него существенно не созерцательное обретение душевной подлинности на последней грани, у самого обрыва жизни, а противоборство, позволяющее дерзостно повторить: «Где же твоя победа, Смерть?». «Думать о смерти не для того, чтобы умирать, а чтобы жить», «сделав предпосылкой действия само отсутствие у жизни конечной цели» («Королевская дорога»); «существовать наперекор громадной тяжести судьбы» и «попытаться прорвать кольцо человеческого удела с помощью средств, доступных человеку» («Человек и художественная культура»); «основать свое величие на самой зависимости от рока» («Голоса безмолвия») – в этом на разные лады варьируемом Мальро парадоксе заключены, по его мнению, вся суть, все достоинство, вся трагедия и подвиг жизни, заслуживающей того, чтобы называться жизнью, а не прозябанием. «Гуманизм – это означает сказать самим себе: “…мы намерены обнаружить человеческое повсюду, где есть сопротивление тому, что его подавляет”» («Голоса безмолвия»).
Возможность подобной «жизни вопреки» дана уже тем, что человек – «единственное существо на земле, которое знает, что оно смертно» («Орешники Альтенбурга»). А стало быть, способно осмыслить несправедливость своего жребия и возмутиться им, поставить устройство вселенной под сомнение. И тем самым возвыситься над «уделом». Слабые духом, кого повергает в трепет правда сущего, спешат забыться в бездумной суете, хоть чем-нибудь отвлечься – отключить свой разум, предаться дремотному покою в рутине быстротекущих мгновений или бессвязной сутолоке грез во сне и наяву. Они лишь претерпевают свою участь, поддавшись соблазну «восточной мудрости» – бегству от трудных истин, отречению от «свободы, которая есть не что иное, как осознавание и обуздывание роковых обстоятельств» («Годы презрения»). Высший долг личности перед собой заключен в том, чтобы не просто на словах продолжить и закрепить преимущество, заложенное в способностях нашей мысли восстать против миропорядка, обрекающего ее носителя на исчезновение. «Несмотря на первородный грех, демоническое зло, абсурд, несмотря на подсознательные влечения», наследнику цивилизации Запада надлежит «мыслить себя деятелем в мире, где преобразование рассматривается как ценность, движение вперед как завоевание, как история» («Антимемуары»).
Поэтому прежде всего делами, поступками современник XX столетия должен на развалинах былой веры, в пустоте «умершего божества», изыскать и утвердить ценности трагического гуманизма. Он призван снова и снова созидать смысл посреди вселенской бессмыслицы, «одолеть человеческий удел, черпая внутри себя силы, которые прежде искал вовне» («Человек и художественная культура»). Философско-созерцательный срез раздумий Мальро исподволь смещается в плоскость действия; вопрос: «Что есть человек?» – по дороге к своему решению преобразуется и получает другой поворот: «Что человек может сделать против смерти?» («Антимемуары»). Один из собеседников ученого разговора в «Орешниках Альтенбурга» заявляет, что человек – «это не жалкая кучка секретов, погребенных каждым в душе», и даже «не то, что он думает, а то, что он делает». Сам Мальро не сбрасывает так легко со счетов сокровенные метания души и незримую работу ума, однако и для него они получают завершенность и подлинность лишь тогда, когда претворены в поступки. «Быть», быть вполне и до конца, означает, по Мальро, осмысленно действовать.
Почти все детища его вымысла, будучи вскормлены философией «человеческого удела», непременно «соединяют в себе способность к действию, культуру и ясность ума» (послесловие 1949 г. к «Завоевателям»)[58]58
Malraux Andre. Postface aux «Conquerants» // Malraux Andre. Romans. P. 163.
[Закрыть]. Французский философ Э. Мунье изобрел точное слово, определив их как «метапрактиков» – метафизических деятелей, «ужаленных одной заботой: сделать осмысленным существование, лишившееся смысла»[59]59
Mounier Emmanuel. L’Espoir des desesperes. P., 1970. P. 25.
[Закрыть]. Их бунт против обступающего со всех сторон «абсурда» всякий раз есть рыцарское странствие в погоне за исчезнувшим вдруг Граалем – искание того, что могло бы их на время избавить от чувства случайности своего пребывания на земле, онтологически «оправдать» и «спасти» личность, как прежде это делало, в ряду других мировых религий, христианство. Только в случае с «метапрактиками» у Мальро – без посредства веры. Из книги в книгу Мальро бьется все над той же задачей, ища квадратуру «бытийного круга» – очередной способ «жить против смерти», шире – наперекор Судьбе. Выношенные и предлагаемые им каждый раз решения не опровергают предыдущих, учитывают их, но и не являются простым их повторением, поскольку постоянно надстраиваются из материалов пережитого Мальро в ходе его приключений и вмешательств в историю нашего века. Здесь нет однозначности, но есть однородность.
Самый уклад мышления Мальро к этому приспособлен. Даже в своей культурфилософской эссеистике он по преимуществу мыслитель-лирик; основное орудие и увенчание его работы – не последовательно-однолинейная цепочка умозаключений, а россыпь «исповеданий веры». Они разбросаны по страницам книг Мальро в виде афористических изречений, не увязанных между собой жестко строгими переходами, а ведущих перекличку на изрядном расстоянии друг от друга. Что же касается романов Мальро, то в них он и вовсе как бы дробит свои взгляды и раздает их по частям разным лицам, так что его собственные убеждения проступают наружу по ходу взаимовысвечивания неодинаковых, дополняющих одна другую или спорящих «правд». В конечном же результате их первоначальная разносоставность не подвергается переплавке, не «снимается», а удерживается в неустойчивом и преходящем равновесии. Оно всегда сохраняет наготове возможность для переноса основного упора на ту или иную из своих частей – для выборов, весьма отличных порой от делавшихся накануне, для непредвиденной смены вех и даже опрокидываний вчера найденного.
Постоянство исходных условий задачи при существенной разнице полученных поочередно ответов и дает ту переменчивую верность себе[60]60
Давшую повод одному из самых тщательных, хотя и явно апологетических, комментаторов Мальро озаглавить свою книгу не без вызова: «Мальро, или Единство мысли» (Dorenlot F. Е. Malraux ou 1’unite de la pensee. P., 1970).
[Закрыть], какая просматривается на всех отрезках пути Мальро-писателя.
5
Одержимость «метапрактиков» Мальро бытийными истинами отнюдь не превращает их в философствующие тени, в этаких умничающих головастиков. Засевшая в их мозгу мысль очень редко развертывается в умозрительный ряд рассуждений, гораздо чаще это страсть и мука, томление духа и плоти одновременно. Оно обнаруживает себя в слепящих вспышках мгновенных озарений ума – в предельно сжатых, афористически отточенных высказываниях. Хладнокровный разум умеет задать воле такое мощное напряжение, запросы его так наполняют и пронизывают каждую клеточку всего существа личности, что она разгадывает осаждающие ее загадки жизни каждым своим телесным ощущением, мельчайшим оттенком чувств, каждым шагом. Среди всех, кто во Франции XX века видит своего особенно почитаемого наставника в Достоевском, Мальро[61]61
«Вот уже сорок лет, – писал Мальро в 1951 г., – присутствие Достоевского решительно преобладает» в том, как понимает большинство писателей Запада задачи и само устройство романного повествования. О чуткости Мальро к принципам мастерства Достоевского можно судить по одному из его высказываний: «Если кто-нибудь обрел свой гений в том, чтобы завязать диалог между разными полушариями собственного мозга, так это Достоевский… Он воплотил в своих созданиях то вопрошающее раздумье, подспудное течение которого явственно различимо у него самого… Он ищет кремни лишь для того, чтобы ударять ими друг о друга… И толпа шутов в его книгах – это хор, задающий протагонистам вековечный вопрос: “Зачем сотворил нас Бог?”. Отсюда – важнейший для Мальро урок Достоевского: “Новейший роман в моих глазах есть самый предпочтительный способ выразить трагедию Человека, а вовсе не прояснить психологию индивида”». – См.: Picon G. Malraux par lui-meme. P. 38, 40, 66.
[Закрыть], пожалуй, успешнее остальных осваивал уроки мастерства, завещанные русским изобразителем «рыцарей чести» и «фанатических фетишистов предела» (Вересаев). У Мальро тоже, намереваясь совершить ответственный, а подчас и простейший житейский поступок, ломают голову над самыми что ни на есть последними «вопросами вопросов».
«Завоеватели», первый из романов зрелого Мальро, открывают шествие этих взыскующих смысла посреди бессмыслицы сущего авантюристом, который примкнул к революции. Сын швейцарца и русской, он носит фамилию своей матери – Гарин. В юности, потершись в анархистских кружках, он проникся яростной не приязнью к жизни самодовольных мещан с ее охранительно-замшелыми установлениями. Затем столкнулся со всем этим впрямую, будучи привлечен к суду по достаточно ничтожному поводу. Из зала заседаний он вынес угнетающее чувство нелепицы разыгранного законниками лицедейства, к которому он, обвиняемый, внутренне не имел никакого касательства и в которое, однако, был втянут, словно вещь, попавшая в чужие руки. Над ним вершили унизительный суд и расправу, самодовольно претендуя на обладание безупречными нравственными ценностями, тогда как он усматривал в них подделку, ложь, фарисейство. Он испытывал презрение не столько к хозяевам этого общества – «собственникам, сколько к дурацким принципам, именем которых они защищают свою собственность».
В этом уточнении самая суть. Гарин находится в особой вражде с существующим буржуазным устройством: не вынося подсовывания ему мертвых ценностей в качестве заместителей размытого и выветрившегося вселенского смысла, он подозревает в этом мошенничестве природу общества как общества, независимо от уклада. «Я считаю общество не дурным, то есть поддающимся улучшению, я считаю его абсурдным. А это совсем другое дело… Абсурдным. Меня задевает вовсе не отсутствие справедливости, а нечто гораздо более глубокое – невозможность согласиться с социальной организацией, какой бы она ни была. Я а-социален, подобно тому как я атеист. Я знаю, что всю мою жизнь мне предстоит иметь дело с социальным порядком, и я никогда не смогу его принять, не отрекшись от самого себя». Для такого «отщепенца» любое общественное устройство – принудительная рамка, кольцо в кольце, дополнительная окова личности, и без того скованной природными ограничениями. Нелепость, стократ усугубленная тем, что прикидывается вместилищем добра и разума. На суде он всем своим естеством пронзительно ощутил несвободу, зажатость между бесчисленными зримыми и незримыми стенами навязанного ему жизнеустройства. И – что еще хуже – полнейший произвол последнего, нестерпимое отсутствие сколько-нибудь убеждающих бытийных оправданий его выхолощенным ритуалам. Потрясенный безотрадностью своего пожизненного «заточения», заведомой тщетой участи, предназначенной ему, как и всем прочим, следовать по тупиковой колее до могилы под надзором самозваных пастырей и стражей, – Гарин поднимает мятеж против «творения» (хотя на сей раз оно пусто, без «творца») и его социального представительства: общества. Им овладевает всепоглощающая страсть – поразить эту двойную мишень, где во всем сквозит хмурое недоброжелательство Судьбы, или, по крайней мере, всем зарядом отчаянной жажды «быть» обрушиться на плотную пустоту подкрадывающегося отовсюду «небытия».
Уже здесь, в так истолкованном отрыве от своей среды, сквозь слегка прикрытые исповедально-личные признания самого Мальро распознается зародыш того особого недовольства, что побуждает обычно будущего интеллигента-«попутчика» выламываться из привычного уклада жизни, данного ему от рождения, и толкает на ненадежные тропы «блудного сына». В первую очередь его больно ранит, заставляет метаться мнимость и опустошенность тех псевдосвятынь, какими клянется окружающее общество, их ценностно-смысловое худосочие и неприглядная подоплека. Короче – нравственная изжитость всего того, в чем обитатели цивилизации, скользящей под уклон, не ведая, как остановиться, черпали для себя смысл жизни, когда она еще поднималась в гору. В таком изначальном настрое протеста заложены многие предпосылки как предстоящих Мальро находок, так и возможных недоразумений и злоключений.
Поскольку ломка существующих устоев открыто и прямо, с оружием в руках, происходит в революции, то Гарин, не успевший вовремя попасть в Россию, уезжает в Китай и возглавляет здесь в дни всеобщей забастовки в Кантоне политическую пропаганду Гоминьдана. Бесстрашие, основанное на том, что он не дорожит своей жизнью, холодная решимость идти до конца, изобретательная деловая хватка, ум и неистовость, какую он вкладывает в действие, то есть кровно его затрагивающее сражение с «судьбой», – все это выдает в нем отличного работника. И все же революционность его сомнительна даже для ближайших сотрудников. Слишком уж она смахивает на авантюризм безоглядного игрока. Он готов поставить на карту все, вплоть до будущего того самого дела, которому себя посвятил, лишь бы сорвать очередной выигрыш.
Ставка Гарина, в сущности, – все то же христианское «спасение души», только навыворот: не усилия снискать благосклонность небес, а вызов небесам опустевшим. Героизм отчаяния полагает себя призванным учредить некий личный смысл вопреки отсутствию смысла надличного. Несколько позже, в «Уделе человеческом», эта перевернутая христианская установка Мальро получит четкое обозначение: «Что делать с человеческой душой, если нет ни Бога, ни Христа? Сообщить ей героизм». Революция в свете подобного предприятия – не более чем подходящий предлог и поприще. Самоценны напряженность и острота переживаний, испытываемых в разгар борьбы, а не ее исход, не то, что именно будет завоевано. Плоды, которые принесет забастовщикам вооруженная стачка, волнуют Гарина в самую последнюю очередь: «Мое действие делает меня безразличным ко всему, что за его пределами, включая и его результаты… Я игрок и, подобно всем игрокам, упрямо и настойчиво думаю лишь о моей игре». Важно победить, победить во что бы то ни стало, любой ценой, доказав прежде всего самому себе, что ты не пылинка, уносимая бесследно, а самодеятельная личность, которой по плечу сопротивляться напору обстоятельств и даже в чем-то подчинить их себе. Что же касается будущего, то Гарин не обольщается: со своими замашками протестанта против всех и вся он придется не ко двору тем, на чьей стороне сегодня выступает, как только они восторжествуют и займутся строительством.
Самодовлеющая, в себе самой заключающая свой конечный смысл власть кроить и перекраивать жизнь, повелевать ходом событий в отместку Судьбе – все упования Гарина сосредоточены на возвышении «твари» до «сверхчеловека». Его заповедь: «Руководить. Определять. Принуждать. Жизнь в этом». «Он чувствовал в себе постоянную упорную потребность быть могущественным, – сообщает рассказчик, работающий у него секретарем. – От могущества он не ждал ни денег, ни почестей, ни уважения, ничего, кроме самого могущества». И нет такой платы, какую бы он не внес за удачу своей метафизической по значению авантюры – поединка с Судьбой. Окружающие для него – зрители этого единоборства или пешки, при случае без колебаний приносимые в жертву. Да и цели их совместной работы – чепуха, не заслуживающая того, чтобы всерьез о ней думать и уже сегодня закладывать нравственные основы пореволюционного устройства жизни. Поэтому Гарин с его культом «победы-невзирая-ни-на-что» без малейших угрызений совести прибегает к любой низости – подкупу, интригам, пыткам, убийствам втихомолку.
Победа, приковавшая помыслы этого ницшеанца от революции, ускользает, однако, из его рук. Не может не ускользнуть, учитывая то, как именно он ее понимает. Ему, правда, удается достигнуть ряда непосредственных успехов: наладить оборону города и отбить вражеское наступление. Принеся Гарину несколько минут горделивого торжества, все это тем не менее никак не может удовлетворить его подлинных домогательств. Потому, в частности, что безграничная – «богоравная» – независимость, о какой он помышлял, оказывается миражом горячечного ума: развертывание событий стачки имело свою логику, и он был волен в достаточно жестких пределах ее допусков, но не волен ее опрокинуть. Он повелевал постольку, поскольку так или иначе сам повиновался ходу вещей, способствуя его успешному проявлению. Но отнюдь не хозяйничал безраздельно. «И подумать только, что всю мою жизнь я гнался за свободой! – с горечью осознает Гарин то обстоятельство, что, использовав его помощь и способности в пору подполья и вооруженной защиты города, одерживающее победу дело теперь потихоньку выталкивает стороннего “спеца”. – Служить – вот что я всегда ненавидел… А кто служил здесь больше, чем я, и лучше меня?»
Другая причина этого поражения, гнездящегося в недрах победы, – сама непомерность ожиданий, вложенных во всю затею. Ведь при всех своих недюжинных задатках, при всем добытом им для себя могуществе, Гарин остается обычным смертным, беспомощным хотя бы перед недугами собственной плоти, перед ее неминуемым износом. И следовательно, выиграть окончательно тяжбу чуть ли не с самим мирозданием, «спастись» в псевдохристианском смысле ему не дано. Подчеркивая эту хрупкость, заведомо чреватую смертным исходом, Мальро награждает Гарина тропической лихорадкой. Приступы ее все учащаются и нарастают, скептически оттеняя каждое очередное его достижение, и к концу вынуждают под страхом смерти покинуть южные края. Для него это непоправимо: ведь все победы забастовки не могут возместить личного поражения тому, кто посредством нее сводил сугубо личные счеты со всем сущим. Авантюристу метафизической закваски чудится, будто он схватил за горло саму Судьбу, но, сжав пальцы, он не обнаруживает в кулаке ничего, кроме пустоты. Замыслы его были обречены изначально, надежды обрести смысл в «самообоженье» провалились.
Впрочем, кое-какой – отрицательный – результат был все-таки Мальро получен. Выяснилось, между прочим, что самодостаточное действие, которое сводится к героическому «развлечению пришедшей в отчаяние души» (Г. Марсель)[62]62
Приводится в кн.: Шкунаева И. Современная французская литература. М., 1961. С. 127.
[Закрыть], явно недостаточно для выработки ценностей, могущих служить нравственной опорой и залогом торжества личности над Судьбой. Стало очевидно, что само по себе дело, даже блистательно осуществленное, есть полая оболочка до тех пор, пока содержательное наполнение ее не почерпнуто из добротного источника. Здесь необходимы «для» и «ради» – достойная, и при том самоценная, а не служащая внешним поводом цель, которая призвана освятить дело.
В «Королевской дороге», задуманной одновременно с «Завоевателями», но выпущенной два года спустя, Мальро как бы перепроверяет еще раз ход и выводы схватки авантюриста со своим «уделом». И для этого прибегает к материалу предельно очищенному, без отвлекающих в сторону «предлогов» и замутняющих «примесей». Единоборство Гарина с Судьбой протекает на ристалище, где есть множество других участников и свидетелей, где развертывается революционное столкновение угнетенных и угнетателей, – Перкен из «Королевской дороги» подвизается в горах Индокитая в одиночку. Почти без помощников, на собственный страх и риск ведет он ожесточенную войну с самой природой и всем светом, будь то непокорные племена или колониальные власти.
Соблазнившись предложением более или менее случайного попутчика-археолога, он пускается в опасную экспедицию по ограблению древних кхмерских храмов, подобную затее молодого Мальро. Но преодолев нечеловеческие трудности путешествия с громоздким каменным грузом сквозь тропический лес, он в стычке с туземцами напарывается на отравленный шип и умирает на подходе к основанному им «королевству», укрепить оборону которого и намеревался с помощью денег, вырученных за спиленные изваяния. В отличие от своего предшественника, авантюриста-«революционера», он авантюрист чистой воды и старинной закалки, переселившийся в XX век. Его тоже подстегивает «неотступное наваждение смерти», у него тоже «отсутствие смысла жизни стало предпосылкой действия». Но ему проще вычленить из сопутствующих обстоятельств самую суть запроса, подсказанного бренностью существования на земле и загнавшего его в джунгли: упорно сколачивает он свое собственное «независимое королевство», чтобы «жить в памяти большого количества людей и, быть может, долго. Я хочу оставить шрам на карте». След, рубец в память о себе, не важно какой, лишь бы он подольше сохранился, – таково последнее Геростратово «исповедую» подобного душеспасительного бунтарства в русле скрыто-религиозного неверия.
Но ведь след бывает и от злодейства, а значит, искомые ценности-заменители здесь в лучшем случае двусмысленны, в худшем – насквозь нигилистичны, псевдоценности. Они – поверх добра и зла и к гуманизму касательства не имеют. К тому же суета сует тешащих одну гордыню «шрамов на карте» воочию обнаруживается на краю могилы, и тогда мучительно-безответное «зачем смерть?» опять повисает с неприступной загадочностью. Из жизни же по-прежнему уходят жертвами, отнюдь не победителями.
На первых порах интеллигент-«метапрактик» у Мальро барахтается в ценностной пустоте своего утратившего духовно-смысловое обеспечение общества, против которой порывается бунтовать и к которой продолжает, однако, прибегать как к воздуху собственного «смыслоискательства». Пока он всего лишь отщепенец, зараженный всеми недугами лона, откуда стремится выпасть. До «попутчика» ему еще далеко.
А между тем уже в «Завоевателях» где-то сбоку от повествовательного стержня мерцали проблески иных побуждений, позволявшие надеяться, что есть такая зацепка, благодаря которой и саму смерть можно из бессмыслицы обратить в осмысленную победу. Прикованный к постели болезнью, Гарин размышляет о бастующем городе: «Сколько людей сейчас мечтают о победах, хотя два года назад они и не подозревали, что это возможно! Я создал их надежду. Их надежду. Я не охотник до громких слов, но ведь в конце концов надежда людей и есть смысл их жизни». Выкладки холодного ума, поглощенного метафизической сверхзадачей, низводят избавление угнетенных от нищеты и скотской забитости до уровня задачи проходной и подчиненной – малозначительного предлога. Однако в сокровенных уголках сердца шевелится догадка, что эти как будто скромные, зато достижимые цели способны заполнить живым смыслом зияющие пустоты души, похоронившей Бога и измаявшейся в тоске. Послужить личности высшим оправданием ее жизни, ее дел и, быть может, самой ее смерти. А коль скоро такое предположение обещает немало, других же все равно нет, то сам собой напрашивается выход – попробовать опрокинуть иерархию «запросов»: упования личностно-бытийные подчинить устремлениям житейски-историческим. Задаче побочной придать весомость сверхзадачи.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?