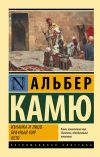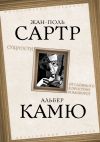Текст книги "В поисках утраченного смысла"

Автор книги: Самарий Великовский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
2
Не часто писатели столь охотно и чуть ли не навязчиво, как Мальро, выпячивают на всеобщее обозрение самые свои заветные, самые корневые слова. Ключевые слова Мальро – «удел человеческий». Правда, само словосочетание не изобретено Мальро, а позаимствовано им у Паскаля – мыслителя, от которого он ведет свою духовную родословную. В «Орешниках Альтенбурга», как бы поясняя задним числом это выражение, за десять лет до того уже послужившее заголовком для самой прославленной его книги, Мальро прямо отсылал к отрывку из «Мыслей» Паскаля: «Вообразите себе множество людей в оковах, и все они приговорены к смерти, и каждый день кого-нибудь убивают на глазах у остальных, и те понимают, что им уготована та же участь, и глядят друг на друга, полные скорби и безнадежности, и ждут своей очереди. Это и есть картина удела человеческого»[39]39
Паскаль Б. Мысли // Ларошфуко Ф. де. Максимы. Паскаль Б. Мысли. Лабрюйер Ж. де. Характеры. М., 1974. С. 150.
[Закрыть].
Справиться с ужасом этого зрелища верующему Паскалю помогали упования на загробную жизнь и промысел Всевышнего, пусть неисповедимый, но все-таки предполагаемый с немалой долей убежденности. Поэтому в знаменитом паскалевском «пари», которое мыслитель перед лицом молчащих небес заключает с собственной мыслью и приглашает заключить остальных, ставка делается на то, что они все же обитаемы: «Бог есть или Его нет. Но как решить этот вопрос? Разум нам тут не помощник: между нами и Богом – бесконечность хаоса. Где-то на краю этой бесконечности идет игра – что выпадет, орел или решка. На что вы поставите?.. Давайте взвесим ваш возможный выигрыш, если вы поставите на орла, то есть на Бога. Выиграв, вы обретете все, проиграв, не потеряете ничего. Ставьте же, не колеблясь, на Бога»[40]40
Там же. С. 154.
[Закрыть].
Иначе обстоит дело у дальних преемников Паскаля в XX столетии, вроде Мальро, застигнутых бесспорными «сумерками богов». Смертный «удел» у Мальро весьма напоминает христианскую «бренность» жизни посюсторонней – «тварной» и конечной («прах еси, и в землю отыдеши»). За вычетом, однако, любых, пускай шатких, мистических утешений в виде бессмертия души. По существу, это – очередная мифологема первородного греха, только на сей раз обмирщенная. «Удел» просто-напросто дан каждому как непосредственная и совершенно необъяснимая очевидность, как почти физическое ощущение случайности своего появления на свет и своего бесследного исчезновения потом в провале пустого ничто, вечного отсутствия. «Смерть бродит где-то совсем рядом… и есть неопровержимое доказательство абсурдности жизни» («Королевская дорога»)[41]41
Malraux Andre. La Voie Royale. P., 1968. P. 157.
[Закрыть]. Когда память об этом «скандале бытия»[42]42
Именно бытия, а не отдельной жизни, в том числе своей собственной. Мальро не раз это подтверждал личным бесстрашием. За две недели до смерти, в последнем своем интервью, он имел основания сказать: «Для меня проблема смерти чрезвычайно важна метафизически, но отнюдь не психологически. Сама кончина, умирание мне не интересны… Меня интересует то, что Кьеркегор называл “скандалом”, непоправимым событием. Именно это меня интересует, а вовсе не сопутствующие явления. В конце концов смерть – это самый сильный способ подключаться к смыслу жизни. Говорить о смерти наиболее осознанно – это значит говорить о смысле жизни» // L’Express, 8/14 nov. 1976. P. 31.
[Закрыть], обычно приглушенная текучкой повседневных дел и забот, всплывает в уме с резкой отчетливостью, существование человека обессмысливается – рисуется ему уныло растянутым ожиданием исхода, неуклонным приближением к могиле.
Недобрая доля людская, впрочем, лишь особенно зримо обнаруживается, но далеко не исчерпывает себя в том простом и для каждого непреложном обстоятельстве, что все без исключения смертны, а люди – единственные существа на земле, кому дано об этом знать, помнить и думать. Ведь предвестья ухода в небытие настоятельно напоминают о себе чуть ли не каждодневно нашей подверженностью болезням, немощам, одряхлению. «На меня давит, – мечется в отчаянии один из героев «Королевской дороги» Мальро, – как бы это получше выразиться, удел человеческий: тот факт, что я старею, что во мне разрастается, подобно раку, эта жуткая штука – время. Да, именно так: время». Помимо этого бессилия совладать с необратимостью каждого очередного мига, по-своему предвосхищает смерть, с точки зрения Мальро, и неповторимость каждого из нас. Невозможно, за редчайшими исключениями, проникнуть вполне в душу других, даже очень близких и родных, как в свою собственную; а им, в свою очередь, невозможно разделить изнутри наше самосознание. Старая истина, что каждый умирает в одиночку, распространяется Мальро и на жизнь, выражая одну из существеннейших сторон «человеческого удела».
Что же до философской сути смерти, то она, по Мальро, в том, что, обрывая жизнь, смерть знаменует собой роковую черту, где самодеятельный «мыслящий тростник» Паскаля превращается в бездуховное тело. После этого он всего лишь предмет среди прочих предметов, лишенный внутренних возможностей что бы то ни было предпринять и обреченный покорно претерпевать круговорот природы, подобно капле воды или камню. «Самое главное в смерти – то обстоятельство, что она делает непоправимым все ей предшествующее, непоправимым навсегда… Трагедия смерти состоит в том, что… с этого момента уже нельзя возместить упущенного раньше» («Надежда»). Отныне то, что было личностью и уравнялось с вещью, не в силах восполнить, хотя бы отчасти и чем-то переиначить свое прошлое, придав другую значимость пройденной жизненной дороге. Отныне у этой «вещи» нет и власти над своим будущим, свободы так или иначе распорядиться собой, сводись она даже – в самых безвыходных положениях – к свободе умереть. В свете намеченного Мальро и затем пространно развернутого другими, в первую очередь – Сартром, философского анализа смерти она есть не что иное, как полная и безвозвратная потеря свободы выбора.
Но в таком случае у смерти, мыслимой как предельная несвобода, бывает и свой, так сказать, нравственно-житейский прообраз в виде опустошенного прозябания. Когда личность повинуется одной привычке, принятым вокруг и не осознанным самостоятельно обычаям, заемным ценностям, внутри нее исподволь и постепенно происходит то, что зовется овеществлением и омертвением души. Мещанское житье-бытье основано на отказе от свободы воли и, следовательно, столь неподлинно, что тяготеет к не-существованию. Здесь опять-таки задолго до смерти ее скрытая и неотвратимо надвигающаяся угроза находит еще один способ дать знать о себе как о непременном в глазах Мальро условии и постоянно присутствующем измерении – метафизической участи человека, его неизбывном «уделе».
Бремя этой, согласно Мальро, безотрадной истины всех истин тем тягостнее, что она одновременно есть полнейшая загадка. Знание своего «удела», которое, собственно, и отличает человека от всех прочих существ на земле[43]43
«“Что означает жить?” – вот самое упорное вопрошание. И я строю предположение, а не возник ли человек как таковой, когда он впервые перед трупом другого прошептал: “Почему?”. С тех пор он множество раз повторял этот вопрос – поистине неутомимое животное». – Malraux Andre. Lazare. P., 1974. P. 40.
[Закрыть], совершенно прозрачно для каждого – и тем не менее ставит взыскательную мысль в тупик. Ведь оно – последнее, в чем может быть достигнута ясность, и, в свою очередь, не выводимо из более глубоких, всеобъемлющих достоверностей. Когда наш ум пробует допытаться, отчего и зачем все так устроено, почему выпавший нам жребий быть смертными, а не бессмертными, то единственный различимый ответ – гробовое молчание вокруг. В нем невозможно уловить мало-мальски доступный людскому разумению намек на смысл, заложенный в таком распорядке вселенной. Разве что своим безмолвием она указывает если не на царящую в ней бессмыслицу, то на отсутствие в ней умопостигаемого смысла. «Ключ человеческий не подходит к мирозданию», чьи первопричины и сокровенные цели остаются тайной за семью печатями.
А стало быть, ложны и тщетны намерения усмотреть в мироустройстве мнимое «благоустройство», изыскивая в нем проблески доброжелательной расположенности к людям. Скорее оно попросту к ним безразлично, глухо и слепо к их надеждам, ожиданиям, помыслам. «Расщелина между каждым из нас и вселенской жизнью» («Орешники Альтенбурга») образована уже одним тем, что эта жизнь протекала, протекает и впредь будет протекать независимо от наших упований, не внемля нашим запросам. Отсюда – уязвленное переживание человеком как существом одухотворенным своей чужеродности в потоке материального бытия, который своей громадой и бесконечностью обостряет щемяще тоскливое чувство конечности отпущенных нам дней. Больше того, раз этот неподвластный нам поток, куда «мы волей случая заброшены посреди изобилия материи и звезд», бесследно стирает с лица земли одно поколение за другим, то он видится не просто чуждым. Он еще и угрожающ, зловещ, явно враждебен – примерно таков, каким в древнегреческих трагедиях рисовался Рок, Судьба. Именно это последнее слово и берет на свое философское вооружение Мальро, оговаривая лишь зависимость вкладываемого в него смысла от своего стержневого понятия: «Судьба… есть совокупность всего того, что навязывает человеку сознание его удела» («Голоса безмолвия»)[44]44
Malraux Andre. Les Voix du Silence. P., 1951. P. 628.
[Закрыть].
Само по себе предпочтение, оказанное слову дохристианскому вместо близкого к нему на первый взгляд «провидения», по-своему примечательно. Прежде всего потому, что провидение в глазах христианина, с какими бы вопиющими несуразностями и бедами он ни сталкивался, в конечном счете оправдано как сила благая и могущая даже известить об этом своих избранников, даруя им откровение. Судьба у Мальро совершенно непостижимая и безоговорочно враждебная нам стихия – «Зло есть первородный грех вселенной». Когда само слово «судьба» не высказано впрямую, а угадывается между строк, незримо витает над страницами его сочинений, выражения-заместители подбираются из близкого ряда: «фатальная сила», «демоническое начало», «дух зла».
Присущи слову «судьба» под пером Мальро и какая-то зыбкость, расплывчатость, уклончивое сопротивление любым попыткам внятно разъяснить упорно ускользающее значение. Недаром Мальро уточнял его вновь и вновь, стараясь уменьшить долю неопределенности, остающуюся при любых расшифровках и заверениях относительно достигнутой будто бы наконец отчетливости. Подробнее всего это было сделано в одной из статей 1938 г.: «Под судьбой здесь подразумевается нечто вполне определенное: осознание человеком равнодушного к нему и смертоносного космоса, вселенной и времени, земли и смерти»[45]45
Malraux Andre. De la repre1sentation artistique en Orient et en Occident // Verve. № 3. 1938. P. 69.
[Закрыть]. Нельзя, пожалуй, сказать, чтобы и этот перечень обладал достаточной степенью проясненности. Прежде всего потому, что в таком виде «судьба» не имеет сколько-нибудь однозначно истолкованного содержания – мистического (скажем, божественный промысел) или рационалистического (законосообразность природы и истории). Она наделена лишь отрицательными признаками и есть все то, что не есть отдельная личность, – все сущее, исключая человека (вернее, его не подвластную дурным разрушительным вожделениям часть), «все, что нам не поддается, над нами тяготеет, нас превосходит и уничтожает» («Голоса безмолвия»). «Судьба», по Мальро, – это состояние и ход вещей вокруг и отчасти внутри нас как они воспринимаются мыслью, которая удручена неспособностью ими овладеть и потому находится с ними в особого рода отношении – отношении непреодолимого разрыва, опасливой настороженности и тревожного непонимания.
Поэтому в повествовательной ткани у Мальро-писателя представительствовать от лица непостижимой и вездесущей «судьбы» обычно поручено самой обстановке действия. Окружение – будь то город и особенно природа – возникает в поле пристального зрения как нечто наглухо замкнутое в себе, безучастное к людским страстям и упованиям. И в своей огромности настолько с ними несоразмерное, что уже одно сравнение заставляет содрогнуться.
В «Королевской дороге», где два путешественника-европейца в поисках развалин камбоджийского храма с невероятным трудом продираются сквозь заросли тропического леса, тягостная окраска большинства пейзажных зарисовок Мальро проступает во всей сгущенности. Джунгли – разгул произрастания и одновременно «царство гнили», насыщенное отравой влажных испарений, залитое «мутным светом». Попасть сюда значит очутиться «вне мира, где человек принимается в расчет». Растительность, насекомые, болотная топь под ногами – все здесь отвратительно кишит, липнет к телу, засасывает, дурманит, разлагается, норовит ужалить, оцарапать, хищно поглотить, все вызывает дурноту, таит опасность, внушает тоскливые страхи. Россыпи зримых деталей – свидетельств незримой угрозы, подстерегающей на каждом шагу, рано или поздно увенчиваются своего рода космическим «прозрением». И это движение взгляда от предельно приближенных подробностей к пределам обозримого и куда-то еще дальше в подразумеваемую бесконечность само по себе исподволь подводит к мысли о затерянности человека посреди безбрежного и недоброго пространства: «От стены деревьев в далях, сливавшихся с ночью, от неба, где звезды зажигались ярче, чем огонь костра в первобытном лесу, исходила медленная и непомерная сила падающего в бездну дня, навевая чувство одиночества, уподобляя жизнь загнанному зверю. Она затопляла душу своим неодолимым безразличием, уверенностью в смерти… Окончательно спустившаяся ночь, неслышно утвердившись на всем безлюдье просторов, поглотила самые отдаленные земли Азии. Мысль всплывала вверх, но она была пропитана насквозь памятью о глубинных недрах, откуда вырвалась, подавлена всемогуществом сверхъестественного, которое источали ночь и спаленная земля, и казалось, будто все, вплоть до почвы, взялось убедить человека в его ничтожестве и тщете»[46]46
Подобные изобилующие у Мальро сопоставления «равнодушной безмятежности звезд», «геологического спокойствия» Земли, «недвижимой вековечности» космоса, с одной стороны, и человеческих забот и поступков – с другой, сам писатель отнюдь не считал собственной находкой: «Романист располагает и еще одним способом выразить свою мысль, состоящим в том, чтобы связать решающий момент в жизни своего персонажа с окружающей его атмосферой или космосом. Конрад применяет этот прием почти систематически, и Толстой создал тем же путем одну из самых прекрасных сцен в мировом романе – ночь после Аустерлица, когда князь Андрей созерцает облака». – Malraux Andre. Scenes choisies. P., 1946. P. 332.
[Закрыть]. Описание, перемещаясь от присутствующего совсем рядом к едва охватимому взором (в кино бы сказали: от самого крупного к самому общему из возможных планов), изнутри насыщено и затем впрямую продолжено раздумьем, которое призвано перекинуть мостик между житейскими очевидностями и бытийной правдой относительно «судьбы» и «человеческого удела» как они понимаются Мальро.
3
Все это воплощенное в самой повествовательной ткани, а при случае и умозрительно выстроенное философствование об «уделе» личности, увиденном сквозь призму неотвратимой смерти, отнюдь не подает себя как нечто относящееся ко всем народам, векам и культурам. Мальро не делает секрета из того, что его мысль имеет питательную среду во вполне обозримой духовно-исторической почве. Из своих наблюдений над «метаморфозой» цивилизаций, сменявших одна другую на земле, он выводит вполне отчетливое заключение об исторической заданности и обыденного самосознания, и духовного творчества: «Осмысление сосредоточено лишь на том, что предлагает нам осмыслять история» («Орешники Альтенбурга»).
Правда, историзм Мальро переносит упор почти исключительно на культуру. Он ограничивается тем, что берет за основу при различении цивилизаций присущий им всем, но всякий раз особый взгляд на «священное» – почитаемую божественно-совершенной ценность, при помощи которой люди так или иначе справляются с вечно их мучающей загадкой смерти. От воплощенного в данной религии способа полагать и рисовать себе «священное», в свою очередь, зависит и весь уклад жизнечувствия – то, как личность воспринимает саму себя, других, свое место в природе и космосе. «Каждая очередная мыслительная структура возводит в непререкаемый абсолют некую отправную для нее очевидность – последняя упорядочивает жизнь, без нее человек не способен ни мыслить, ни действовать… Для человека она как вода аквариума для плавающих там рыб. Она объемлет человека со всех сторон и всецело владеет им, он же никогда ею вполне не владеет» («Орешники Альтенбурга»). Разлитая в духовном пространстве определенной цивилизации, кристаллизуясь в строе преобладающих умонастроений и воплощаясь в памятниках культуры, эта принимаемая за непреложную очевидность стихия «священного» истолковывается Мальро сугубо изнутри нее самой. Замкнутая в собственных рамках, изолированно им взятая последовательность перестраивающихся самоопределений человечества в бытии ничем внешним, независимым от нее не порождается. Поэтому ее предпосылки, лежащие в «горизонтальном сечении» истории – в обстоятельствах общественно-исторического порядка, – от Мальро ускользают. Однако историзм такого одномерно-идеалистического свойства улавливает развернутую в глубину прошлого «вертикаль» – предысторию вычлененного из сложной совокупности своих опосредований миросозерцательного ряда, к которому он сам принадлежит. Историософский самоанализ трагического гуманизма в сочинениях Мальро до известной степени проливает свет на тайну происхождения «смысло-утраты».
Напряженное личностное самосознание, которое выделяет своего носителя – человека из бездуховного природного окружения и утверждает самоценность каждого существа, наделенного разумом и внутренней неповторимостью, присуще, согласно Мальро, далеко не всем известным нам цивилизациям. При строгом подходе гуманистическое миро– и жизне-понимание, считает он, должно быть названо детищем Запада, поскольку оно – за редкими исключениями, подтверждающими правило, – не находимо в древних культурах Востока. Если «дух Запада силится начертать упорядоченный мыслью план вселенной, придав ей умопостигаемый облик», то «дух Востока, наоборот, не наделяет человека самого по себе особой ценностью и всячески старается отыскать в колыханиях вселенной доводы в пользу ее свободы от человеческих уз. Один хочет принести мироздание в дар человеку, другой предлагает человека в дар мирозданию» («Искушение Запада»)[47]47
Malraux Andre. La Tentation de L’Occident. P., 1926. P. 154–155.
[Закрыть]. Все, что умещается в пределах, измеряемых протяженностью и длительностью отдельной человеческой жизни, равно как и все, что относится к потоку истории, составляет для древнего Востока, по наблюдениям Мальро, царство неподлинности, «видимости». «Истина же пребывает в том времени, которое не есть время людей, а время собственно священного» («Метаморфоза богов»)[48]48
Malraux Andre. La Metamorphose des Dieux. P., 1957. P. 11.
[Закрыть].
И поэтому предписываемая восточной мудростью добродетель – в беспрекословном повиновении природному и вечному. А провозглашаемое наивысшим благо – созерцательный покой, когда рассудок как бы отключен и тело словно растворяется в вещной плоти окружающего, каждой своей клеточкой отзываясь на таинственное биение материальных стихий.
Личность здесь, следовательно, пока почти не обособлена. Она еще не выделилась из космического целого, а безропотно и даже с признательностью принимает все ей ниспосланное. Она испытывает безоговорочное доверие к правоте сущего, полагает священным его круговорот, хотя он и стирает человеческую пылинку с лица земли, и не задается вопросами насчет справедливости этой своей участи. В фатализме еще нет трагедийности, он по-своему просветлен. Сама смерть не страшит и не вызывает особого протеста, когда рабство у Судьбы переживается как должное, единственно возможное и, больше того, благодатное.
Первый сокрушительный удар по этому самозакланию человека на жертвеннике космически-«священного» нанесло «греческое чудо» – открытие индивида как независимой и свободной личности с вытекающей отсюда посылкой, что «все на свете измеримо масштабом и напряженностью человеческой жизни… Грек воспринимает себя выделившимся из мира… На смену сознанию, хочется сказать – почти ощущению себя простой частицей вселенной, приходит осознание себя существом живым, самоценным, отделенным» («Искушение Запада»). Конечно, внутри поля зрения древнегреческой цивилизации, особенно ранней, полновесно присутствует и то, что во веки веков не подвластно уму смертных, спрятано под покровом тайны и принадлежит веденью богов. Однако мирозданию, перед непостижимостью которого прежде попросту склонялись в смиренном благоговении, отныне задаются дерзкие испытующие вопросы. А это само по себе предполагает в нем доступную мысли упорядоченность. Больше того, если последняя не может быть исчерпывающе раскрыта, то к ней все-таки возможно причаститься в духовном творчестве, которое недаром воспринимается как деятельность «богоравная». Частица божественного прозревается в самом человеке, как, впрочем, и доля человеческого – в богах.
Далее, уже одно то, что взаимоотношения человека и рока нередко оборачиваются трагическим разрывом, по-своему свидетельствует о сравнительной личностной самостоятельности. Покорному претерпеванию Судьбы греческая культура в своих взлетах начинает противопоставлять попытки обрести свободу в столкновении с Судьбой. Мало-помалу завороженное созерцание «священного» вытесняется настойчивым вопрошанием и деятельным соперничеством. «В первый – но отнюдь не в последний – раз возникает мир, где человек отваживается черпать свои ценности из собственных запросов и самому себе предъявляет требование действовать в согласим с ними, а не просто быть в согласии с вечностью» («Метаморфоза богов»). Оттого-то Древняя Греция и стала прародиной гуманизма. К ее заветам европейская культура и будет возвращаться всякий раз, когда ей понадобится стряхнуть с себя духовное бремя, гнетущее личность и подрывающее ее доверие к самой себе.
На извилистых дорогах дальнейшего становления гуманизма, как они прослеживаются Мальро, христианство имело определяющее и вместе с тем крайне двойственное значение.
С одной стороны, краеугольная для христианского подхода к человеку легенда о грехопадении прочно закрепила в умах европейцев взгляд на себя как на заслуживших свою кару изгнанников творения. «Переворот христианства заключался в том, что рок теперь поселился внутри человека и получил основание в природных вожделениях» («Орешники Альтенбурга»). Но те, кто однажды выломился из первоначального порядка вещей, предоставлены себе, свободе самостоятельного выбора. Помыслы христианина о «небесном спасении» воспитывают в нем чувство личной ответственности за свои поступки в здешнем, посюстороннем существовании. А значит – подспудно вырабатывают самосознание частицы, отлученной от целого, хотя и располагающей возможностью заслужить своими делами право когда-нибудь вернуться в его лоно. Отсюда одновременно и слабость и сила христианского жизнечувствия: слабость, заключающаяся в том, что оно «всегда тяготеет к одиночеству как своему пределу» («Черный треугольник»)[49]49
Malraux Andre. Le Triangle Noir. P., 1970. P. 27.
[Закрыть], «сила, состоящая в том, что обладаешь жизнью особенной, отдельной от Бога» («Завоеватели»)[50]50
Malraux Andre. Les Conquetrants // Malraux Andre. Romans. P., 1947. P. 121.
[Закрыть]. К этому добавляется «богочеловеческая» окраска всего христианского миросозерцания: находящийся в его сердцевине «Сын Божий» Христос рожден женщиной, подвизается в житейской повседневности и претерпевает все муки обычного смертного. Поэтому «ни одна из цивилизаций… не выражала столь полно священное при помощи человеческого» («Метаморфоза богов»).
Но с другой стороны, христианство, как и всякая религия, продолжало крепко сковывать порыв человека к совершенно независимому самочувствию. Оно духовно закрепощало уже одним тем, что вынуждало поверять свои поступки мерилами неотмирными, сверхчеловеческими, которые почитались раз и навсегда изреченными истиной и благом. Земные нужды искажались этой всегдашней оглядкой на небеса, земные дела взвешивались на весах нездешней справедливости, земные беды предписывалось сносить ради потустороннего блаженства.
Возрождение, а вслед за ним особенно просветительский XVIII век пробили брешь в этом мистическом самоотчуждении личности. Затем бурный рост в XIX столетии естественнонаучного и исторического знания еще сильнее подорвал устои христианства. «Смерть Бога» в душах людских, возвещенная Ницше, прозвучала на пороге XX века, по мнению Мальро, как отходная былому невольничеству и благовест окончательного возврата человека к себе. Пробил час цивилизации, в которой впервые, как не уставал повторять Мальро из книги в книгу, из статьи в статью, «религиозный остов, имевший всегда основополагающее значение, утрачен»[51]51
L’Express, 3/9 nov. 1975. P. 113.
[Закрыть]. Нет больше общепризнанного трансцендентного абсолюта, он разменивается на мелкую монету. Насаждаемая любым вероисповеданием «всеупорядочивающая Ценность дробится на множество ценностей» («Голоса безмолвия»). Ценностей собственно гуманистических и самодостаточных, поскольку они впрямую, без посредничества свыше, выражают соотнесенность человека с самим собой и другими людьми, с человечеством в его многовековом становлении.
Впрочем, столь существенная ломка затянулась надолго и протекала крайне болезненно. Обрыв религиозной пуповины, которая прикрепляла умы к некоему вседержителю конечных смыслов и целей бытия, нес с собой, помимо обретенной самостийности, и свои трудновосполнимые потери. У верующего был незримый «собеседник», вроде бы бравшийся внести ясность в самые мучительные недоумения, утешить в самых безысходных обстоятельствах, оправдать то, чему с точки зрения отдельной личности оправдания не находилось. От живого Бога можно было надеяться, скажем, получить если не вполне достоверный, то облегчавший душевную муку ответ на «проклятый вопрос»: «Зачем смерть?». Мертвый Бог хранил молчание. И «никаким промыслом Всевышнего, никаким грядущим воздаянием, ничем нельзя было освятить конечность человеческого существования» («Королевская дорога»). «Богооставленность», согласно Мальро, порождает неистребимый трагизм самосознания, застигнутого развалом христианства.
Правда, переживающая столь крутой сдвиг западноевропейская цивилизация на первых порах пробует заполнить образовавшуюся пустоту, облегчить боль и тревогу утративших веру тем, что настойчиво приглашает их забыться, уйдя с головой в насущные дела по материальному устроению жизни. Каждая из обмирщенных ценностей, в свою очередь, бессознательно обожествляется, возводится в культ. Но всякий раз подобные подстановки оказываются тщетными и кратковременными. Тщетными потому, что найденные было «заменители» предназначались для другого, не для «спасения души». Кратковременными потому, что быстро обнаруживали свою изнанку.
Так, культ знания и инженерно-технического обуздания природных стихий, наряду с несомненными достижениями, был чреват и наращиванием невиданной разрушительной мощи, угрозы катастрофических потрясений. Впрочем, дело даже не в бесчеловечном применении достигнутого естественными науками, а в изначальной несостоятельности сциентистского идолопоклонства. Ведь оно берется не за свое дело, когда переносит выработанные христианством мыслительные привычки, строй запросов и душевную настроенность на совсем иные, светские, но перетолкованные в старом ключе духовно-исторические образования. Мало-помалу становилось ясно, что науки (равно как и те или иные граждански-политические веяния), справляясь с собственными задачами, сами по себе не способны, однако, «разрешить трудности личностного существования» («Голоса безмолвия») – послужить поставщиками не просто знания или прикладного умения, а сверх того еще и смысла человеческой жизни или, что то же, разгадки смерти. «Любая из мировых религий при помощи своих мифов и преданий одновременно и объясняла мир, и делала его значимым. После дарвиновской эволюции объяснение мира впервые не привносит в него смысл… Нет науки, которая бы не считала истину высшей ценностью. Но эта истина есть высшая ценность только для самих исследователей. Ошибаются, когда слишком легковесно воспринимают слова одного из героев Достоевского[52]52
В «Бесах» в одной из бесед Шатов напоминает Ставрогину: «Не вы ли говорили мне, что если бы математически доказали вам, что истина вне Христа, то вы бы согласились лучше остаться со Христом, нежели с истиной?».
[Закрыть]: “Если бы мне пришлось выбирать между Христом и истиной, я бы остался с Христом против истины”. Новейшее божество, наука, может сделать больше всех своих предшественников, потому что может уничтожить самую Землю. Но она – немой бог» («Лазарь»). Поэтому «наша цивилизация, будучи способна покорить весь земной шар, не способна, однако, изобрести собственные храмы и собственные гробницы» («Антимемуары»)[53]53
Malraux Andre. Antimemoires. P., 1967. P. 11.
[Закрыть]. «С тех пор как она утратила надежду обрести смысл мира в науках, она лишилась всякой духовной цели» («О европейской молодежи»)[54]54
Malraux Andre. D’une jeunesse europeenne // Ecrits (Les Cahiers verts. № 70). P. 145.
[Закрыть]. Преклонение перед Разумом, завещанное просветителями, спустя полтора-два века на Западе изрядно сникло, и отныне «важнейшую роль играет… сознание неспособности разума упорядочить жизнь» («Голоса безмолвия»).
Подобные же злоключения претерпевают в позднебуржуазном обществе и прочие ценности, торжество которых предсказывали его идейные предтечи – просветители и их преемники. Они приветствовали приход демократии, но «мы знаем, что она несет в своем чреве капитализм и всеопутывающую власть полиции» («Голоса безмолвия»). Они провозглашали свободу для всех и каждого, но культ собственной личности у буржуазного индивида обернулся разгулом корысти и своеволия, когда «самость» иной раз утверждала себя на костях других под клич «все позволено», вплоть до пыток и лагерей смерти. Они учредили, как последнее освящение помыслов, трудов и жертв, либерально-светскую «религию Прогресса», усмотрев в истории неуклонное и гладкое восхождение к вершинам благоденствия и суля сложившемуся мироустройству безграничные, все более безоблачные дали впереди. Однако невиданные приступы человеконенавистнических страстей в мировых войнах нанесли сокрушительный удар по благодушным ожиданиям и заставили осознать, что цивилизации Запада не даровано, как и ее предшественницам, вечного бессмертия. «Огромные и безоговорочные надежды, возлагавшиеся человеком на будущее, перестали быть для нее несомненными» («Завоеватели»).
Словом, XX век изрядно поколебал прекраснодушную веру XIX-го в направляемое Разумом прямолинейное и необратимое шествие западного общества от победы к победе. Поворот исторических событий, считает Мальро, не оправдал предсказанного совершенствования, то и дело сбивал с толку, повергал в испуг коварнейшими подвохами. И умам, простившимся с божественным советчиком, больше не к чему было прибегнуть, чтобы унять свою растерянность и тревогу. Предоставленные самим себе, наедине с очевидностями своей смертной участи, они улавливали повсюду необъяснимый разгул враждебных судеб, слепого рока. «Удел человеческий» и мыслится Мальро как кодовый ключ трагических умонастроений, выплеснувшихся вследствие духовно-исторических сдвигов в кризисную пору заката человечества религиозного и серых предрассветных сумерек человечества безрелигиозного. «Расщелина» между личностью и сущим есть знамение этой переходной поры.
Все усугубляется для Мальро еще и тем, что науки поселили во внутренней структуре самого человека не менее смущающую расколотость и недоумение относительно того, что же он такое по своей сути. Взрыв этнографических открытий, касающихся совершенно разных обычаев, верований, уклада жизни и мышления множества племен и народов земли, былых и живущих поныне, размыл прежние понятия о «тождестве человека самому себе» на протяжении всей истории. Чрезвычайно затруднены, если не сделались вовсе невозможны, попытки вычленить из этой крайней разномастности совершенно устойчивое ядро, которое имело бы право обозначаться как «человеческая природа». Ведь по мере отслоения культурно-исторических переменных в остатке обнаруживается «инвариант» в виде как раз не-человеческого – животной телесности: «Все люди едят, пьют, предаются любви; но они едят разное, пьют разное, мечтают о разном. У них почти нет ничего общего, кроме того, что они все спят (когда спят без сновидений) и еще – умирают» («Орешники Альтенбурга»).
На эту, так сказать, смерть однозначного понятия «человек», последовавшую за «смертью Бога», работают по-своему и изыскания глубинной психологии. Ею установлено, что homo sapiens сплошь и рядом управляется вовсе не рассудком, что под коркой сознательного пласта кишит бессознательное, находя себе выход в смутных грезах, желаниях, порывах, всем поведении. Мальро далеко не безудержный поклонник фрейдизма, но для него «серьезный итог психоанализа в том, что психология за последние пятьдесят лет снова водворила демонов вовнутрь человека»[55]55
Malraux Andre. L’Homme et le Fantome // L’Express, 21/28 mai 1955. P. 15.
[Закрыть]. Открытая Фрейдом «демоническая стихия» как бы раздирает душу на две половинки, покушается на ее целостность и способна, оказавшись без узды, подмять человека под себя, превратить в игрушку полуживотных вожделений, низвести до уровня зверя. Да и без подобных крайностей само наличие «другого я» колеблет привычку выводить по старинке «естественную доброту» человека из урезанно-рассудочного толкования его «природы» как существа мыслящего и ставит перед задачей учесть в исходных определениях вскрывшуюся двойственность.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?