Текст книги "Друзья из Сары-Тепе"
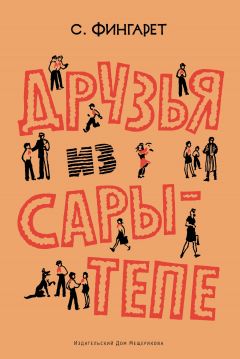
Автор книги: Самуэлла Фингарет
Жанр: Детские приключения, Детские книги
Возрастные ограничения: +6
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Глава III
В экспедиции было шесть человек: Борис Яковлевич, его помощница Нина Георгиевна, которую прозвали «археолог на все руки», художница Татьяна Васильевна, студенты Ленинградского университета – «археологи без пяти минут» – Лида и Лёня и Севкин папа, Андрей Петрович. Ещё был шофёр Саша. Ещё был Севка.
Рано утром Саша всех увозил на раскоп – и археологов, и рабочих. Севка шёл в школу. Ему теперь там не было скучно – у него появились друзья. Да ещё какие!
На другой день после знакомства Катя повела Севку на третий этаж. Там на длинной светло-серой стене висели яркие разноцветные рисунки.
– Специально против окон повесили и стенку в нейтральный фон выкрасили, – сказала Катя.
– Как настоящая выставка.
– Она и есть настоящая. Видишь, написано: «Выставка работ акварелей ученика четвёртого «Б» класса Карима Юлдашева». Акварели – это рисунки, выполненные акварельными красками.
– Знаю. – Севка принялся смотреть.
Сначала шли сплошные овцы. «Отара» – белые овцы сбились вокруг чабана в чёрной бурке, в чёрной лохматой шапке. «На пастбище» – белые овцы щипали зелёную траву. «У горного озера» – белые овцы пили синюю воду, на синем небе плыли белые облака.
– Овцы похожи на облака, – сказал Севка.
– Иначе и быть не может, – сказала Катька. – При правильном уходе овца похожа на пушистое облако. А эта акварель называется «Заблудился».
– Вижу. Маленький ягнёнок заблудился, а старый чабан его нашёл и несёт на своих плечах, потому что ягнёнок устал.
– Это каждый видит. Но ты, конечно, не знаешь, что чабан – это дедушка Карима, и акварель ещё можно назвать «Добрый пастырь»[7]7
Восходит к новозаветному сюжету, символическому именованию и изображению Иисуса Христа.
[Закрыть]. Художники всего мира изображали пастуха с ягнёнком, чтобы показать доброту человека.
– Здорово ты, Катерина, важничаешь.
– Ни капельки не важничаю. Умурзак Алимович на рисовании всё про это объяснил и картинки показывал. А вот и я.
– Точь-в-точь ты – лохматая и глаза как угли.
– Неправда. Глаза как звёзды, а кудри – ночь.
На всех рисунках Катька была рядом с Карлсоном или Карлсон рядом с Катькой. При этом Катька оставалась одинаковой, а Карлсон рос прямо на глазах и из маленького щенка, едва научившегося держать ушки, превращался во взрослого пса с острой мордой и толстыми лапами.
– Когда Карим успел нарисовать столько? – спросил Севка, разглядывая последний рисунок, на котором Катька и Карлсон смотрели через окно на сыпавший с неба снег. Внизу было написано: «Редкое явление в наших краях».
– Про овец – летом, остальное – осенью и зимой. Выставку сделали к Новому году и не снимают, потому что красиво. Наша школа гордится этой выставкой. Работы на выставку рекомендовал сам Умурзак Алимович.
Конечно, Катька важничала и нарочно произносила «взрослые» слова.
В классе Севка сказал Кариму:
– Замечательные у тебя рисунки. Каждый рисунок замечательный. Карлсон очень красивый, и Катьку и овец узнать можно. Вырастешь, художником будешь?
– Ты затронул больное место, – сказала Катя.
– Катя так говорит, потому что я ещё не решил, кем быть – художником или чабаном, – сказал Карим. – Я очень люблю рисовать и очень люблю овец и то, как чабаны с отарами живут в горах. Вот и не знаю, как быть.
– Действительно, трудное положение, – согласился Севка.
Поскольку было с кем поговорить на переменках, Севке легче стало молчать во время уроков. Правда, он попытался ещё три или четыре раза втянуть Тоню-Соню в разговор, но из этого совсем ничего не вышло. «Занимается воспоминаниями», – ехидно думал Севка. Даже подсказывать Тоне-Соне было бесполезно, даже учителей она не всегда слышала. Ариф Арифович, «дважды Ариф», как называли его ребята, на каждом уроке говорил:
– Шарипова, старайся быть внимательной.
– Я стараюсь, – отвечала Шарипова. А иногда молчала и смотрела куда-то вбок. Училась она неважно. Поэтому Севка очень удивился, когда на уроке русского языка учительница сказала: «Как же так, Шарипова, лучшая моя ученица, а запуталась в разборе простого предложения?». Значит, был хоть один предмет, по которому Тоня-Соня не только успевала, но и считалась лучшей.


После урока Севка спросил:
– Почему это у Шариповой два имени?
Карим с Катькой переглянулись, засмеялись и рассказали вот что.
Настоящее имя Шариповой Тоня – Антонина. Так её мама назвала. Мама у неё русская, а отец – узбек. Ещё у Тоньки есть шестеро старших братьев. Самый старший машинистом на электровозе работает. Все они мальчики, а Тоня – девочка, все они старшие, а Тоня – младшая. Вот мама её и обожает. Привела её в школу, в первый класс и всем говорила: «Моя доня, моя доня» – доченька, значит. Ребята услышали и подхватили: «Тоня-доня, Тоня-доня». А потом заметили, что Тоня-доня не то чтобы спит, но так, словно вот-вот уснуть собирается, ещё одно имя ей прибавили – стали звать «Тоня-доня-Соня», но чаще «Тоня-Соня». Все привыкли, даже учителя путают. А она ничего, не обижается – ей всё равно.
– Ей, наверное, вообще всё всё равно, – сказал Севка.
– Как бы не так.
– Ты ещё не знаешь нашу Соню.

К концу первой недели Севка перезнакомился со всеми ребятами из четвёртого «Б» и с некоторыми – из других классов. Но дружить он продолжал с Катей и Каримом.
В субботу они позвали его на базар.
Суббота – день замечательный.
Во-первых, потому, что завтра воскресенье, во-вторых, в субботу у всех, даже у старшеклассников, всего по три урока. Это для того, чтобы ребята из ближних кишлаков могли рано домой уехать. Кате, Карлсону и Кариму уезжать никуда было не нужно.
В субботу они обязательно шли на базар.
– Зачем? – спросил Севка.
– Увидишь, – сказали ему.
Базар был рядом. В этом городе вообще всё было рядом, особенно от площади.
Людей на площади было видимо-невидимо. И все такие праздничные, нарядные. Полосы шёлковых халатов вспыхивали сине-зелёным огнём. Красные шёлковые платья пестрели разводами, красные тюбетейки переливались золотым шитьём. У некоторых aпa («aпa» – значит «старшая сестра», такое здесь есть почтительное обращение) головы были покрыты высокими тюрбанами, обмотанными красной тканью. Так много красного Севка видел только на первомайских демонстрациях.
– Ну и ну, – сказал он, когда они пересекали площадь, – интереснее, чем в Музее этнографии.
– В каком таком музее? – небрежно спросила Катька. Она терпеть не могла, когда в разговоре употреблялось незнакомое ей слово.
– Эт-но-графии. Там про разные народы. Как они живут, какие одежды носят. И оружие есть, особенно грузинское. И ковры, и посуда. – Тут Севка спохватился, подумав, что Карим начнёт его допытывать, что какого цвета, и скорее переменил разговор.
– Мы с отцом хотим купить узбекский шёлк маме на платье. Во всём Ленинграде ни у кого такого не будет.
– С каким рисунком?
– С таким, будто в воду камушки бросили и рябь побежала. – Севка мотнул головой в сторону женщин с огромными тюками на головах. – Как у этих.
Женщины напоминали оснащённые парусами фрегаты. Они двигались, словно плыли. Шёлковые широкие платья равномерно колыхались вокруг их пышных фигур.
– Такой рисунок называется «абр» – «облако», потому что у него нет определённой формы. Он всё время меняется, как облака на небе.
– Вот, вот. Абр, облако. Отец хочет красное с зелёным облако, а я хочу белое с чёрным.
– Купите оба, тогда спора не будет.
Женщины с тюками проплыли. Появился ишачок. (Было похоже на смену кадров в кино: только что было одно – теперь другое.) На ишачке сидел чернобородый мужчина. Он важничал – на нём был новый халат, подпоясанный тремя поясными платками. Между синим и красным платком торчала лепёшка. За ишачком семенила женщина, жена чернобородого. На её голове был тюк; в одной руке она несла корзину с гусями, в другой – закрученные верёвкой подушки; к спине был привязан ребёнок. Малыш лежал в платке, словно в люльке.
– Смотрите, сколько она всего тащит! А этот, на осле, пустой сидит! – возмутился Севка.
– С гор, – совсем тихо сказал Карим. – Там, в кишлаках, есть ещё дикие люди.
– Дикие люди! А мы кто? Смелые мы или нет! – Катька даже ногой топнула и бросилась наперерез ишачку. Карлсон и мальчики – за ней.
– Как вы смеете! Сами едете, а апа и тюки несёт, и гусей, и ребёнка! – закричала она прямо в лицо чернобородому. Ишак остановился. Карлсон залаял.
«Ну, сейчас будет», – подумал Севка. Но чернобородый не рассердился. Похоже было, что он даже обрадовался случаю поговорить, хотя бы с ребятами.
– Ты, девочка, русский, – важно сказал он. – Ты не знай наш обычай. Носит – плохой джигит, хороший джигит – не носит. Хороший джигит – ничего не носит.
Но Катька совсем не была расположена к беседе о джигитах.

– Сейчас же возьмите тюки! – шипела она громко.
На них стали оглядываться. Идущие мимо – замедляли шаг, кое-кто останавливался. Чернобородый помрачнел и насупился.
– Вай, – сказал он. – Пустой девчонка. Шумливый, как мешок с орехами. Хых-хых, – ткнул он палочкой в спину ишачка, понукая его ехать.
– Постой, ака (то есть «старший брат»), – остановил его Карим, – скажи мне, твой ишак тоже джигит?
– Зачем говоришь пустое? Ишак – это ишак, джигит – это джигит. Как может ишак быть джигитом?
– Раз ишак не джигит, тогда пусть ишак и несёт тюки.
Чернобородый растерянно заморгал и стал озираться, ища сочувствия. Но свидетели этой сцены были явно на стороне ребят. Над попавшим впросак джигитом начали подшучивать, кое-кто заулыбался. Румяная круглолицая девушка в красной бархатной безрукавке смеялась не таясь. Карлсон принялся лаять, гуси переполошились и загоготали.
Тем временем Карим и Севка освободили aпy от тюков. Джигиту пришлось спешиться. Делая вид, что ничего не произошло особенного, он снял один из своих платков, связал тюки и стал навьючивать ишака.
Глава IV
Солнце близилось к полудню, когда ребята и Карлсон пришли на базар. Основная торговля подходила к концу, но толчея между рядами была не меньше, чем перед прилавками Гостиного двора накануне Восьмого марта. Поэтому Севка рот раскрыл, увидев Тоню-Соню. Удивило его не то, что Тоня-Соня оказалась на базаре, и не то, что шла она как в замедленной киносъёмке, – здесь все двигались медленно, только машины носились на повышенных скоростях, – а то, что шла Тоня-Соня словно не в толпе, а по безлюдной улице. Глаза её были устремлены в какую-то далёкую даль, при этом она ни на кого не натыкалась и её никто не толкал. Прямо номер из цирковой программы.
– Вы к усто? – задумчиво спросила Тоня-Соня, когда ребята загородили ей путь.
– К усто, – ответил Карим. – «Усто» значит «мастер», – объяснил он Севке.
Тоня-Соня, ни слова не говоря, повернулась и пошла впереди них.
В конце торговых рядов стоял чисто выбеленный домик с галереей – айваном. Крышу айвана поддерживали деревянные колонны, окрашенные в синий цвет. На дощатом полу лежал потёртый ковёр.
В глубине айвана у самой стены сидели на корточках три старика в пышных белых чалмах. Они передавали друг другу красную розу и по очереди нюхали её. Четвёртый старик в белой рубашке без воротника, в скромной голубой повязке на голове сидел, скрестив ноги, на самом краю ковра.

«Это и есть усто», – догадался Севка.
Широкое скуластое лицо усто было изрезано мелкими морщинками, редкая борода имела неопределённый бело-жёлтый цвет, но раскосые карие глаза смотрели живо и весело. В руках усто держал нераскрашенное глиняное блюдо. Стопки таких же блюд и холмы горшочков высились слева от мастера. Своим золотисто-коричневым цветом они напоминали землю, какой она бывает под лучами восходящего солнца.
Справа стояли расписанные тарелки, кружки, горшки. Покупатели отбирали понравившуюся посуду, клали деньги в высокий кувшин, подходили к айвану и говорили: «Рахмат, усто», то есть «Спасибо, мастер».
– И тебе спасибо, – отвечал усто, поднимая глаза от работы.
– Здорово, – шепнул Севка Кариму, – лучше, чем в магазине самообслуживания: и без кассира и без контроля. А обмана не бывает?
– Кто захочет обмануть почтенного усто? – удивился Карим.
На левой ладони усто безостановочно крутилось блюдо, в правой была кисть, которой он набирал жидкую краску. И там, где кисть дотрагивалась до блюда, появлялись синие цветы, жёлтые плоды, зелёные ветки.
Несколько человек смотрели, как работает мастер. Ребята протиснулись вперёд.
– Салам алейкум, усто Саид, – сказал Карим.
– Ваалейкум ассалам, деточка. Пришёл поработать, помочь старику пятидневное задание за четыре дня сделать? Садись, садись.
– Я не один, я с друзьями.
– Твои друзья – и мои друзья. В айване всем места хватит.
– Салам, усто, – сказали Катька и Тоня-Соня, садясь на ковёр.
– Салам, усто, – пробормотал Севка и подумал: «Не так уж трудно говорить по-узбекски».
Сначала все сидели молча и только смотрели, как крутятся тарелки на ладонях усто и Карима. Потом разговорились. Всё началось с вопроса, который задал Севка:
– Усто, почему вы рисуете только цветы да линии? Нарисуйте, как птицы летают в цветах или космонавта в космосе.
Старики в глубине айвана замерли. Тот, у которого в руках была роза, так и застыл, держа цветок. Усто Саид покачал головой:
– Нельзя, деточка. Птицу и космонавта нельзя. В святых книгах сказано, что Аллах запретил изображать человека, зверя, птицу, а кто ослушается, тому гореть в вечном огне.
Старики в знак подтверждения прикрыли веки. Тот, что держал цветок, громко втянул в себя душистый воздух.
– А почему сказано, что Аллах запретил рисовать человека? Ему разве не всё равно? – не унимался Севка.
– Непонятливый, – заговорила Тоня-Соня. – Запретил, потому что этот выдуманный Аллах хотел один создавать живые существа. Это называется «вдохнуть душу». А художники, когда рисуют, тоже вдыхают душу в то, что нарисуют. Вот Аллах и не разрешил им, чтобы они не стали, как он сам.
Севка удивлённо посмотрел на Тоню-Соню. Ничего себе «Соня» – в глазах у неё что-то металось, а щёки разгорелись, будто от бега. Однако затронутая тема была слишком интересна. Поэтому Севка задал новый вопрос:
– Усто Саид, а вам самому никогда не хотелось изобразить человека?
– Хотеться-то не хотелось, но однажды пришлось. Как ты, деточка, говоришь – «изобразил», настоящую фигуру из глины изобразил.

– Статую?
– Так. Статую. – Слово «статуя» усто произнёс неверно – с ударением на втором слоге.
– Расскажите. Пожалуйста, расскажите!
– Давно это было, а, белобородые? Лет с полсотни тому назад?
– Давно, ох, давно, – старики согласно закивали головами, – пятьдесят лет утекло, как вода в песок.
– Значит, уже после революции[8]8
Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года.
[Закрыть], – уточнил Севка.
– После, деточка, после. Революции лет пять уже тогда было, а мы всё не знали, какая она есть, революция. Слыхом-то слыхали, а видом-то не видали. С языка на язык перекидывалось: в Ташкенте, в Самарканде, в Кушке[9]9
Город на юге Туркмении, самая южная точка бывшего СССР.
[Закрыть] Советы[10]10
Советы народных депутатов – являлся первичным выборным органом в СССР.
[Закрыть] появились. Да наш город под басмачами был – бандиты, всё одно что фашисты. Помните, старики?
– Ох, страшное время Аллах послал. Амударья не водой, а кровью полнилась.
– Правду белобородые говорят. Зверствовали бандиты, вспомнить страшно. Город наш совсем разорили. Баи и кто побогаче – все ушли: кто в Афганистан ушёл, а кого, говорят, в Париже видели. Город такой во Франции есть, деточки. Хозяин мой тоже ушёл. Большой усто был, много секретов знал. Деньги забрал, жену-детей забрал, ковры забрал, а мастерскую не забрал. Как её заберёшь? Стал я один работать – сам хозяин, сам работник. Глину мешу, гончарный круг верчу, посуду в печи обжигаю. Посуда, деточки, людям всегда нужна. Приходили люди, горшки мои брали и меня не обижали: кто горсть зерна принесёт, кто кислого творогу, кто шерсти… Ну, слушайте, деточки, как дальше было. Жили мы, значит, в страхе. Каждый день к смерти готовились. Басмачи-то стояли в старой крепости, – усто махнул кисточкой в сторону реки. – Место там высокое, с башни все дороги видны. Революции бандиты боялись, всё стражу на крепости выставляли. К нам они потом редко наведывались – со стриженого барана шерсти не нащиплешь. Окрестные кишлаки грабили. Каждый день добычу носили.


Усто поставил на землю готовое блюдо и взялся за новое.
– Помню, среда была – день, значит, базарный. Сижу я вот так же, работаю. Люди пришли, по рядам ходят, немного торгуют. Вдруг крик, свист, плётки в воздухе хоп-хоп, кони фыр-фыр – басмачи пожаловали. Люди разбежались, товар бросили, спрятались кто куда. Я и вскочить не успел. Двое прямо ко мне в айван въехали; как были на конях, так и въехали. Посуду побили. Оба важные – главари, значит. Один русский, другой из наших. Русский молодой ещё, выправка военная, мундир в обтяжку, на груди шнуры золотые, папаха на голове. Под папахой лицо чистое, бритое. Лоб большой, глаза круглые, глубоко под лоб ушли, а злоба так из них и течёт, как у других людей слёзы. Ох, страшный человек, как только Аллах его на земле терпел?
– Усто Саид, а откуда среди басмачей русские взялись? – спросил кто-то из толпы, собравшейся перед айваном.
– В восемнадцатом году белые казаки из иранского похода шли. Полковник Зайцев над ними стоял. В Самарканде их революция разбила, так некоторые к басмачам перекинулись.
Слушайте дальше, деточки. Сказал мне русский какие-то слова, коротко сказал. Приказал, значит. А что приказал, не знаю. Не знал я тогда русские слова, потом научился, уже когда революция к нам пришла. И читать научился, и писать. Сначала жена научилась, потом я. А тогда не знал. «Не понимай», – говорю. Тут второй, что из наших был, невзрачный такой, как обглоданная косточка, толмачом стал.

– Переводчиком, – вставила Катька.
– Вот-вот, толмачом-переводчиком, – согласился усто. – Русские слова на узбекские перекидывает. «Его высокоблагородие велит тебе сделать из глины статую Будды, ростом в полчеловека, а внутри чтобы пустая была». – «Вай, – говорю я, – вай. Нельзя и слушать такое. Аллах запретил». Благородие губы скривил, а толмач говорит: «Делай. Его высокоблагородие грех на себя возьмёт, а тебе за работу заплатит». Я руками машу, головой качаю – не соглашаюсь, значит. Тогда благородие вынул из-за пояса пистолет, направил на меня и тихо так говорит что-то. Тут и толмач не нужен, и без него всё понятно. Да не знаю я, какой это Будда. Слышал, что был такой бог, давно был, в священных книгах написано, за тысячу лет до того, как Мухаммед на землю пришёл и про Аллаха людям поведал. Учёные из Ленинграда говорят, что в Сары-Тепе Будде молились. Учёные знают, много знают, деточки. И вы учитесь на хорошо и отлично.
– Дальше, усто! Что дальше было? – закричали «деточки».
– Дальше так было. Толмач-переводчик говорит: «Сделаешь лицо круглое, грудь тучную, руки чтоб перед животом держал – ладонь на ладони, ноги чтоб скрещёнными были – сидит, значит. Главное, внутри пусто сделай. Торопись, после вечерней молитвы приедем». Русский пистолет спрятал и головой кивнул. Толмач говорит: «Если убежать надумаешь, его высокоблагородие тебя с неба за ноги стянет, из-под земли за уши вытащит».

С тем и уехали.
Остался я один. Думал, думал – жену позвал. Вместе думали. Потом за работу принялись. Жена глину месит, в мою сторону не смотрит, чтоб глаза не осквернить, значит. А я сделал на круге горшок высотой в локоть. Второй сделал. Высушил их мало-мало, горловинами соединил – туловище получилось. Сзади, в спине, значит, окошко вырезал, чтоб видно было – пусто внутри. Взял круглый горшочек, приделал к туловищу – голова вышла. Скатал полоски, как лапшу, из них глаза, брови, рот сделал. Нос тоже слепил. Приделал, смотрю – красивый, очень красивый человек получается. Хорошо мне сделалось, даже Аллаха бояться перестал. Взял тарелку, надел статуе на макушку – вышла шапка с полями, как русские господа носили. «Смотри, – говорю жене, – жених, да и только». Жена сплюнула, отвернулась и говорит: «Ты руки-ноги скорее делай». Видела, значит.
Усто засмеялся, даже работать перестал. Все тоже засмеялись, потому что представили, как жена усто тихонько поглядывала на глиняного человека.
– Стал я руки делать. Много намучился. И так слеплю, и так изогну – всё как виноградные плети получаются, а пальцы как обрубленные ветки торчат. Однако сделал. За ноги взялся – и ноги сделал. Немного малы ноги вышли, как у сынишки, – Халдару в ту пору два года было. Всё равно красивая статуя. Одно жалею: узоры на туловище нанести не успел, а то был бы мой человек в расшитом кафтане, как хан или эмир бухарский.
Прокричали вечернюю молитву, слышу – едут. Благородие взглянул на моего человека и не то кашлянул, не то словно костью подавился. А толмач подхватил статую и бросил её поперёк седла. Я ему кричу: «Осторожно! Пустой он, разбиться может!» Куда там, ускакали, только пыль узором закрутилась. «Зачем он внутри пустой?» – спрашивает жена. Я молчу. Откуда мне знать, зачем он пустой? Я ведь никогда раньше не изображал людей из глины и секретов не знаю. Про горшки знаю, а про статуи не знаю.
– А дальше что было, усто?
– Дальше пришла революция. На другое утро и пришла. Командиром красных воинов русский был, а из пулемёта «максим» узбекский парень стрелял.
– И у басмачей пулемёты были? – спросил Севка.
– Были, деточки. И винтовки, и револьверы – всё английские. Из Англии, значит, им богачи оружие поставляли. Все богачи родня между собой. Однако и простые люди друг другу братья. Надо только всем вместе держаться. А кто ты, узбек, русский или австралиец, не надо и знать. Это всё равно.
– Пулемётчиком у красных Аваз Сарагулов был, – сказал Карим. – Он потом на Анзират-апе женился. А тогда ему пятнадцать лет исполнилось, как Гайдару.[11]11
Аркадий Петрович Гайдар – русский детский писатель, киносценарист. Участник Гражданской и Великой Отечественной войн.
[Закрыть]
– Хороший джигит был, – прошептали старики в айване.
– Орёл джигит был, – сказал усто. – В двадцать седьмом его баи убили, Анзират вдовой оставили. А в тот раз ему ногу прострелили. Много крови вытекло. Моя жена его лечила. Мы тогда не знали, как у докторов лечатся. Богачи знали, а мы не знали. Жена по-своему лечила. Два дня Аваз в моём доме провёл, а потом поскакал отряд догонять. Пока он у нас лежал, я ему всё вопросы подкидывал: «Всех басмачей поймали?» – «Не всех, ака, самых главных не поймали. Они ещё вчера ушли, своих бросили, собственные шкуры спасали». Я помолчу, а потом опять: «Не знаешь, сынок, налегке они ушли или с ношей?» – «Тайком они ушли, Саид-ака». – «Куда же они пошли?» – «Не иначе как ещё ночью через реку переправились, в Афганистан удрали». Я помолчу, а потом опять: «Скажи, сынок, а человека из жёлтой глины не видели, когда старую крепость воевали?» Он засмеялся и говорит: «Какие-такие жёлтые люди? У нас с белыми война».
Усто замолчал.
– Ещё расскажите! Пожалуйста!
– Что же ещё? Дальше вы всё сами знаете. Революция басмачей побила. Потом фашистов побила. Хорошо жить стало. Так хорошо, деточки, что и умирать не хочется.
– Живите, усто, сто десять лет и не знайте усталости, – громко сказала Тоня-Соня. – А глиняного человека вы больше не видели?
– Не видел, деточки, не видел. Согрешил перед Аллахом, пошёл в старую крепость, в мазар Халида[12]12
Мазар – место поклонения, Халид ибн-ал-Валид – выдающийся арабский воин.
[Закрыть] пошёл. В мазаре тот офицер жил. Искал свою статую – не нашёл, нигде не нашёл. Должно, пулями её на мелкие кусочки разбило, а может, басмачи с собой в Афганистан унесли. Красивая статуя была…
История моя на этом кончилась. Рахмат за внимание, как говорят люди в телевизоре, когда кончают рассказывать свои истории.
– Спасибо! Рахмат! – закричали все, кто слушал про глиняного человека. Громче всех кричали ребята. Потом оглянулись, видят: Тони-Сони нет.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































