Текст книги "Политический порядок в меняющихся обществах"
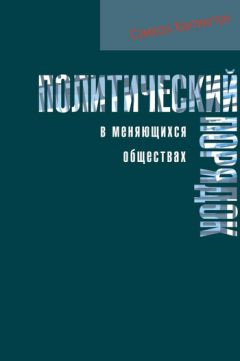
Автор книги: Самюэль Хантингтон
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Политическая активность населения: модернизация и политический упадок
Модернизация и политическое сознание
Модернизация – это многоаспектный процесс, связанный с изменениями во всех областях человеческой мысли и деятельности. Это, как писал Дэниэл Лернер, «процесс, имеющий некоторую качественную специфику, которая создает ощущение современности как единого целого у людей, живущих по ее законам». Основные аспекты модернизации, «урбанизация, индустриализация, секуляризация, демократизация, образование, роль средств массовой информации проявляются не случайным образом и не без связи друг с другом». Исторически они «развивались в столь тесной связи друг с другом, что встает вопрос о том, можно ли их вообще рассматривать как подлинно независимые факторы, нельзя ли предположить, что столь устойчивый параллелизм в их развитии обусловлен тем, что, в некотором историческом смысле, они с необходимостью развивались параллельно»40.
На психологическом уровне модернизация означает фундаментальный сдвиг в ценностях, установках и ожиданиях (expectations). Традиционный человек рассчитывал на неизменность в природе и обществе и не верил в свою способность изменять их и управлять ими. Напротив, современный человек признает возможность изменений и убежден в их желательности. У него, по выражению Лернера, «мобильная личность», приспосабливающаяся к изменениям в его окружении. В типичном случае эти изменения требуют распространения лояльности и идентификации с конкретных и ближайших групп (таких, как семья, клан и деревенская община) на более широкие и безличные единства (такие, как класс и нация). Этот процесс сопровождается возрастающей приверженностью универсалистским ценностям в противоположность ценностям партикуляристским и все большей опорой на стандарты, связанные с достижениями индивида, в противоположность стандартам аскриптивным (связанным с его принадлежностью) к той или иной группе.
На интеллектуальном уровне модернизация означает огромное расширение человеческих знаний об окружающем мире и распространение этих знаний в обществе посредством роста грамотности, массовых коммуникаций и образования. В демографическом плане модернизация означает изменения в образе жизни, заметный рост здоровья и продолжительности жизни, возрастание профессиональной, вертикальной и географической мобильности, и в особенности быстрый рост городского населения сравнительно с сельским. В плане социальном модернизация связана с той тенденцией, что в дополнение к семье и другим первичным группам, характеризующимся диффузным распределением ролей, возникают сознательно организуемые вторичные ассоциации с более определенными функциями. Традиционное распределение статуса в рамках единой поляризованной структуры, характеризующееся «кумулятивным неравенством», уступает место плюралистическим статусным структурам, характеризующимся «дисперсным неравенством»41. В экономическом плане наблюдается диверсификация деятельности по мере того, как на место горстки простых занятий приходит множество сложных; существенно возрастает уровень профессиональных навыков; повышается роль капитала сравнительно с трудом; сельское хозяйство, рассчитанное на выживание, сменяется сельским хозяйством, рассчитанным на рынок; уменьшается значение самого сельского хозяйства сравнительно с торговой, промышленной и другой несельскохозяйственной деятельностью. Существует тенденция территориального распространения экономической деятельности и ее централизация на национальном уровне, сопровождающаяся появлением национального рынка, национальных источников капитала и других национальных экономических институтов. Со временем возрастает уровень экономического благосостояния и уменьшается экономическое неравенство.
Эти аспекты модернизации, имеющие наибольшее политическое значение, можно сгруппировать в две больших категории. Во-первых, это социальная мобилизация, согласно Дейчу, представляющая собой процесс, в ходе которого «происходит эрозия или разрыв основных узлов прежних социальных, экономических и психологических связей и люди становятся подготовленными к новым формам социализации и поведения»42. Это означает смену установок, ценностей и ожиданий у людей – отказ от тех, которые связаны с традиционным миром, и принятие тех, которые свойственны миру современному. Происходит это как следствие роста грамотности, образования и коммуникаций, влияния средств массовой информации и урбанизации. Во-вторых, экономическое развитие влечет за собой рост общей экономической активности и продуктивности общества. Мерилами этого могут служить валовой национальный продукт на душу населения, уровень индустриализации и уровень индивидуального благосостояния, оцениваемый по таким показателям, как продолжительность жизни, количество потребляемых калорий, обеспеченность медицинской помощью. Социальная мобилизация связана с изменениями в ожиданиях индивидов, групп и обществ; экономическое развитие ведет к изменению их возможностей. Модернизация требует и того, и другого.
Влияние, оказываемое модернизацией на политику, бывает разным. Еще многообразнее ряд определений, которые давали политической модернизации исследователи. Многие из этих определений сфокусированы на различиях между тем, что принято считать отличительными чертами соответственно современного и традиционного общественных устройств. Политическая модернизация при этом, естественно, рассматривается как движение от одного к другому. При таком подходе ключевые аспекты политической модернизации можно в первом приближении сгруппировать в три широкие категории. Во-первых, политическая модернизация связана с рационализацией авторитета, заменой большого числа традиционных, религиозных, родовых, этнических политических авторитетов единым светским, национальным политическим авторитетом. Это изменение подразумевает, что орган власти есть продукт действий человека, а не природы и не Бога, и что хорошо устроенное общество должно иметь определенный человеческий источник конечного авторитета, и что подчинение исходящим от него установлениям важнее всех других обязанностей. Политическая модернизация предполагает утверждение внешнего суверенитета нации-государства в отношении транснациональных влияний и внутреннего суверенитета национального правительства в отношении местных и региональных властей. Она означает национальную интеграцию и централизацию, то есть сосредоточение власти в руках признанных национальных законодательных институтов.
Во-вторых, политическая модернизация предполагает дифференциацию новых политических функций и развитие специализированных структур для выполнения этих функций. Области специальной компетенции – юридической, военной, административной, научной – отделяются от сферы политики, и появляются автономные, специализированные, но подчиненные органы для выполнения этих задач. Административные иерархии становятся более сложными и более дисциплинированными. Распределение должностей и полномочий все больше зависит от достижений, а не от принадлежности к некоей группе по праву рождения. В-третьих, политическая модернизация связана со все большим участием в политике самых различных общественных групп. Возросшая политическая активность может означать как усиление контроля со стороны власти, как в тоталитарных государствах, так и усиление контроля над властью со стороны народа, как в некоторых демократических странах. Но во всех современных государствах граждане оказываются непосредственно вовлечены в процессы управления и испытывают на себе их последствия. Таким образом, рационализация авторитета, дифференциация структуры и массовое участие в политике – вот то, что отличает современные общества от обществ прошлого.
Было бы, однако, ошибкой заключить из сказанного, что на практике модернизация означает рационализацию авторитета, дифференциацию структуры и расширение участия масс в политике. Существует фундаментальное и часто не принимаемое в расчет различие между политической модернизацией, определяемой как движение от традиционного политического устройства к современному, и политической модернизацией, определяемой как совокупность политических аспектов и политических последствий социальной, экономической и культурной модернизации. Первая определяет направление, в котором теоретически должны происходить политические изменения. Последняя выражается в политических изменениях, которые действительно происходят в модернизирующихся странах. Разрыв между той и другой нередко очень велик. Модернизация на практике всегда предполагает изменение, а обычно и разрушение традиционной политической системы, но она не обязательно ведет к существенному продвижению в становлении современной политической системы. Существует, однако, тенденция считать, что то, что справедливо для широких социальных процессов модернизации, справедливо и для политических изменений. Социальная модернизация является в какой-то степени фактом в Азии, Африке, Латинской Америке: идет стремительная урбанизация; медленно, но растет грамотность; принимаются меры по индустриализации; понемногу возрастает валовой национальный продукт на душу населения; расширяется охват населения средствами массовой коммуникации. Все это имеет место. Но при этом прогресс в направлении других целей, которые исследователи связывают с политической модернизацией – демократией, стабильностью, структурной дифференциацией, идеологией достижений, национальной интеграцией, – по меньшей мере сомнителен. Многие, однако, полагают, что, поскольку имеет место социальная модернизация, значит, налицо и политическая модернизация. В результате многим сочувственным западным работам о слаборазвитых регионах в 1950-е гг. свойствен тот же дух необоснованного оптимизма, который характеризовал многие из сочувственных западных работ о Советском Союзе в 1920-е и 1930-е гг. На них был налет того, что можно назвать «веббизмом»[7]7
По имении Сиднея (1859–1947) и Беатрис (1859–1943) Вебб, идеологов т. н. фабианского социализма.
[Закрыть]; то есть склонностью приписывать политической системе качества, которые, как предполагается, являются ее конечными целями, не обращая внимания на те качества, которые реально присущи происходящим в ней процессам развития и функционирования.
В действительности лишь некоторые из тенденций, часто включаемых в понятие «политической модернизации», характеризуют «модернизирующиеся» регионы. Вместо эволюции в направлении свободной конкуренции и демократии наблюдается «эрозия демократии» и тенденция к установлению автократических военных или однопартийных режимов43. Вместо стабильности мы видим перевороты и мятежи. Вместо объединяющего национализма и строительства нации – непрекращающиеся этнические конфликты и гражданские войны. Вместо институциальной рационализации и дифференциации нередко происходит распад административных организаций, унаследованных от колониальной эпохи, и ослабление и разложение политических организаций, сформировавшихся в ходе борьбы за независимость. Лишь понимание политической модернизации как мобилизации и политической активности населения оказалось широко приложимым к «развивающемуся» миру. Между тем рационализация, интеграция и дифференциация представляются фикцией.
Более, чем что-либо, современное государство отличает от традиционного то, насколько шире стало участие масс в политике, и то, насколько сильнее теперь влияет на их жизнь политика, проводимая в рамках больших политических образований. В традиционных обществах участие населения в политике может иметь достаточно широкое распространение на уровне деревни, но на более высоких уровнях оно ограничено пределами очень малых групп. Крупные традиционные общества могут достигать сравнительно высоких уровней рационализации авторитета и структурной дифференциации, но и здесь политическая активность ограничивается пределами сравнительно немногочисленных аристократических и бюрократических элит. Наиболее фундаментальным аспектом политической модернизации, следовательно, является повсеместное участие социальных групп в политике за пределами уровня села или малого города и развитие новых политических институтов, таких, как политические партии, призванных организовать такое участие.
Разрушительные последствия социальной и экономической модернизации для политики и политических институтов могут принимать разнообразные формы. Социальные и экономические изменения неизбежно разрушают традиционные социальные и политические группировки, подрывают лояльность к традиционным авторитетам. Лидерам деревни, светским и религиозным, бросает вызов новая элита гражданских служащих и школьных учителей, которая представляет здесь авторитет далекого центрального правительства, поскольку владеет такими навыками и ресурсами и воодушевлена такими надеждами, что с ней не могут соперничать традиционные сельские или племенные лидеры. Во многих традиционных обществах важнейшей социальной единицей была расширенная семья, которая сама часто представляла собой небольшое гражданское общество, выполняющее политические, экономические, благотворительные, оборонительные, религиозные и другие функции. Под воздействием модернизации, однако, расширенная семья начинает разрушаться, и ей на смену приходит нуклеарная семья, которая слишком мала, слишком изолирована и слишком слаба, чтобы выполнять те же функции. Более широкая форма социальной организации сменяется более узкой, и усиливаются тенденции недоверия и враждебности – война каждого против всех. Аморальная семейственность, которую Бэнфилд обнаружил в Южной Италии, типична не для традиционного, а для отсталого общества, в котором традиционный институт расширенной семьи разрушился под воздействием первых фаз модернизации44. Модернизация, таким образом, обычно порождает отчуждение и аномию, отсутствие норм – как следствие конфликта между старыми и новыми ценностями. Новые ценности подрывают прежние основания ассоциации и авторитета до того, как становится возможным появление новых навыков, мотиваций и ресурсов, необходимых для образования новых группировок.
Крушение традиционных институтов может приводить к психологической дезинтеграции и аномии, но те же самые обстоятельства рождают и потребность в новых идентификации и лояльности. Последние могут принимать форму реидентификации с группой, которая в скрытом или открытом виде существовала в традиционном обществе, либо же они могут приводить к идентификации с новым набором символов или с новой группой, которая сама сформировалась в процессе модернизации. Индустриализация, писал Маркс, порождает классовое сознание сначала у буржуазии, а затем у пролетариата. Маркс сосредоточил свое внимание лишь на одном из аспектов много более широкого феномена. Индустриализация есть лишь один из аспектов модернизации, а модернизация вызывает к жизни не одно лишь классовое сознание, но групповое сознание разного рода: в племени, регионе, клане, конфессии и касте, равно как и в классе, профессии и ассоциации. Модернизация означает, что у всех групп, как старых, так и новых, как традиционных, так и современных, усиливается их сознание самих себя в качестве групп и своих интересов и притязаний в отношении других групп. Одним из самых поразительных феноменов модернизации является, пожалуй, рост сознательности, сплоченности, организации и активности у многих социальных сил, прежде существовавших на много более низком уровне сознаваемой идентичности и организации в традиционном обществе. Ранние фазы модернизации часто отмечены появлением фундаменталистских религиозных движений, таких, как «Братья-мусульмане» в Египте и буддийские группировки на Цейлоне, в Бирме и Вьетнаме. Эти движения сочетают современные методы организации, традиционные религиозные ценности и сильную популистскую ориентацию.
Точно так же и во многих местах Африки племенное сознание было почти что незнакомо в традиционной сельской жизни. Трайбализм стал продуктом модернизации и западного влияния на традиционное общество. В Южной Нигерии, к примеру, этническое самосознание йоруба сформировалось только в XIX в., и слово «йоруба» сначала использовалось англиканскими миссионерами. «Все знают, – пишет Ходжкин, – что понятие «быть нигерийцем» появилось недавно. Но, как представляется, понятие «быть йоруба» не многим старше». Аналогичным образом, еще в 1950-е гг. лидер ибо, Б.О.Н. Элюва, разъезжал по иболенду, пытаясь убедить жителей, что они являются ибо. Но жители деревень, пишет он, просто «не могли вообразить народ ибо в целом». Усилия Элюва и других лидеров ибо увенчались, однако, успехом, и самосознание ибо было сформировано. Лояльность по отношению к племени «есть во многих отношениях ответ на модернизацию, продукт тех самых перемен, которые колониальное правление принесло в Африку»45.
Традиционное общество может иметь немало потенциальных источников идентичности и ассоциации. Некоторые из них могут оказаться подорваны и разрушены процессом модернизации. Другие, однако, могут достигать нового уровня осознания и становиться фундаментом новой организации, поскольку они – как, например, племенные ассоциации в африканских городах или кастовые ассоциации в Индии – заключают в себе возможности удовлетворения многих потребностей в личной идентичности, социальной опеке и экономическом успехе, т. е. потребностей, порождаемых процессом модернизации. Рост группового сознания оказывает, таким образом, как интегрирующее, так и дезинтегрирующее воздействие на социальную систему. Если сельские жители начинают связывать свою первичную идентификацию не с деревней, а с племенем; если рабочие плантации перестают идентифицировать себя только лишь со своими товарищами по работе на этой плантации и вместо этого начинают идентифицироваться с рабочими плантаций вообще и с организацией рабочих плантаций вообще; если буддийский монах из приверженца местного храма и монастыря превращается в участника национального буддийского движения – каждое из этих изменений представляет собой расширение границ лояльности и в этом смысле вклад в процесс политической модернизации.
Но то же самое групповое сознание может, однако, явиться серьезным препятствием на пути формирования эффективных политических институтов, охватывающих широкий спектр общественных сил. Наряду с групповым сознанием складываются и групповые предрассудки, «когда существуют интенсивные контакты между различными группами, как это имеет место при движении в направлении более централизованных политических и общественных организаций»46. А с групповыми предрассудками приходят и групповые конфликты. Этнические и религиозные группы, мирно жившие бок о бок в традиционном обществе, вовлекаются в насильственный конфликт в результате взаимодействия, напряжений, неравенства, порождаемых социальной и экономической модернизацией. Модернизация, таким образом, усиливает конфликты между традиционными группами, между традиционными и современными группами и между современными группами. Новые элиты, выдвинувшиеся благодаря западному или современному образованию, вступают в конфликт с традиционными элитами, авторитет которых основан на признанном или наследуемом статусе. Внутри модернизированных элит возникает антагонизм между политиками и бюрократами, интеллектуалами и военными, рабочими лидерами и предпринимателями. Многие, если не большинство, этих конфликтов рано или поздно приводят к насилию.
Модернизация и насилие
Бедность и модернизация. Связь между модернизацией и насилием не проста. Более современные общества обычно более стабильны, и в них наблюдается меньше насилия во внутренних конфликтах, чем в менее современных обществах. В одном из исследований была получена корреляция 0,625 (n = 62) между политической стабильностью и сложным показателем современности, учитывающим восемь социальных и экономических переменных. Как уровень социальной мобилизации, так и уровень экономического развития прямо связаны с политической стабильностью. Связь между грамотностью и стабильностью особенно сильна. Частота революций также варьирует обратно пропорционально образовательному уровню общества, а смертность от внутреннего группового насилия обратно пропорциональна доле детей, посещающих начальную школу. Экономическое благосостояние аналогичным образом связано с политическим порядком: в 74 странах корреляция между валовым национальным продуктом на душу населения и смертностью от внутреннего группового насилия составила -0,43.
Таблица 1.2. Душевой уровень ВНП и насильственные конфликты (1958–1965)

Источник: Министерство обороны США и кн.: Escott Reid, The Future of the World Bank (Washington, D.C., International Bank for Reconstruction and Development, 1965), p. 64–70.
В другом исследовании 70 стран за 1955–1960 гг. была получена корреляция -0,56 между валовым национальным продуктом на душу населения и числом революций. В восьмилетний период между 1958 и 1965 гг. в самых бедных странах произошло в четыре раза больше насильственных конфликтов, чем в богатых странах; 87 % очень бедных стран пострадали от значительных вспышек насилия сравнительно с всего лишь 37 % для богатых стран47.
Ясно, что страны с высоким уровнем как социальной мобилизации, так и экономического развития характеризуются большей стабильностью и миром в политическом отношении. Модернизированность (modernity) означает стабильность. От этого факта легко перейти к «доказательству от бедности» (poverty thesis) и к выводу, что именно экономическая и социальная отсталость ответственны за нестабильность и что, следовательно, модернизация – это путь к стабильности. «Нет сомнений в том, – утверждал министр обороны США Макнамара, – что существует неопровержимая связь между насилием и экономической отсталостью». Или, как писал один исследователь, «всепроникающая бедность подрывает систему управления – любую. Это постоянный источник нестабильности, делающий демократию практически неосуществимой»48. Если принять, что эта связь имеет место, то очевидно, что распространение образования, грамотности, массовых коммуникаций, индустриализация, экономический рост, урбанизация должны приводить к росту политической стабильности. Однако эти по видимости убедительные выводы из корреляции между модернизацией и стабильностью неверны. На самом деле модернизированность порождает стабильность, но сам процесс модернизации порождает нестабильность.
Видимую связь между бедностью и отсталостью, с одной стороны, и нестабильностью и насилием, с другой, следует признать ложной. Не отсутствие модернизированности, а усилия по ее обретению являются источником политического беспорядка. Если бедные страны оказываются нестабильными, то это не потому, что они бедны, а потому, что они стремятся разбогатеть. Чисто традиционное общество было бы невежественным, бедным и стабильным. К середине XX в., однако, все прежде традиционные общества стали одновременно переходными, модернизирующимися. Как раз распространение модернизации по всему миру и привело к глобальному росту насилия. На протяжении двух десятилетий после Второй мировой войны американская внешняя политика в отношении модернизирующихся стран была в значительной мере направлена на поддержку экономического и социального развития, поскольку это должно было привести к политической стабильности. Достижениями этой политики можно, однако, считать как возросший уровень материального благосостояния, так и возросший уровень внутреннего насилия. Чем активнее человек борется со своими исконными врагами – бедностью, болезнью, невежеством, – тем в большей мере он борется с самим собой.
К 1960-м гг. всякая отсталая страна была уже страной модернизирующейся. Есть тем не менее основания считать, что причины насилия в этих странах коренятся в модернизации, а не в отсталости. Богатые страны обычно более стабильны, чем менее богатые, но беднейшие страны, те, которые находятся на самых низших ступенях международной экономической лестницы, менее подвержены насилию и нестабильности, чем страны, расположенные на этой лестнице непосредственно над ними. Даже статистика, использованная самим Робертом Макнамарой, лишь отчасти подкрепляет его выводы. Всемирный банк, например, отнес шесть из двадцати латиноамериканских республик к числу «бедных», что означает, что их валовой национальный продукт на душу населения составил менее 250 долларов. В шести же странах из той же двадцатки в феврале 1966 г. наблюдались затяжные гражданские войны. Но только одна страна, Боливия, попала в обе эти категории. Вероятность мятежей в тех латиноамериканских странах, которые не были бедны, была вдвое выше, чем в тех, которые были бедны. Аналогично 48 из 50 африканских стран были отнесены к числу бедных и в одиннадцати из них происходили вооруженные конфликты. Можно, однако, с уверенностью утверждать, что вероятность конфликтов в двух африканских странах, которые не были бедны – Ливии и Южной Африке, – была столь же высока, как и в бедных странах и территориях. Более того, вооруженные конфликты, существовавшие в 11 странах, были, по-видимому, связаны в четырех случаях с сохраняющимся колониальным правлением (как, например, в Анголе и Мозамбике), а в других семи – с ярко выраженными племенными и расовыми различиями в населении (как в Нигерии и Судане). Колониализм и этническая неоднородность оказались много более существенными основаниями для предсказания вспышек насилия, чем бедность. На Ближнем Востоке и в Азии в 10 из 22 стран, отнесенных к числу бедных, в феврале 1966 г. наблюдались вооруженные конфликты. С другой стороны, столкновения происходили и в трех из четырех стран, которые не были бедными (Ирак, Малайзия, Кипр, Япония). В этом случае также вероятность вооруженного конфликта в более богатой стране примерно в два раза выше, чем в бедной. И здесь тоже этническая неоднородность выступает как более вероятный источник насилия, чем бедность.
В пользу отсутствия выраженной прямой корреляции между бедностью и нестабильностью свидетельствуют и другие данные. Хотя корреляция между ВНП на душу населения и смертностью от внутреннего группового насилия составила -0,43 (n = 74), наибольшее количество насилия наблюдалось не в беднейших странах с душевым ВНП меньшим 100 долларов, а в несколько более богатых с душевым ВНП от 100 до 200 долларов. При значении показателя выше 200 долларов размеры насилия существенно снижаются. Эти данные привели к выводу, что «в слаборазвитых странах следует ожидать довольно высокого уровня внутренней нестабильности в течение некоторого времени и в очень бедных странах вероятен рост, а не снижение внутреннего насилия в следующие несколько десятилетий»49. Аналогичным образом Экстейн обнаружил, что 27 стран, в которых внутренние насильственные конфликты были редкостью в период 1946–1959 гг., распадаются на две группы. Девять из них принадлежали к числу наиболее современных (такие, как Австралия, Дания, Швеция), тогда как 18 других – это «сравнительно слаборазвитые страны, в которых элиты оставались тесно связаны с традиционными типами и структурами жизни». В их числе оказалось несколько все еще отсталых европейских колоний, а также такие страны, как Эфиопия, Эритрея и Саудовская Аравия50. Близок к этому и результат, согласно которому зависимость нестабильности от распределения стран по уровню грамотности описывается колоколообразной кривой. Нестабильными оказались 95 % стран в среднем диапазоне 25-60-процентной грамотности в сравнении с 50 % стран с грамотностью меньше 10 % и 22 % стран с более чем 90 % грамотности. В другом исследовании средние показатели нестабильности были подсчитаны для 24 современных стран (268), 37 стран переходного типа (472) и 23 традиционных стран (420)51.
Таблица 1.3. Грамотность и стабильность

Источник: Ivo К. and Rosalind L. Feierabend and Betty A. Nesvold, «Correlates of Political Stability» (доклад, представленный на ежегодном заседании Американской ассоциации политической науки, сентябрь 1963 г.), с. 19–21.
Резкое различие между странами переходного типа и современными наглядно демонстрирует справедливость того тезиса, что модернизированность означает стабильность, а модернизация – нестабильность. Слабость различия между традиционными обществами и переходными обществами отражает тот факт, что граница между ними была проведена произвольно, только чтобы образовать группу «традиционных» стран, равную по величине группе стран современных. Поэтому практически все общества, отнесенные к числу традиционных, в действительности переживали начальные этапы модернизации. Однако данные все же свидетельствуют о том, что, если бы чисто традиционное общество существовало, оно было бы более политически стабильным, чем общество в переходном состоянии.
Таким образом, фактор модернизации (modernization thesis) объясняет, почему утверждение о роли бедности (poverty thesis) могло получить некоторую видимость убедительности в конце XX в. Он также объясняет наблюдаемое обратное отношение между модернизированностью и стабильностью для некоторых групп стран. В Латинской Америке, к примеру, богатейшие страны характеризуются средними уровнями модернизации. Неудивительно поэтому, что они должны быть менее стабильными, чем более отсталые латиноамериканские страны. Как мы видели, в 1966 г. только одна из шести беднейших стран Латинской Америки, но пять из 14 более богатых стран переживали внутренние вооруженные конфликты. Коммунистические и другие радикальные движения были сильны на Кубе, в Аргентине, Чили и Венесуэле – в четырех из пяти богатейших из 20 латиноамериканских республик и трех из пяти наиболее грамотных. Частота революций в Латинской Америке напрямую связана с уровнем экономического развития. Для континента в целом корреляция душевого дохода и числа революций составляет 0,50 (n = 18); для недемократических стран этот показатель много выше (r = 0,85; n = 14)52. Таким образом, латиноамериканские данные, предполагающие связь между модернизированностью и нестабильностью, по существу, подкрепляют вывод о связи нестабильности с модернизацией.
Эта связь сохраняется и для вариаций внутри страны. В модернизирующихся странах насилие, нестабильность и экстремизм чаще наблюдаются в более богатых частях страны, чем в беднейших. Анализируя ситуацию в Индии, Хозелитц и Вайнер обнаружили, что «корреляция между политической стабильностью и экономическим развитием слабая и даже отрицательная». При британском правлении политическое насилие чаще всего наблюдалось в «наиболее экономически развитых провинциях»; после достижения независимости вероятность насилия осталась более высокой в индустриализованных и урбанизированных регионах, нежели «в самых отсталых и слаборазвитых областях Индии»53. Во многих слаборазвитых странах уровень жизни в крупных городах в три-четы ре раза выше, чем в сельской местности, но при этом именно города часто являются центрами нестабильности и насилия, тогда как сельские районы остаются мирными и стабильными. Политический экстремизм также обычно сильнее выражен в богатых, нежели в бедных областях. В пятнадцати западных странах процент отдавших голоса коммунистам был наиболее высок в наиболее урбанизированных областях наименее урбанизированных стран54. В Италии центр коммунистического могущества располагался на богатом севере, а не на нищем юге. В Индии коммунисты были сильнее всего в Керале (где выше всего уровень грамотности в сравнении с другими индийскими штатами) и в индустриализованной Калькутте, а не в экономически более отсталых зонах. На Цейлоне «областями наибольшего марксистского влияния являются наиболее вестернизированные» и те, где самый высокий душевой доход и самый высокий уровень образования55. Таким образом, и внутри стран центрами насилия и экстремизма оказываются модернизирующиеся области, а не остающиеся традиционными.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































