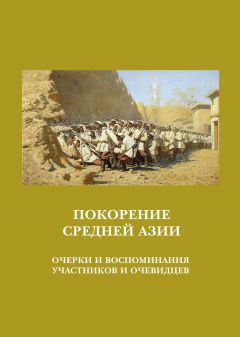
Автор книги: Сборник
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
– Сайгаки! – невольно крикнул казак.
– Ах, волктя заешь! А я было испужался! – произнес тот, кто уверял, что это были хивинцы.
Часа два мы ехали спокойно после этой маленькой тревоги и, по моему расчету, должны были сделать, наверное, более тридцати верст от нашего лагеря. Мой Орлик шел ходким проездом, тем оригинальным смешанным аллюром, которым обыкновенно барантачи наезжают своих лошадей. Проезд не утомляет коня, чрезвычайно покоен для всадника и настолько быстр, что непривычная к этому ходу лошадь только рысью может поспевать за конем, идущим этим ходом.
Мой тюркмен, казалось, нисколько не был утомлен, он весело потряхивал своей сухой головой, шелестел подвесками и амулетами, украшавшими уздечку туземного образца. Легкий, предрассветный ветер так приятно пробирался под складки моего плаща, освежая эту душную, тяжелую ночную атмосферу. Даже казачьи моштаки тоже, по-видимому, нисколько не уставшие, шли бодро, хватая друг друга зубами за загривки, едва только казак отпускал вольнее ременный повод. Все шло очень хорошо, все предвещало полный успех нашей поездке.
Что это?.. Никак зарево бивуачных костров?.. Вон вспыхивает легонько и тонкой светлой полоской тянется по горизонту… Нет, это утренняя заря… Близок рассвет. Утро скоро наступит и разгонит спасительную темноту, а передового отряда и не слышно, и не видно. Где же он? Неужели мы сбились с дороги? Нет, не сбились, мы на «хорошем» пути (как сказал казак). Стоит только нагнуться, чтобы видеть бесчисленные следы пеших и конных, широко расползающиеся двойные следы верблюдов, борозды, колеи… Все, все говорит, что отряд шел здесь, именно по той самой дороге, по которой бегут наши кони, которых мы не на шутку принялись подгонять легонькими ударами нагаек и толчками шпор в их замаслившиеся бока, перетянутые седельными подпругами.
Углы обоих конвертов, которые я засунул за пазуху рубахи, все время меня ужасно беспокоили; я их перекладывал то направо, то налево, прихватывал поясом; казалось, через минуту-две опять начинается беспокойное поталкивание.
«И как это я сразу не догадался!» – подумал я, поспешно отстегнув седельную кожаную сумку на потнике, предназначавшуюся собственно для запасных подков, и сунул бумаги.
– Тут много будет способней, – заметил казак мой маневр, – отсюда ни в жисть не вывалются!
«Си-идит беркут на кургане. Зорко на степь он глядит…» – замурлыкал какую-то песню.
«Он глядит на ту дорогу…» – подтянул ему товарищ.
Быстро начало светать. Колыхнулся туман от свежего ветра; дымчатыми волнами погнало его этим самым ветром; мало-помалу развертывался перед глазами бесконечный горизонт. Легкие миражи голубоватыми силуэтами рисовались на золотистом, светлом-рассветлом фоне. Засверкала окраина солнечного диска, и потянулись от коней и всадников длинные, бесконечно в степь убегающие тени.
– Много, черт их дери, за день проперли! – заметил казак, прервавший свою песню о беркуте.
Это сердитое замечание относилось к передовому отряду, до которого мы никак не могли добраться… Отряд этот действительно находился только в одном переходе, но в каком? В таком, который может совершить разве только туркестанский отряд, где люди, как кажется, заразились от верблюдов терпением, силой и выносливостью.
– Теперь дело дрянь, это точно уж! – шепотом заговорили сзади меня.
– Это, брат, уж не сайгаки…
– Человек двадцать будет?
– Больше!..
– Пронеси, Господь!.. Ваше благородие!..
– Вижу, брат, авось проберемся! – подбодрил я казаков, а у самого сжалось сердце и в мозгу заворочались тяжелые мысли.
Вереница красных точек подвигалась в стороне, пересекая нашу дорогу. В свой бинокль я ясно различал масти лошадей и вооружение всадников… это были «не наши».
Круглые металлические щиты сверкали за спинами джигитов, когда кто-нибудь из них поворачивался задом к солнцу… Тюркмены, должно быть, не замечали нас – да это им было довольно трудно, потому что мы пробирались лощиной в тени, между тем как они шли по гребням наносных песчаных бугров, ярко освещенных косыми лучами утреннего солнца.
Эта спасительная лощина, в которую мы попали, тянулась на далекое расстояние, наискось к направлению нашего пути. Не выходя из нее, мы не должны были слишком много уклоняться от нашей дороги, и потому мы решились отнюдь не оставлять этой лощины, рассчитывая выиграть этим время у наших врагов. Если мы попадем прежде на точку пересечения лощины с тем путем, по которому шли тюркмены, то еще не все потеряно.
Я пустил казаков вперед, так как мне приходилось соображать бег своего коня с их бегом, и уральцы, пригнувшись к самым шеям коней, понеслись во всю прыть своих моштаков, погоняя их увесистыми ударами ременных нагаек… Я пошел за ними сдержанным галопом, зорко оберегая правую сторону – ту сторону, откуда могли показаться наперерез идущие нам барантачи.
Минут пятнадцать скакали мы таким образом. Лощина кончилась, мы вынеслись на открытое место.
Дикий крик и какое-то волчье завывание приветствовали наше появление. Неприятельские наездники расскакались и пустились за нами, как борзые за зайцами.
– Не уйти!.. – тоскливо поглядывал назад казак.
– Бог милостив! – совершенно, впрочем, безнадежным тоном бормотал другой.
Я видел, насколько лучше скакали лошади преследователей. Расстояние, отделявшее нас, становилось все меньше и меньше… Вот они наседают… Я слышу уже фырканье лошадей и торопливый, задыхающийся на скаку говор.
– А! Вот оно что!.. Берегись!..
Жалобно пропела оперенная тростинка с острым, гвоздеобразным наконечником… Другая стрела опередила меня слева, врезалась в песок и переломилась.
Мы выскакали на вершину скалистого кургана.
– Стой, брат, все равно не уйти! – решительно осадил уралец своего моштака и соскочил на землю.
Мгновение – и оба казака были пешком, пустив своих запыхавшихся коней вольно, на длинные чумбуры.
Я один остался верхом. Орлик горячился и рвался вперед. Его смущало это гиканье, несущееся нам навстречу.
Заметив наш маневр, тюркмены тоже остановились и окружили наш курган. Они хорошо знали превосходство нашего оружия, чтобы рискнуть прямо броситься в атаку, когда увидели перед собой уже не беглецов, а людей, приготовившихся к отчаянной обороне.
Они шагом ездили вокруг барнака, придерживаясь, впрочем, почтительного отдаления. Сложив трубой у рта руки, они посылали нам самую унизительную, по их мнению, брань и грозили издали своими длинными, гибкими, как трость, пиками.
Я насчитал двадцать лошадей и восемнадцать всадников, потому что двое из них были, что называется, о двуконь, т. е., сидя на одной, держали другую в поводу. По всем признакам, это были рыскачи из шаек Садыка.
Солнце поднималось все выше и выше; мы начали чувствовать жажду. Солнечный жар мог утомить и измучить нас и наших коней больше, чем движение. Выжидательное положение, в котором мы находились, становилось невыносимо.
– Ваше благородие! – окликнул меня казак.
– Что? – отозвался я, не поворачиваясь к нему и не спуская глаз с высокого молодца в остроконечной войлочной шапке, так и вертевшегося на поджаром белом коне перед прицелом моей двустволки.
Ах, как мне хотелось влепить в него заряд картечи из одного ствола! Трудно было мне удержаться от этого соблазна.
– Вон курган синеет… вершина у него, словно спина верблюжья, двойным горбом выходит… Там он и есть!
– Что там есть?
– Отряд… мне арбакеш киргизин сказывал вчера… Говорит: энти родники под курганом, у которого гребень раздвоенный… Ну, вот он самый раздвоенный и есть!
Очень могло быть, да даже и действительно не могло быть иначе, что отряд находился от нас близко, верст восемь, не больше. Расстояние, которое мой Орлик проскакал бы в полчаса, даже менее – минут в двадцать… Эх! Не попытаться ли? – мелькнуло у меня в голове.
– Нам долго сидеть всем не приходится; может, к нам еще народ подойдет, тогда плохо будет! – говорил опытный уралец. – На своих конях нам тоже не уйти, а вы на своем, пожалуй, и уйдете… Гоните в лагерь, а мы уж отсидимся, даст Бог, коли скоро на выручку к нам вышлете!
Я не мог не убедиться в неотразимости предложения уральца; от него так и веяло обдуманностью и здравым смыслом. Бумаги должны быть утром у полковника – это необходимо… Значит, надо было оставить казаков отсиживаться и возложить всю надежду на быстроту Орлика.
Я слез, оправил седло, протер коню ноздри платком, намоченным в водке, поправился сам и сел в седло…
Маневр мой, должно быть, был понят тюркменами, потому что они заволновались и стали стягиваться к той стороне, с которой, по мнению их, я должен был пуститься.
А казаки меж тем стреножили коней, положили их и, прислонившись спинами друг к другу, приготовились отсиживаться.
– Ну, Орлик, выноси! – гикнул я. – Помогай вам Бог! – обернулся я на мгновение к казакам и дал коню волю.
Орлик прыгнул, как дикая коза, заложил назад уши и ринулся вперед. Вдруг что-то щелкнуло о его круп; он присел; мне показалось, что он споткнулся на заднюю ногу, однако, оправился и поскакал.
Выстрелы моей двустволки, направленные почти в упор в эти скуластые, уродливые рожи, загородившие мне дорогу, расчистили путь. Тонкое острие тюркменской пики задело меня слегка в бок и разорвало рубаху.
– Выноси, Орлик, выноси! – шептал я на ухо своему скакуну. Слыша за собой вытье преследователей, несколько раз я оборачивался. Мне казалось, что вот-вот пихнет меня в спину что-нибудь острое, и каждый раз, когда мне приходилось взглянуть назад, я не без удовольствия замечал, как все более и более растягивался промежуток между мной и тюркменами.
Но вот мой Орлик стал ослабевать, я чувствовал, как все тяжелее и тяжелее становились его скачки; я чувствовал, как резкий свист ветра, несшийся мне навстречу, становился все тише и тише… и снова громче раздавались страшные крики сзади.
«Неужели лошадь слабеет, неужели она утомляется?» Но этого не могло быть! Я знал свойства своего коня… А!.. Что это? Рука моя вся в крови; я погладил по крупу коня, и вот моя рука стала красная, намок даже рукав моей рубахи. Бедный Орлик! Он ослабел не от бега… его сломила потеря крови. Он, раненный, несся все это время, и, по его следам, на горячем песке оставались красные кровавые пятна.
А ведь уже немного… Вот уже ясно очерчиваются Верблюжьи Горбы; черные точки мелькают впереди: никак, наши белые рубахи мелькнули.
Вдруг Орлик остановился, присел назад и зашатался… Выхватив револьвер, я соскочил с седла – и в то же мгновение был сбит с ног наскочившими на меня лошадьми.
Я ничего больше не помнил.
Сопение, храп, тупой удар по темени, какая-то отвратительная вонь и резкая, колющая боль в боку… – вот все, что осталось у меня в памяти.
Голова у меня болела невыносимо, тупо, и в ушах стоял непрерывный гул; левой руки я почти не чувствовал вовсе. Я испытывал то ощущение, когда, что называется, отлежишь руку; острые покалывания перебегали в пальцах и по всей ладони. Но более всего страданий доставляли мне щиколотки ног: они были так усердно перевязаны тонкой волосяной веревкой, что аркан перетер уже давно кожу, и весь окровавленный, все дальше и дальше врезался в мясо, производя режущую жгучую боль, от которой я, вероятно, и начал приходить в чувство…
Меня сильно покачивало; чья-то рука придерживала меня за пояс, кругом фыркали и топали лошади, слышался неясный гортанный говор… Вот выстрелы – один, другой, третий… целая перестрелка доносилась откуда-то очень издалека… Стихла… Опять началась еще дальше.
– Уйдем, уйдем, береги только конскую прыть… уйдем! – ободрительно, негромко говорит голос близко около меня; это произнес, как мне показалось, по крайней мере, тот, чья рука придерживала меня за седлом в таком неудобном положении… Фраза эта была произнесена незнакомым голосом, не русским языком и ничего не имела для меня утешительного.
Фраза эта дала мне почувствовать, во-первых, что я в плену, а во-вторых, что нет уже надежды на избавление… Они уходят, значит, их не догонят, а догонять могли только наши, русские – русские, вероятно, те самые, которых я видел вдали, падая вместе со своим Орликом.
Дышать тяжело… воздуху нет! Хоть бы голову мою кто-нибудь поддерживал в более удобном положении; мне казалось, что она слишком уж безнадежно висела на бессильной, словно парализованной шее. Я опять перестал все слышать, перестал даже видеть перед глазами те красноватые круги света, тот туман, в котором двигалось что-то неопределенное… Все погрузилось в глубокую темноту…
– Сдох!.. – неожиданно и совершенно ясно услышал я голос.
– Пожалуй, что и так! – говорил другой.
– Нет, дышит. Да все равно, скоро околеет!
– Это его Гассан так по затылку огрел!
– Барахтался очень, оттого и огрел. Да что с ним возиться – брось! Все равно, живого не довезешь до стана! Только задержка одна!
– Чего задержка! Ведь ушли… Ну, а к ночи дома будем… Мулла Садык халат даст за него… Ведь это, должно быть, большой «тюра»![3]3
Тюра – начальник.
[Закрыть]
– Все равно привезти: что все тело, что одну голову – а везти много удобнее будет. Отрежь-ка…
– Погоди, может, очнется, все живьем лучше!
– Не очнется!
– Ну, там посмотрим!
Я слышал весь разговор так отчетливо ясно… Я так хорошо понимал его содержание… Я совершенно понял смысл и ужас этого спора. Боже, как мне захотелось очнуться!
Если им все равно было, довести все тело или одну только голову, то мне это было далеко не все равно. В теле могла еще храниться жизнь, а с жизнью – надежда; но в одной голове… в этом круглыше, отделенном от тела… Я собрал все свои силы. Я сделал нечеловеческое усилие. Я застонал.
– Эй! – одобрительно крякнул первый голос.
– Замычал баран! Ха-ха! – усмехнулся другой.
– Приедем на колодцы – водой облить нужно – совсем очнется!
– Гайда, гайда!
И опять я погрузился в беспамятство, и опять я словно в воду нырнул и не слышал уже ничего, кроме неясного, мало-помалу затихающего, неопределенного гула.
Солнце садилось в густом знойном тумане. Громадный ярко-красный диск его до половины выглядывал над горизонтом – и вся степь, весь воздух, все было залито багровым светом. Крупные камни, разбросанные в большом количестве по песчаному сыпучему грунту, казались издали раскаленными угольями. В глубокой котловине, где мы остановились, веяло сыроватой прохладой. Синеватая тень стояла над этой котловиной; тонкий, беловатый пар поднимался над зияющими круглыми отверстиями степных колодцев. Песок кругом был влажен, и на нем искрились мелкие солонцоватые блестки. Там и сям виднелись кучки побелевшей, оставшейся золы, чернел помет, отпечатки перепутанных следов, верблюжьих, конских и человеческих, обрывочки веревок, лоскутки какой-то ткани и тому подобные остатки минутных бивуаков.
Лошади стояли порознь, на приколине, и, должно быть, они очень устали, потому что уныло понурили свои сухощавые, красивые головы, прикрытые полосатыми капорами с наушниками. По этим капорам и по теплым попонам, покрывавшим лошадей, я догадался, что мои похитители – разбойники высшего полета, тюркмены, а не какая-нибудь киргизская сволочь. Да вот и сами они: один стоит ко мне спиной, нагнулся и, часто перебирая руками, вытягивает на веревке кожаное ведро из ближайшего колодца; другой на корточках сидит неподалеку и перетирает между мозолистыми ладонями горстку зеленого табаку для жвачки; третий возится с кучкой собранного сухого помета и пытается развести огонь, раздувая тлеющий лоскуток тряпичного трута; четвертый так лежит, ничком на песке, и тихо стонет, ерзая животом по влажной его поверхности.
Сам я лежал со связанными ногами, с руками, стянутыми в локтях, и просунутой за спиной палкой. Голова моя была совершенно мокрая, вокруг меня стояла узкая лужа, понемногу всасывающаяся в песок. Должно быть, меня облили – припомнил я дорожное предположение.
– Пить дайте, пить! – простонал я, едва только успел сообразить все окружающее. – Воды!..
– Ага, брат, и по нашему говорить умеет. Гассан, дай ему ведро. Вот видишь-ли, очнулся совсем, живого привезем. Теперь уж недалеко!
Один из тюркменов порылся в коржумах (переметных сумках), достал оттуда кусок сухого, твердого, как камень, овечьего сыра, называемого по-киргизски «крут»; потом отделил от него небольшую часть и распустил в воде на дне кожаного ведра.
– На, лакай! – сунул он мне ведро к самому лицу.
Я приподнялся на локте, приподнял голову и даже застонал от боли. Я не мог воспользоваться предложенным мне питьем.
– Развяжи ему руки!
– Совсем развяжите, совсем… Ноги болят… – стонал я. – Зачем меня мучить, я не уйду… Вас много, я один, чего боитесь?
– Да, один! Небось, там так барахтался, что коли бы я не сломал приклада о твою голову, ничего бы с тобой не сделал! Просто зарезать бы пришлось!
– Вон, гляди, Мосол все со своим брюхом возится!.. – кивнул другой в ту сторону, где лежал раненый тюркмен. – Все твоих рук дело!
– А, знаешь, его надо и в самом деле распутать, пусть отдохнет, после опять скрутим!
– Пеший в степи не убежит, да на таких ногах… – усмехнулся тюркмен, глядя на мои искалеченные веревками ноги.
Меня развязали, часа полтора, по крайней мере, лежал я навзничь, лицом к небу, пока только восстановилось кровообращение. Слабыми дрожащими руками подтянул я к себе ведро, чуть не опрокинул его… Захватил зубами за его край и всосал в себя кисловатую, сильно пахнувшую потом сырную гущу… Я почувствовал себя много свежее, и если бы только не эта тупая боль в голове… Я ощупал рукой больное место: громадная шишка находилась у меня как раз над левым ухом, волосы вокруг были совершенно склеены запекшейся кровью… Левым глазом я видел гораздо хуже, чем правым…
– Ты куда это ехал? – спросил меня, пытливо оглядывая с ног до головы, первый барантач.
– В отряд, что впереди стоял… – отвечал я, быстро приготовляясь к предстоящему допросу.
– Зачем?..
– Послали меня… а зачем – про то начальники знают!
– Гм! Да ты сам разве не начальник?..
– Нет, я простой сарбаз (солдат). Какой я начальник!.. – употребил я маленькую хитрость. Я знал, что это могло бы пригодиться мне впоследствии: за пленными солдатами, во-первых, гораздо меньше присмотра, а во-вторых, гораздо меньше придирок и хлопот, если бы могло коснуться обмена или выкупа…
– Не хитри, не лижи языком грязи! Вон те двое, что остались отсиживаться, то простые; а ты тюра… мы, брат, тоже не в первый раз вашего брата видим!
– Как знаешь!
– То-то!.. Что же это ты так просто по степи ехал, или не знал, что мы тут же держимся?..
– А чего мне вас бояться?
– А вот видишь чего!.. Эй!.. Го-го… Я тебя!.. – прикрикнул он на своего жеребца, только что хватившего задом своего соседа.
Помолчали все немного. Слышно было только, как стонал и охал тюркмен, теперь уже скорчившийся кренделем, так что лицо его приходилось у самых колен.
– Пулька твоя маленькая в животе у него сидит! – объяснил мне Гассан причину страданий своего товарища.
Опять наступила ночь, настоящая степная ночь: тихая, душная, с мерцающими сквозь туманную мглу звездами.
Мне опять связали локти и просунули сзади между ними обломок пики; ноги, впрочем, оставили мне на свободе…
И к чему они могли бы послужить мне, когда я положительно не способен был подняться даже на колени? Тюркмены очень хорошо заметили это обстоятельство и потому не позаботились даже стеречь меня ночью, а все четверо крепко заснули, за исключением только раненого, теперь уже непрерывно стонавшего. Только в смертельной агонии человек может стонать таким образом.
Несколько раз что-то вроде сна набегало на меня, мои глаза закрывались, но и в эти минуты мне ясно слышались тоскливые стоны, заглушавшие даже дружное носовое похрапывание спящих разбойников.
До рассвета еще поднялся на ноги наш бивуак – и начали все собираться к отъезду.
Два тюркмена разостлали на песке конскую попону, подошли к своему раненому товарищу, который, наконец, перестал стонать, взяли его за голову и за ноги, брякнули, как мешок, на попону и заворотили его, как пеленают маленьких детей. Весь сверток был обвязан арканом – и этот продолговатый тюк перевесился поперек седла, притороченный к нему ременными подпругами. Лошадь храпела и рвалась, когда усаживали на нее такого оригинального всадника.
– Если бы это я умер, то со мной поступили бы иначе! – невольно представлял я сам себе милую картину. – Со мной дело было бы гораздо проще. Мне бы не потребовалось целого войлока; одного мешка, маленького мешка, в чем обыкновенно дают корм лошадям, было бы совершенно достаточно, чтобы спрятать мою голову; а тело было бы брошено на месте, разве только оттащили бы его подальше от колодцев, к которым обыкновенно всякий номад питает некоторого рода уважение.
– Гайда, гайда!.. – прикрикнул Гассан, когда, наконец, и меня усадили на конский круп за седлом, и вся шайка гуськом выбралась из котловины. Выехал один всадник, посмотрел налево… принюхался, как волк, оставивший логово… За ним другой, затем третий… Фыркая и подбрасывая, выскакала лошадь с трупом, и все волчьей неторопливой рысью потянулись степью – совсем в противоположную сторону той, где все ярче и ярче разгоралась золотистая предрассветная полоска.
О, нам предстоял тяжелый знойный день, к концу которого, впрочем, Гассан, как можно было догадаться из разговора, предполагал добраться до большого лагеря на Дарье – лагеря, где, по его соображениям, должна была находиться ставка муллы Садыка, этого степного богатыря, постоянного непримиримого нашего соперника.
К вечеру этого дня мы заметили вдали какую-то дымчатую полосу, слегка волнующуюся вместе с нижним слоем нагретого за день воздуха. Полоса эта то исчезала, то появлялась снова; наконец, мы ее совсем потеряли из вида, спустившись в какую-то лощину; поднялись снова и снова увидели ее, теперь уже значительно ближе, так что можно было уже узнать воду, обрамленную белыми песчаными берегами.
– Дарья!.. Дарья!.. – протянул Гассан вперед свою руку, вооруженную нагайкой.
– Дарья! – отозвались остальные более веселым голосом.
Даже лошади обрадовались воде и чуяли хороший отдых; они заметно поддали ходу, все поводили беспокойно ушами и широко раздували красные ноздри, словно чуяли уже благодетельную свежесть водных масс.
Там и сям поднимались на самом горизонте струйки дыма, паслись верблюды на редко поросших солонцах, виднелась даже верхушка закопченной рваной кибитки, выглядывающая из-за небольшого кургана.
Чем ближе подходили мы к Аму-Дарье, тем яснее и яснее развертывалась перед нашими глазами картина необъятного военного лагеря степных кочевых народов.
Вон там весь берег, до самых отмелей, занят киргизами, адаевцами и другими народами, сочувствующими хивинскому хану; это видно по конским табунам, разбросанным на громадном пространстве, под охраной нескольких конных групп. Воинственные тюркмены – те пускают своих лошадей на подножный корм и держат их на приколе – совершенно оседланных и во всякую минуту готовых к услугам своего господина. Вон торчат их пики; издали легко принять за редкий тростник эти тонкие, гнущиеся по воле ветра черточки… Вон кольчуги и щиты их сверкают на солнце. Дальше ярко зеленеют островерхие палатки… Везде народ, везде движение. Целые стада овец пригнаны к лагерю и столпились у воды тесными группами. А верблюдов сколько!.. Все склоны берега усеяны медленно двигающимися бурыми горбатыми массами.
– Гайда, гайда! – покрикивали мои конвойные.
– С барышом… с добычей! – кричали им попадающиеся навстречу наездники. – Где взяли?..
– Там, где и для вас много осталось! – уклончиво отвечали тюркмены. – Тюра-Садык дома, что ли?
– Мулла вчера ушел на разведки, «черные» с ним пошли…
– Когда назад будет?
– А кто его знает!..
– Жаль!.. А мы было думали… Наши на том же месте стоят?
– На косе, за камышами!
Стемнело. Огоньки загорелись во всей степи, дрожащие красные столбики потянулись от них по гладкой поверхности реки. Жалобно блеяли овцы, согнанные для водопоя. Звонко ржали лошади, хриплым ревом надрывались верблюды…
– Ну, здесь станем! – задержал коня Гассан на самом берегу реки, на краю большого тюркменского становища.
Меня страшно мучил голод: кроме крута, выпитого с водой еще на прошедшем ночлеге, я положительно ничего не имел во рту. Мои мучители, кажется, забыли обо мне и, спокойно расположившись на песке вокруг маленького огонька, на котором кипел чугунный плоский котелок, даже и не поглядывали в мою сторону. Меня положили между двух больших тюков с чем-то; в двух шагах от меня сопела и страшно воняла косматая верблюжья голова, медленно пережевывающая зеленую жвачку. Я мог только наблюдать за небольшим треугольным пространством перед моими глазами, все же остальное было совершенно скрыто от меня тюками.
– Эй, Гассан! – решился я окликнуть одного из сидящих у котла.
Тот, казалось, не понял сразу, откуда его зовут. Я повторил призыв.
– Как… это ты! – усмехнулся Гассан. – Чего тебе?
Он встал и, неловко шагая по песку в своих сапогах с острыми каблуками, подошел ко мне и сел на один из тюков.
– Коли я вам живой нужен, а не одна моя голова, так вы уж не морите меня жаждой и голодом. Вам же никакой от того прибыли не будет…
– Ишь ты какой!.. Ну вот, погоди, завтра утром придет мирза один, он хотел у нас купить тебя – он тебя и кормить будет!
Очевидно, тюркмены передумали сдать меня Садыку, которого не оказалось в лагере, и решили продать меня первому покупщику, чтобы, во-первых, развязать себе руки, а во-вторых, поскорее воспользоваться барышом от своей военной прогулки.
– А все же дайте есть, – простонал я, – пить дайте!.. Умру до завтра… Пить!.. Слышите, пить!..
Я подполз к Гассану и уцепился за полу его халата; я решился добиться во что бы то ни стало воды и пищи или же получить второй удар прикладом по темени, который, может быть, окончательно успокоил бы мои страдания, начинавшие становиться невыносимыми.
– Ну, ну… ты и вправду подумал, что тебя уморить хотят… Вот погоди, поспеет (Гассан кивнул на котел), и тебе дадут. Лежи пока смирно…
Он отошел от меня и опять занял свое место, продолжая начатый им какой-то рассказ о прежних своих подвигах.
В эту ночь движение и шум почти не затихали ни на минуту по всему становищу. Мне даже казалось, что в этом смешанном гуле есть что-то тревожное; это положительно не был обыкновенный шум, неизбежный при такой многолюдности.
Около полуночи заворочались «тюркмены на косе», лошадей начали взнуздывать и выбираться дальше от берега. Мимо нас потянулся самый беспорядочный караван навьюченных и просто свободных верблюдов, проскрипело несколько двухколесных арб; пешие шли толпами, видимо, спеша куда-то. Конные пошли напрямик, вброд, через водный плес, далеко вдающийся в песчаные низменные берега. Все стремилось от воды дальше, словно в воде находилась настоящая причина тревоги.
Впоследствии я узнал, что эту тревогу наделали наши гребные суда, подходившие сверху, весть о приближении которых принесли сторожевые отряды.
Тронулись и тюркмены. Я очутился на верблюде, подвязанный сбоку на одном из тех тюков, что лежали подле меня.
Почти до рассвета шли мы, охваченные со всех сторон самой беспорядочной массой людей и животных. С первыми лучами солнца движение начало получать вид некоторого порядка. Показались всадники в дорогих, шитых золотом и обложенных мехом, халатах, в высоких меховых шапках; за этими всадниками везли значки на длинных древках, украшенные конскими хвостами. Гремя, звеня, бряцая, издавая всевозможные звуки, протащилась допотопная артиллерия, состоящая из трех или четырех пушек, запряженных десятком кое-как напутанных лошадей.
Вдруг все это остановилось, шарахнулось в сторону и заволновалось. Если бы не было кругом такого оглушительного крика, визга, говора, ржанья лошадей и рева верблюдов, я бы, наверно, слышал треск разрыва гранаты над нашими головами – теперь же я видел только маленькое беловатое облачко, внезапно вспыхнувшее в воздухе – и больше ничего. Другое такое же облачко вспыхнуло еще ближе – два или три всадника кувыркнулись ногами кверху. Верблюд, везший меня, споткнулся и рухнул на землю (еще счастье, что не на мою сторону). Врозь шарахнулось все живое.
Теперь ясно слышались отдаленные выстрелы; это были глухие, словно громовые удары… Я узнал выстрелы наших пушек!
А!.. Вот запрыгала картечь, прокладывая себе страшную дорогу в этой массе людей и животных. Страшная, дикая картина разом развернулась перед моими глазами. Все ринулось в бегство, все перепуталось между собой… все, казалось, потеряло всякое сознание, всякий смысл, охваченное паническим страхом.
Я видел Гассана. Он вертелся на своем аргамаке и озирался кругом; должно быть, он искал меня. Я забился, сколько мог, за свой тюк, с другой стороны на меня повалилась издыхающая лошадь и совершенно спрятала меня от глаз тюркмена.
Мне чудилось все это словно во сне. Всадники на маленьких лошадках, в белых рубахах, в белых шапках с назатыльниками, замельками перед моими глазами…
Очнулся я в палатке капитана Г., одного из моих товарищей; около меня сидел доктор. За холстиной палатки сопел и посвистывал походный самоварчик. Я думал, что это все продолжается сон.
За свою неудачную поездку я отделался двухнедельной горячкой, после которой, впрочем, поправился очень быстро.
Впрочем, я напрасно назвал поездку неудачной. Цель ее была достигнута, а это только и нужно было. Бумаги, с которыми я был послан, отысканы были казаками в седле моего погибшего Орлика. Если бы я не переложил их в седельную сумку, то, пожалуй, тогда действительно поездка моя была бы вполне неудачна, и я, может быть, даже лишился бы навсегда возможности находиться в цивилизованном обществе и тянул бы свою печальную жизнь рабом какого-нибудь кочевого мирзы в полудиком ауле.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































