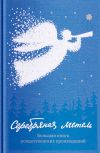Читать книгу "Рождественские истории с неожиданным финалом"

Автор книги: Сборник
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Дуня осталась довольна, а Антипка из угла посмотрел на нее, хотел что-то сказать, да только крякнул.
Но не такова была доля Васены. Золото и жемчуг и камни самоцветные вышли ей в песне, но песня эта имела неопределенное значение. Одни говорили, что к богатству, другие – что к несчастью.
– Растолкуй, тетка Федосевна, – сказала Васена, и светлые глаза ее беспокойно ждали ответа.
– А много значит эта песня, девка, много разного значит: али богатство большое, али что недоброе… А попросту, девка, по моему разуму: нет еще нонишний год никакой тебе судьбы… Ну да молода еще ты, мать моя, и подождешь: годик еще, чай, семнадцатый?
– Шестнадцатый, – сказала Васена.
– Что ж, и постарше тебя есть, да ждут Божьей благодати…
Одно кольцо осталось только в блюде и одиноко звякало. Было около полуночи. Федосевна, а с ней и девки встали и начали собираться по домам.
– А чье кольцо осталось? – спросила Федосевна.
– Мое! – отвечала девка высокая, бледная и уж не первой молодости.
– Экая ты бесталанная! – сказала с участием Федосевна. – Не выходит те-е судьба твоя! А можно узнать ее, мать моя, – сказала она тихо. – Возьми ты это кольцо и хлебец возьми, и ступай ты в полночь в овин или в баню – слушать.
– Не надоть, – отвечала девка грустно и равнодушно, – я свою участь знаю.
Федосевна прищурилась, поглядела на нее и спросила тихо:
– Смотрела?
– Смотрела, – так же тихо отвечала девка.
– Видела?
– Видела, – отвечала она.
Гурьбой вышли девки и парни из избы, и вскоре говор их послышался за воротами, разбрелся по деревне и мало-помалу замолк. Васену оставила Дуня ночевать у себя, оттого что далеко ей идти было. Они хотели уж ложиться спать, как вдруг дверь отворилась, и Федосевна поманила их. Они вышли в сени.
– Нарочно, голубки, воротилась для вас, – сказала Федосевна. – Вы девки молодые, ничего не знаете, а при людях не след мне вам было говорить. Хотите попытать судьбу свою и узнать все вдосталь, наверное?
– Как же это, тетя? – шепотом говорили они.
– А много случаев есть. В бане сидеть хотите?
– Вместе?
– Коли вместе, вместе ничего не будет.
– Боюсь, – сказала Дуня.
Федосевна посмотрела вопросительно на Васену.
– И я боюсь, – нерешительно сказала она.
– Не в бабушку ты, видно, пошла, – сказала Федосевна. – Та, не к ночи молвить, и пострашней не боится.
– Что те-е баушка! – сказала с упреком Васена.
– Ну, да я так только, к слову пришлось. А ты девка добрая. Так что же, мати мои, на перекресток с зеркальцем тоже боитесь?
Девки задумались.
– Ну так я вам вот что скажу: это дело не страшное, а верное, и сегодня день такой. Выйдите вы в полночь за ворота, и зажмурьтесь вы и повернитесь три раза, коя как встанет, и взгляньте вы на небо, и коль увидит коя стожары на правой руке – и быть той замужем, а коль увидит коя девичьи зори – годовать той в девках беспременно. Ну, прощайте, красные, спать пора…
– Спасибо те, Федосевна! – сказали девки. Федосевна ушла, и девки воротились в избу. Около полуночи в одном углу темной избы послышался шепот, тихо встали обе девки, накинули на плечи шубенки, которыми были одеты, и вышли. На дворе было темно, месяц уж закатился, но тем ярче и виднее на синем небе блестели и мерцали крупные и мелкие звезды. Дуня и Васена вышли за ворота, постояли недолго и, говоря о чем-то вполголоса, возвращались. Вдруг в сенях кто-то остановил Васену за руку.
– Что, Васена, видела? – тихо спросил кто-то.
– Пусти, Федюха! – отвечала она.
– Да что?
– Плохо!
– А ты, Дуня? – робко сказал другой голос.
– Антипка, ты как здесь?
– Я остался у крестного. Что, Дуня?
– Гоже! А те-е что за дело?
Неизвестно, что отвечал ей Антипка, только она вдруг рванулась сердито и прикрикнула: «Ну-у! Мотри ты у меня!» – и обе девки проскользнули в дверь и тихонько улеглись на лавке.
* * *
Я не знаю, как обозначать время в этом странном уголке, где нет ни лет, ни месяцев, ни чисел. Знаю только, что вскоре после описанных происшествий, раз утром, когда солнце только что вставало над деревушкою и над каждой избой, точно белые султаны, высоко-высоко в небо подымались и стали, не шелохнувшись, прямые и ровные столбы дыма, какой-то крестьянин, только что проснувшись, вышел в одной рубахе на крыльцо и, почувствовав сильнейший мороз, флегматически заметил: «Трещи не трещи, а минули водокрещи». Знаю, что были потом, как следует, морозы афанасьевские, за ними тимофеевские и, наконец, последние, сретенские. Вот пришли и капельники, и плюшники, начались с сороков сорок утренников. Алексей – с гор потоки пролил, Дарья испортила проруби, пришли на Марью пустые щи, и вот Федул – теплый ветер подул, и весна землю вспарила. Тогда, стряхнув с себя снег и солому, бодрее выглянули на теплое солнышко темные избушки, яснее обозначилась одна из них, отшатнувшаяся к полю и лесу, на стражу каменных развалин. Теперь пора сказать, кто были ее жильцы.
Давно, очень давно тому назад, когда ветер не сорвал еще крыши и ставней с каменного дома, а стоял он просто заколоченный, жил в новой избе, заслоненной этим домом от вьюги и непогоды, некто Терентий Бодяга, отчасти садовник, а больше коновал, искалеченный лошадьми, которых он пользовал, и оставленный за увечьем сторожем при доме. Жил Бодяга с женой своей, Никоновной, и дочкой Ариной, и жил довольно долго. Время шло, дом разваливался и входил в землю, Бодяга вошел в нее окончательно, зато у дочери его Арины, словно из земли, выросла дочь Василиса. В один прекрасный день девица Арина неизвестно куда отлучилась, и с тех пор прошло много дней, и прекрасных, и дурных, но Арина не возвращалась, и осталась в избушке одна бабушка Никоновна с внучкой Василисой, или, как ее звали в деревне, Васеной. И жили они хоть и не в довольстве, но и без большой нужды, а чем жили – никто не знал: сберег ли и оставил деньгу про черный день коновал Бодяга, старуха ли его Никоновна добывала ее своим ремеслом – неизвестно, но недобрые слухи ходили в маленьком мире сельца Ознобиха про Никоновну и ремесло ее. А ремесло это состояло в лечении разных недугов разными средствами – травами и нашептываньем, и говорили про старуху, что нечисто ремесло ее, что водит она знакомство с личностями более или менее невидимыми в крещеном мире и что иногда в глухую ночь совершает она дальние путешествия при помощи метлы, выезжая на ней в дымовую трубу.
Нельзя заверить в том, чего не знаешь наверное, но действительно странен и страшен был вид дряхлой старухи, когда она в бурю и непогодь шла иногда, согнувшись над клюкою, в поздние сумерки из темного леса, несла пучки каких-то трав, шла тихо, тряся старческой головою, и все что-то шептала, что-то шептала.
Когда грозила кому-нибудь напасть близкая, когда что недоброе творилось в семье или недуг злой и непонятный медленно грыз и изводил кого, тогда, полные сознания в силе и убежденные в сведениях Никоновны, вечером с узелком в руках пробирались задами к ней люди нуждающиеся, и хоть старуха была ворчлива и неприветлива, но помогала многим своим таинственным знанием. Несмотря на это, косо смотрел деревенский люд на старуху, хотя и боялся ее, боялся ее глаза впалого и черного, боялся ее шепота, никому не понятного, боялся, чуждался и не любил ее. И из всего большого и меньшого люда Ознобихи только одна Васена, смуглая и хорошенькая девочка, долго бегавшая в одной рубашонке, не боялась старухи: умаявшись днем, она доверчиво припадала русой головкой к чахлой и хрипящей груди старухи и сладко засыпала под ее таинственный шепот.
Время шло. Старуха Никоновна, словно завороженная от его власти, все оставалась такой же старухой Никоновной, все таскалась в лес за травами и шептала. Но Васена выросла, выровнялась и из хорошенькой девчонки сделалась хорошенькой девушкой, и шире раздвинулся перед ней маленький мир, раздвинулся из четырех стен избушки во все пространство сельца Ознобиха.
Красота и молодость сняли с нее недобрую славу, тяготевшую над ее родною кровлей; молча, косясь, приняли ее деревенские девки в свой тесный кружок, и из них Дуня, ее сверстница, сделалась даже ее подругой.
В тот неизвестный год, когда воображение занесло нас в Ознобиху, грачи прилетели прямо на гнезда и весна была дружная. Она пришла рано и, может быть, поторопилась оттого, что на Красную горку ее дружно закликали девки:
Весна, весна красная!
Приди, весна, с радостью,
С великою милостью!
И пришла она для мужиков
На сошенке, на бороночке,
А для девок с веселыми хороводами.
Вечером, перед закатом солнца, подоив коров и загнав скотину, собирались девки и парни на лугу у околицы, неподалеку от Федосевниной избы, и затевали игры. Завидя их, выплывала своей утиной походкой и сама Федосевна. Тогда девки и парни приставали к ней, и она, поломавшись малую толику, принимала участие в их играх, и игры эти шли стройней и веселее: то входила Федосевна в круг, садилась и дрему дремала, а меж тем, сцепясь рука с рукою, медленно ходил под лад тихой песни пестрый кружок молодежи; то, сходясь и расходясь стена с стеною, они просо сеяли, то заплетались плетнем, то спрашивали друг у друга новости.
Спрашивали молодые бабы у старых: что в городе вздорожало? И отвечали старые:
Вздорожали молодые бабы:
На овсяной блин по три бабы,
А четвертая провожата,
А пятая на придачу.
Спрашивали ли о том же молодые парни, отвечали им молодые бабы:
Вздорожали добрые молодцы:
По восьми молодцов на полденьги,
А девятый провожатый,
А десятый на придачу.
Спрашивали ли девки у добрых молодцев: что вздешевело? Добрые молодцы отвечали:
Вздешевели красны девушки:
По сту рублей красна девица,
А по тысяче девице на косицу.
Но чаще в замкнутый круг входили мужчина и женщина, тут разыгрывались простые сцены простой ежедневной жизни: ревнивый муж жену ревновал, жена ругала мужа-пьяницу, и горько жаловалась иная молодка на сноху или свекровь.
Только странно как-то случалось, что, коль нужно было выходить парню с девкой, выходили большею частью одни и те же пары, и из наших знакомых часто выходили Васена с Федюшкой и Антип с Дуней. Говорил парень девке: «Бог на помочь, красна девица», а красна девица гордо проходила мимо и ему не кланялась, и тогда, надев шапку набекрень, приосанившись, грозил парень девке заслать сватьев и за себя взять, и будет тогда девка у кроватушки стоять, будет белы руки целовать, будет девка держать шелкову плетку в руках. Смирялась гордая девка и, потупясь, отвечала:
Я думала, что не ты идешь,
Не ты идешь, не мне кланяешься.
Хоровод, тихо снуя, пел в кругу, молча разыгрывалась простая драма, а между тем солнце давно уж село, вот и месяц показался на небе, седой туман вставал густой тучей и ложился холодной росою, а в лесу кто-то странно то стонал, то хохотал. Торопливо расходились девки по домам, и тогда по узкой тропинке пробиралась в свою избушку Васена, и часто Дуня провожала ее, и за их мелькающими и размахивающими в темноте белыми рукавами виднелись две какие-то темные фигуры в смурых кафтанах.
* * *
Известное дело: лягушка квачет – овес скачет, на Петров день солнце поворотило на зиму – лето на жары, пришла убогая вдовица-купальница – и наступил сенозарник[26]26
Сенозарник — июль.
[Закрыть] – лета макушка. Сбил он у мужика мужицкую спесь, что некогда и на печь лезть; и баба бы плясала, да макушка лета настала; а все это оттого, что на дворе пусто, зато в поле густо, и это широкое поле, густое желтым хлебом и зеленой травой, надо было сжать и скосить.
И вот однажды почти весь женский люд деревни Ознобихи возвращался с покоса. Дни перед тем стояли жаркие и ведреные, много рядов подкошенного сена полосами лежало на лугу и быстро высыхало, надо было убрать его до дождя, а дождь был на носу. С утра облака ниже и ниже начали сбираться на небе; завидев их, быстрее закипела крестьянская работа, и вот, еще задолго до заката, мужикам оставалось только дометать и свершить стога, а бабы, собрав и свозив сено, торопились до дождя к домам, и они шли пестрою гурьбою с граблями на плечах и звонкой песнею, а между тем небо все темнело и темнело, густые сизые тучи почти сплошь заволокли его, в спертом воздухе становилось уж не жарко, а нестерпимо душно.
«Быть грозе, того и гляди!» – подумали бабы, торопливо прибавили шагу – и песня замолкла.
И как будто вместе с песнью замолкло все в природе: лист не шевелился на дереве, птица не щебетала в воздухе, и стала кругом непробудная тишь, и страшно что-то стало на сердце… Но деревня уж недалече. Вон перелесок, вдоль его опушки на белой лошади какой-то охотник пробирается рысцой к дому, теперь только поворотить направо и по задам прямо в деревню, ее еще не видно за кустами, но вдали, на сером грунте потемневшего и грозно нахмурившегося леса, уж виден голый остов каменного дома, и возле него маленькая избушка Никоновны, как будто присевшая от страха, стоит скривленная и тщедушная, робко глядит чуть видными окнами и ждет грозы…
Вдруг… Что это? Что это?
В воздухе показался красноватый свет, но это не свет молнии. Все головы запрокинулись разом и видят: летит над ними огненный шар, летит медленно от Чертова болота, широко разметав свой огненный хвост… Тихо летит в густом неподвижном воздухе, среди грозной тишины, спускается ниже и ниже и с треском и искрами рассыпается над трубой избушки… Обомлела толпа и стала как вкопанная, и в молчаливом ужасе переглядывались бледные лица.
– Змей огненный! – пронеслось по толпе.
– К Никоновне, – тихо сказал кто-то.
– Нет!
Недавно видели, как Никоновна, опираясь на палку, трясясь и шепча, плелась к лесу.
– К Васене! – еще тише сказал кто-то, и угрюмое молчание толпы подтвердило страшный приговор бедной девушке.
Гром зарокотал над лесом, крупные капли дождя начали падать, толпа повернула в пролесок и, крестясь и запыхаясь, бежала по домам, и только слышен был говор: «К Васене! К Васене!»
А между тем что делала бедная Васена?
Проводив бабушку, которую не пыталась отговаривать идти в лес, потому что знала бесполезность попытки, знала, что есть у нее неизменный день и неизменный час для сбора той или другой травы и что не много может непогодь над ее окостеневшим телом, Васена отворила окошко, села у него с чулком и тихо запела песенку. Не знаю, что пела она, но перелив ее длинной песни был спокоен и безмятежен. Правда, была какая-то затаенная грусть в ее напеве, но грусть без тоски и печали – это ровная и тихая грусть русской песни, в которой отразилась вся неизбежная ровная и тихая грусть целой жизни.
И пела Васена свою песню, о чем-то раздумывая, как она привыкла раздумывать в длинные дни одинокой жизни, пела она, как поют птицы вольные да молодость беззаботная, оттого только, что им просто поется, и не видала Васена грозы, которая собиралась над нею, грозы в воздухе, и не чуяла сердцем другой, более страшной грозы, а между тем та и другая собирались молча. И вот стало темно и душно, и вот что-то сверкнуло в воздухе, треск послышался над головою Васены, и серный запах разлился по избушке, искры блеснули кругом, и едва успела Васена отскочить от окошка, едва, бледная от страха, занесла она руку, чтоб оградить себя крестным знаменьем, – глядь, прямо перед нею стоит какой-то красавец…
* * *
Когда в следующее воскресенье собрались девки и парни, по обыкновению, к околице, супротив Федосевниной избенки, уж не хоровод водить, потому что их пора миновала, а просто поиграть в горелки, под вечер пришла туда и Васена. Она была далеко лучше, чем в первый раз, когда мы ее видели зимою. Умывалась ли она мартовским снегом, вешней росою или первым дождиком, дала ли ей какого-нибудь снадобья ее бабушка, или сама мать-природа, щедрая летом, убрав лес зеленою листвою, луг пестрыми цветами, наделила Васену полною красой. И Васена развернулась, как почка на дереве, расцвела, как цветок в поле. Ее гибкий и стройный стан стал мягче, обрисовался круглее, мало коснулся загар лица ее, но румянец на смуглых щеках играл и пробивался сильнее, полевая работа не огрубила тела ее, как она огрубила и зачернила ее белоликих подруг, – лучше всех по деревне стала Васена, лучше стала и наряднее, а между тем – смотрите! – только подошла она к играющим, и как-то затих их говор и смех, поклонилась она – ей никто не кланяется, робко сторонятся от нее подруги, неохотно парни играют с ней, и самая игра скоро прекратилась. Как будто что-то связывало и стесняло ее беззаботное веселье. Заметила это и Васена, заметила и сама смутилась, и сама стала в сторону.
Одна только Дуня, пользуясь сумерками и разбродом, подошла к Васене и тихо сказала:
– Васена, что это с тобой?
– А што?
– Про тебя неладно бают у нас.
– Да што бают? – несколько нетвердым голосом спросила Васена.
Дуня затруднилась как будто отвечать ей.
– Да кто у тебя был ономнясь, в грозу? – сказала она.
– А разве видели кого? – тихо спросила Васена, и видно было сквозь темноту, как румянец во всю щеку вспыхнул у нее на лице.
– Вся деревня видела, бабы с поля шли. Я ногу наколола, так не ходила на сенокос, а то все бают: видели, как он спустился.
– Кто спустился?
– Да змий, что ли, огненный…
Побледнела Васена при этом страшном слове, но вскоре оправилась, и даже, казалось, улыбка пробежала по ее алым губам.
– Эк сплели! – сказала она. – Пусть их бают! Язык без костей, все мелет!
– Да с чево ж это взяли? Ведь вся деревня видела… – недоверчиво заметила Дуня.
– Али и ты туда же? – сказала Васена. – Пожалуй, верь!
Дуня задумалась немного.
– Прощай, Васена. Мне мама заказала и говорить с тобой, – сказала она, взглянув на Васену и как будто ожидая, что та разрешит ее сомнение.
– Прощай! – холодно заметила Васена.
Дуня, задумавшись, повернула к деревне, а Васена, взволнованная и возмущенная, быстро пошла по тропинке, протоптанной к ее одинокой избе.
Она вышла уж в поле – и вот видит: чья-то тень появилась из-за задов и стала скоро приближаться. Васена не останавливалась, не оглядывалась и бойко шла, но тень все приближалась, и узнала Васена Федюху, в смуром кафтане, наброшенном на плечи.
– Постой, Васена! – сказал Федюха.
– Ну, что тебе? – сердито сказала Васена.
Федюха был немного озадачен ее голосом, он привык ее видеть доброй и ласковой.
– Да я все хотел спросить тебя, – заметил нерешительно Федюха, – у нас бабы бают… – Он замолчал.
– И ты тоже? Што ж бают? Про змия огненного? – сказала громко Васена, вдруг остановясь. – Што ж, правду бают! Прилетал он, ударился о землю и стал предо мной красавцем, да таким красавцем, што ни в сказке сказать, ни пером написать… Ну, што ж тебе? Тебе што за дело?
– Как – что за дело? – пробормотал оторопевший Федюха.
– Ну да, что же тебе за дело? Жена, что ли, я твоя? Прилетал раскрасавец, не тебе чета! Проваливай! – сердито сказала она, повернулась и пошла быстро прочь.
Постоял немного на месте Федюха, почесал затылок в раздумье и, пробормотав: «Что за притча такая?» – побрел тихонько домой.
Не знаю, что была за притча и какая была причина дурного обхождения Васены с Федюхой и холодного с Дуней: возмутили ли ее слухи деревенские, обуяла ли гордость грешная, – только и сама Васена отшатнулась от подруг, которые, видимо, чуждались и избегали ее, и осталась Васена одна в своей избушке, одна, с старой бабушкой, а коль случалось Васене проходить деревней, гордо и одиноко проходила она ее, и никому в деревне она не кланялась, и никто из деревенских с ней не разговаривал.
Но недолго продолжалось это. Стали люди замечать, что Васена будто худеет и задумывается. Действительно, стала Васена задумываться, начали бледнеть ее румяные щеки, и часто видели мимоходом, как она одиноко сиживала на завалине, пригорюнясь. Скучала ли Васена одиночеством, грусть ли тайная гнала ее, или тяжело ей стало бремя людской молвы? Бремя мирского презрения и отчуждения – тяжкое бремя во всяком кругу, во всяком мире, раскинут ли он в многодомных городах, замкнут ли в бедной и малой деревушке. И не без удовольствия заметили люди эту перемену: в ней они видели подтверждение своей страшной догадки.
Известно всем, какова жгучая любовь того существа, которое летит по небу змием огненным, прилетает к красным девкам и является чудным молодцом. Жжет эта любовь молодое сердце, крушит свежие силы, сохнет и вянет та красавица, на которую падет эта страшная любовь! И стала мало-помалу сохнуть и вянуть Васена…
Но не в одной Васене произошла дурная перемена – задумался и Федюха, доселе ни над чем не задумывавшийся. И он переменился. Болел он душою и за Васену, над которой тяготела людская молва и с которой произошла какая-то непонятная перемена, болел и за себя, потому что Васена совсем переменилась к нему. Встретится ли он с ней, поклонился – она поклонится неприветливо, заговорит ли с ней – отвечает неласково. Неласкова и неприветлива, например, и сестра его Дуня с крестным братом Антипкой: вечно шпыняет, или толкнет, или выбранит. Да то совсем другое: в ее грубом обхождении была своего рода короткость или ласка, сквозь крупное и сердитое слово проглядывала привязанность – такова уж была Дуня, так выражалось ее чувство. Но не так в доброе старое время выражались привязанность и ласка Васены: голос ее был мягок, слово приветливо!
Конечно, мало верил Федюха бабьим сплетням, на то он был мужчина. Мужик бабью речь в одно ухо впускает, а в другое выгоняет, молчит себе, только в бороду глядит и не поперечит, а свое смекает, и что думает, то держит себе на уме. Но Федюхе было осьмнадцать лет, и шибко полюбилась ему Васена, шибко задевала его за сердце ее видимая перемена, и работа у него не спорилась и от рук отбивалась, а страда была в самом разгаре, и нужны в эту пору крепкие, сильные руки для тяжелой и спешной работы.
Раз – было это около бабьего лета, то есть когда лето уже миновалось и желтый да ярко-красный лист зашелестели на деревьях, – раз Федюха напоил лошадей, вместо того чтобы поужинать да лечь спать после трудового дня, стоял, прислонясь к плетню, да бессознательно глядел на околицу. Видит он – идет Антипка по улице и, завидя его, подошел к нему.
– Што, Федюха, ты все тово… – сказал он. – Ведь, чай, и спать пора.
– Да што, брат, плохо! – отвечал Федюха. – И сон на ум нейдет!
Антипка хотел, казалось, сказать ему что-то, да, верно, не придумал и молча стал тоже у плетня.
– Работа из рук валится, – продолжал Федюха, – так бы, кажись, на свет не глядел. Какая тут работа, и батька бранится: «Што ты, байт, за себя работника, што ли, нанял? Или мы, байт, на те-я работники? Хлеб-то, байт, сам для те-я в закромы ляжет да печеный в рот полезет, а твое дело – жевать только? Во на старости лет кормильца какова себе взростил…» И мама тоже, да все больше молчком берет, только ономнясь сижу я тоже этак да спать нейду, а она увидала меня, да и говорит: «Что, байт, спать не идешь, или все о Васене думаешь? Ишь, нашел, байт, раскрасавицу, у нечистого, прости Бог, што ли, перебить захотел…»
– А вправду, брось ты ее, Федюха, – сказал Антип, – выкинь ты ее из головы.
Федюха усмехнулся:
– Выкинь! А как ее выкинуть? Сор, што ли, это какой? Сам вижу, что плохо и правду они бают, да што будешь делать – не могу!
– Да што же это с Васеной-то сталось? – сказал Антип.
– В толк не возьму, – отвечал Федюха. – Уж я и подсматривал, раза два в избу к ней в полночь заглядывал – ничего! темно! А раз и видел… да немного.
– Э?
– Да! Пошел я этто как-то с неделю назад тоже поглядеть, прошел мимо избенки – ничего. Вот я и залег в траве, и лежу. Лежал, лежал, близь полночи уж, чай, было на дворе, стожары высоко так взошли, вдруг слышу – скрипнула дверь… глядь – выходит Васена… Вышла она, на плечах шубенка накинута. Осмотрелась этак, да и пошла к старому дому, почитай, возле меня прошла. Я все лежу, молчу, гляжу, што будет. Вот подошла она к дому, села лицом к лесу, кругом, знаешь, все видно, села и сидит – такая бесстрашная! Вот она сидела, сидела этак, знаешь, подгорюнившись, сидела, сидела, вплоть до петухов, и петухи пропели – все сидит. Потом слышу – вздохнула этак, поднялась, посмотрела кругом и пошла к избушке. Как поравнялась со мной, я не вытерпел и встал. «Кого, я говорю, это ты ждала, Васена?» Как она отскочит! Испужалась больно, а потом, как узнала меня, да и напустилась… «Што, байт, коли ночью в избе не спится, так нельзя и на двор выйти? Што ты мне за дозорщик? Днем, байт, от людей проходу нет, да и ночью-то тоже! Этто, байт, дрожжец надо было, подошла я к вам, думала у Дуни попросить, да наткнулась на мать твою, так мало она меня позорила: и, байт, чернокнижница-то я с бабушкой, и еретичка-то, и, байт, нам с ней людей только изводить да лиху болезнь напускать… и во двор ходить запретила, а тут ты еще досматривать пришел! Што, байт, я твоя жена разве или полюбовница? Ввек не буду ей!» А у самой глаза так засверкали…
– Ну, што ж ты?
– Да што, я сначала-то так и опешил, а потом маленько оправился. «Васена, говорю ей, а у самого голос так и дрожит, Васена, говорю, разве я для лиха за тобой подсматриваю, разве мне не тяжело, говорю, ночей не сплю, все о тебе думаю: что, думаю, с ней сделалось, рассердил, что ли, я ее чем, отчего я ей опостылел так? Бабы на тебя невесть што сплели, все отшатнулись от тебя, я один не отшатнулся! Вспомни, я говорю, Васена, так ли жили мы с тобой?»
– Ну а она што ж?
– Она словно и разжалобилась. Вздохнула, да и говорит: «Не вспоминай, байт, Федюха, что было: что было, то сплыло и быльем поросло. Спасибо, байт, тебе за любовь твою и за ласку, только не труди ты ими и себя, и меня. Много, байт, у меня и без тебя горя, не прибавляй ты его ночным дозором да встречами, люди, байт, увидят – еще больше сплетут, и коль любишь меня, дай мне зарок не подходить ночью к избе, а то, байт, ввек не прощу и слова не вымолвлю с тобой». Дал я ей зарок и заклятье, только, говорю, не сердись на меня, хотел было, знашь, за руку взять, а она вырвала ее да таково жалостно говорит мне: «Прощай, говорит, Федюха, не та стала я теперь…» – взяла да и убежала… Поглядел я ей вслед – сердце так вот захватило, инда слезы прошибли, и пошел домой…
– Это дело! – сказал Антип. – Так ничего и не узнал?
Федюха задумался и потом ударил кулаком по плетню, так что тот затрещал.
– Нет мочи моей! Невтерпеж совсем, надо порешить чем-нибудь! – сказал он. – Дал я Васене зарок не подглядывать за ней – и не буду, а не давал зарока узнавать, что крушит и изменило ее, не давал – и узнаю!
– Да как же ты это узнаешь?
– То-то вот как: думал баушке Никоновне поклониться. Уж кабы она взялась, так уж сделала бы дело. Хоть нечистому душу бы продал, да узнал наверное! Только не пойдет Никоновна против внучки. К Федосевне разве?
– А што, и взаправду! Оно, знашь, Федосевна супротив Никоновны не постоит, а, однако, все-таки тово… смекает дело…
– Пойду, попытаюсь, – сказал Федюха и отправился.
– Скажи, мотри, што она-те скажет!
– Ладно.
Они разошлись в разные стороны, но Федюха предварительно завернул в клеть, покопался там что-то и отправился.
* * *
В маленьком мире сельца Ознобиха тетка Федосевна была не последняя спица в колеснице. Никто не заподозревал ее в знахарстве или коротком знакомстве с личностями, известными под именами нечистых, но нужно ли было свадьбу сладить, игры снарядить, больного ребенка с уголька умыть или совета спросить – за всем и про все шел деревенский люд с поклоном к Федосевне, и шел недаром: знала Федосевна всякий уряд и порядок, знала все, что, когда и как творилось в старину, следовательно, знала все, что, когда и как должно твориться и нынче, должно нерушимо перейти и к потомкам. Немало знала она и того, что творится в каждой семье и избе. И от всех был Федосевне почет за ее знание, и поило, и кормило это знание Федосевну.
Несмотря на довольно позднюю пору, в избушке Федосевны был еще огонь, а сама хозяйка что-то копошилась у печки, когда пришел к ней Федюха. Он снял шапку еще в сенях; войдя, три раза перекрестился и низко поклонился Федосевне.
– Здорово, родной. Зачем Бог принес? – сказала она.
Но Федюха вместо ответа полез в карман, вынул двугривенный с дырочкой и, звякнув им, положил на стол. Увидев приношение, Федосевна своей скорой перевалкой подошла к столу, стерла с него тряпицей пыль, чинно села на лавку и приготовилась слушать.
– Прими, тетка Федосевна, не побрезгуй, – сказал Федюха, – только пособи горю.
– Вперед не приму, родной, ни за што не приму, а коль увижу, что могу пособить, тогда дело иное, – сказала она. – Што ж тебе?
– Да так и так, Федосевна, от тебя неча таить, – продолжал Федюха и рассказал Федосевне свое горе.
Лицо Федосевны, чинное и неподвижное, приняло задумчивое выражение, хотя ее серые маленькие глаза и часто поглядывали исподлобья на рассказчика, словно хотели уловить и выпытать его тайные думы, но на открытом и отуманенном горем лице Федюхи не было ничего скрытого.
– Ох, родной, недоброе творится с твоей Васеной! – таинственно сказала потом Федосевна. – Повадился к ней опасный гость, не совладать тебе с ним и не устоять супротив него!
– Слыхал и это, тетка, да плохо верится, – заметил Федюха. – Научи ты меня, как увидать ворога, дай ты мне увидать его – в этом и просьба вся моя.
Федосевна задумалась не на шутку, хотя и говорила нерешительно.
– Можно… Оно, пожалуй, можно… В избу в полночь глядел? – прибавила она.
– Глядел и больше не буду: я сказал те-е, што зарок дал, – сказал Федюха.
– Ну, коль ты не побоишься, так сделай ты, парень, вот што, – надумала Федосевна. – Возьми ты нож острый, и ступай ты в лес, что позади Никоновниной избы, и выдь ты в ночь на раздорожицу, а ноне же кстати и ущерб начался, обведи ты ножом круг около себя и воткни нож посередь круга, и сам в нем стань. И жди ты первую ночь, жди первых петухов; коль не увидишь, то вторую жди до вторых петухов, а на третью жди до третьих петухов, и коли тут уж ничего не увидишь, так, значит, тебе талану нет. А вот тебе ладанка: на себя надень – с ней ничего тебе не будет.
Она пошла, в сундуке порылась, достала ладанку и отдала Федюхе. И Федюха вышел от нее, довольный советом.
«Все ему, горемыке, с ножом-то ничего не приключится», – подумала Федосевна, запирая дверь.
* * *
В некоторых местах России, где в давние времена сходились и бились неведомые враждебные племена и ряды низких курганов над костями падших в бою да молва народная сохранили темное предание о забытых битвах, – в этих местах есть поверье о белом коне. В годовщины битв, говорит оно, в темную полночь зажигаются огоньки над могилами и слышится свист молодецкий, и на этот свист, откуда ни берется, и выбегает белый конь, и мчится, развеяв по ветру гриву, между могил, жалобно ржет, и ищет в течение веков верный конь своего падшего в бою всадника.
Неизвестный год, который шел над нашими действующими лицами, не был, как и все предыдущие и многие последующие, отмечен местными жителями той или другой цифрой, но был он памятен знамениями небесными и явлениями чудными, и эти знамения и явления крепче всякой цифры сохранят его в народной памяти, и предания о нем долго будут передаваться в длинные зимние вечера у дымящейся лучины дряхлой бабушкой трепещущему от страха и любопытства внучку. Летом в тот год видела вся деревня змия огненного, осенью пронесся слух, что с лесу, близ поляны и заросших бурьяном и кустами курганов, слыхали по ночам свист молодецкий и видали белого коня, бредущего во тьме меж могилами.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!