Текст книги "История моего знакомства с Гоголем"
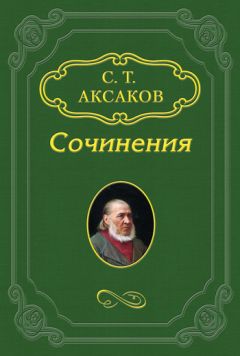
Автор книги: Сергей Аксаков
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)
«Что вы, добрый мой, замолчали, и никто из вас не напишет о себе ни словечка? Я, однакож, знаю почти все, что с вами ни делается: чего не дослышал слухом, то дослышала душа. Принимайте покорно все, что ни посылается нам, помышляя только о том, что это посылается тем, который нас создал и знает лучше, что нам нужно. Именем бога говорю вам: все обратится в добро. Не вследствие какой-либо системы говорю вам, но по опыту. Лучшее добро, какое ни добыл я, – добыл из скорбных и трудных моих минут. И ни за какие сокровища не захотел бы я, чтобы не было в моей жизни скорбных и трудных состояний, от которых ныла вся душа и недоумевал ум помочь. Ради самого Христа, не пропустите без вниманья этих слов моих. Адресуйте мне в Неаполь. Раньше генваря последних чисел я не думаю подняться в Иерусалим.
Ваш Г.».
Сохранились за это время выписки из писем Веры Сергеевны к М. Г. Карташевской:
От 7 апреля. «Недавно пересылала нам Смирнова письмо от Гоголя; он пишет, что проведет все лето в дороге, что ему необходимо нужно; что поедет в Турцию, в Иерусалим; что он теперь, несмотря на свои физические страдания, испытывает чудные минуты; что его страдания самые необходимы для его труда; и по всему видно, что труд его уже почти готов; он просит всех молиться за него».
От 29 июля. «В 88-м N Московской газеты напечатана прекрасная, занимательная статья Гоголя, которая нас порадовала во многих отношениях; видно, что он теперь бодр и занят своим трудом. Эта статья – по случаю перевода Жуковским „Одиссеи“. Может быть, Гоголь и ошибается насчет достоинства перевода и даже насчет того впечатления, которое произведет „Одиссея“, но статья его не менее от того глубока и замечательна».
От 26 сентября. «Я тебе еще не писала, что на днях должно выйти новое сочинение Гоголя, содержание которого неизвестно; оно печатается под величайшим секретом в Петербурге по его поручению; ждем и нетерпеливо, что может оно заключать? У нас же прошли слухи, что будто это отрывки из его переписки с друзьями, что будто он сжег второй том „Мертвых душ“ и так далее; слухи, по которым должно заключить, что он не совсем в здравом уме, по крайней мере слишком односторонен».
От 3 декабря. «Гоголь или болен, или потерял здравый смысл, живя так долго один в землях чужих. Может быть, даже и влияние, ему самому незаметное католицизма, хотя не нарушая форм православия, дает этот странный характер его религиозному направлению, которое, наконец, овладело им до такой степени, что художник исчезает. Это так грустно и нам, даже несмотря на наши собственные невеселые обстоятельства. Отесенька так волновался и огорчался, что мы не допускали даже разговоров о Гоголе. Несмотря на наши все убеждения, отесенька, хотя не вдруг, продиктовал письмо к Гоголю, вполне откровенное, и столько сильное и прекрасное, что, если в Гоголе осталась капля здравого смысла, оно должно его поразить и образумить. Вообрази, что он прислал к нам к четвертому и пятому изданию „Ревизора“ „Предуведомление“, которое состоит вот в чем: Гоголь назначает деньги, вырученные за „Ревизора“, в пользу бедных, особенно мелких чиновников. Он просит всех читателей разузнать о бедных и сообщать об них сведения лицам, избранным им на это дело, и сообщать не только письменно, но и лично. Лица же эти обязаны разузнавать о причине бедности и даже давать наставления и употреблять даже священников на то. Лица же эти почти все наши знакомые: именно, Елагина, Свербеева и я, – как тебе это покажется, – несколько и мужчин; и так же в Петербурге. В своем предисловии к книге, которая должна выйти в Петербурге, он объявляет, что у него не остается манускриптов, что он сжег все свои бумаги и т. д.».
От 27 декабря. «Об Гоголе слухи все не лучше. Говорят, он еще хочет издать книгу о русском духовенстве, – не знаю, правда ли? Отесенька с тем и писал письмо к Плетневу, чтобы остановить печатание всех этих нелепостей, но Плетнев так ограничен, что не понял или не хочет понять всей этой нелепости, и говорит: нам порукой Жуковский, который одобрил все намерения Гоголя. Письмо отесеньки к Гоголю у нас есть, отесенька его никому почти не показывал, для того чтобы Гоголь не обиделся, но тебе, разумеется, показал бы. Что-то он будет отвечать! Мы мало имеем надежды на то, чтоб оно произвело благодетельное на него влияние; то есть, чтоб заставило его взглянуть здравыми глазами на все свои действия. Этот взгляд, эти мысли глубоко вкоренились в нем и слишком согласны вообще с его странным характером. Говорят даже, будто он целые дни проводит с монахами, но мы этому решительно не верим; он, напротив, сохранил все формы православия, принявши дух религии католической, – потому что все это желание проповедовать, обращать, налагать какие-то внешние формы и для молитвы и для благотворительности – все это в духе католическом, а не в нашем».
К этим строкам можно прибавить еще выписки из писем С. Т. Аксакова к сыну Ивану в Калугу.
От 26 августа 1846 г. «Мы получили верное и секретное известие из Петербурга, что там печатается целая книга, присланная от Гоголя: „Отрывки из писем, или Переписка с друзьями“ (названия хорошенько не помню). Вероятно, там помещено много из его писем к А. О. <Смирновой>, к Языкову и ко мне. Между прочим, там Гоголь признает совершенную ничтожность всего им написанного и говорит, что изорвал продолжение „Мертвых душ“; объявляет, что едет в Ерусалим и делает какое-то завещание России. Плетнев печатает эту книгу в возможном секрете и потому не говорит об этом никому ни слова. Без сомнения, А. О. должна это знать. Увы! исполняется мое давнишнее опасение! религиозная восторженность убила великого художника и даже сделает его сумасшедшим. Это истинное несчастие, истинное горе».
От последних чисел ноября. «Я написал и послал сильный протест к Плетневу, чтобы не выпускал в свет новой книги Гоголя, которая состоит из отрывков писем его к друзьям и в которой точно есть завещание к целой России, где Гоголь просит, чтобы она не ставила над ним никакого памятника, и уведомляет, что он сжег все свои бумаги. Я требую также, чтобы не печатать „Предуведомления“ к пятому изданию „Ревизора“: ибо все это с начала до конца чушь, дичь и нелепость, и если будет обнародовано, сделает Гоголя посмешищем всей России. То же самое объявил я Шевыреву. Не обязывая их к полному согласию со мною, я убеждаю их написать Гоголю с совершенной откровенностью, что они думают. Сам я начал диктовать большое письмо к Гоголю, где я высказываю ему беспощадную правду. Очень жаль, что диктовка этого письма, сильно меня волнуя, увеличивает мои страдания, что и заставляет диктовать понемногу: оно потеряет свою цельность и энергию. Если Гоголь не послушает нас, то я предлагаю Плетневу и Шевыреву отказаться от исполнения его поручения. Пусть он находит себе других палачей».
От 3 декабря. «Я уведомил тебя, что писал Плетневу; вчера получил от него неудовлетворительный ответ. Письмо к Гоголю лежало тяжелым камнем на моем сердце; наконец, в несколько приемов я написал его. Я довольно пострадал за то, но согласился бы вытерпеть вдесятеро более мучения, только бы оно было полезно, в чем я сомневаюсь. Болезнь укоренилась, и лекарство будет не действительно или даже вредно; нужды нет, я исполнил свой долг как друг, как русский и как человек».
Об этом времени и по этому поводу есть еще особый рассказ С. Т. Аксакова, составляющий выдержку из его воспоминаний, которые были им отданы П. А. Кулишу.
«В конце 1846 года, во время жестокой моей болезни, дошли до меня слухи, что в Петербурге печатается „Переписка с друзьями“, мне даже сообщили по нескольку строк из разных ее мест. Я пришел в ужас и немедленно написал к Гоголю большое письмо, в котором просил его отложить выход книги хотя на несколько времени. На это письмо я получил от Гоголя ответ уже в 1847 году… Из этого ответа видно, что если мое письмо и поколебало Гоголя, то он не хотел в этом сознаться; а что он поколебался, это доказывается отменением некоторых распоряжений его, связанных с изданием „Ревизора с Развязкой“. На них я нападал всего более, но об этом говорить еще рано. Между тем мне прочли кое-как два раза его книгу (я был еще болен и ужасно страдал). Я пришел в восторженное состояние от негодования и продиктовал к Гоголю другое небольшое, но жестокое письмо. В это время Д. Н. Свербеев, в письме ко мне, сделал несколько очень справедливых замечаний. Я послал и его письмо вместе с своим к Гоголю».
Вот первое письмо, продиктованное С. Т. Аксаковым:
«9 декабря 1846 г.
Давно, очень давно надобно было писать к вам. Давно душа моя рвалась излиться в вашу душу; но с февраля прошедшего года я жестоко страдаю и только летом имею отдых, как будто для того, чтоб собраться с силами; с 1-го же октября по настоящее число декабря я страдаю постоянно. Но главное препятствие состояло не в этом: при всяком ослаблении болезни я думаю и думал об вас и часто говорю мысленно с вами; итак, стоило только эти мысли положить на бумагу, и это-то меня до сих пор останавливало. Я хочу говорить с вами так глубоко откровенно, что только мой голос или моя рука имеет право произнести или написать такие речи; а я с трудом могу подписать мое имя! Необходимость заставила меня употребить Константина, такого человека, который любит вас и предан вам беспредельно. Кажется, вы не должны оскорбиться этим.
Уже давно начало не нравиться мне ваше религиозное направление. Не потому, что я, будучи плохим христианином, плохо понимал его и оттого боялся; но потому, что проявление христианского смирения казалось мне проявлением духовной гордости вашей. Многие места в ваших письмах ко мне меня смущали; но они были окружены таким блеском поэзии, такою искренностью чувства, что я не смел предаться, не смел поверить моему внутреннему голосу, их охуждавшему, и старался перетолковать свое неприятное впечатление в благоприятную для вас сторону. Я бывал даже увлечен, ослеплен вами и помню, что один раз написал к вам горячее письмо, истинно скорбя о том, что я сам, как христианин, неизмеримо далек от того, чем бы я мог быть.
Между тем ваше новое направление развивалось и росло. Опасения мои возобновились с большей силой: каждое ваше письмо подтверждало их. Вместо прежних дружеских, теплых излияний начали появляться наставления проповедника, таинственные, иногда пророческие, всегда холодные и, что всего хуже, полные гордыни в рубище смирения. Я мог бы доказать слова мои многими выписками из ваших писем, но считаю это излишним и слишком тягостным для себя трудом. Вскоре прислали вы нам при самом загадочном письме душеспасительное житие Фомы Кемпийского с подробным рецептом: как, когда и поскольку употреблять его, обещая нам несомненный переворот в духовной жизни нашей… Опасения мои превратились в страх, и я написал вам довольно резкое и откровенное письмо. В это время меня начинала постигать ужасная беда: я терял безвозвратно зрение в одном глазу и начинал чувствовать ослабление его в другом. Отчаяние овладевало мною. Я излил скорбь мою в вашу душу и получил в ответ несколько сухих и холодных строк, способных не умилить, не усладить страждущее сердце друга, а возмутить его. После того вы были долго больны сами, и вскоре после вашего медленного выздоровления начались мои мучительные страдания, и теперь продолжающиеся. Немного было предметов, возбуждавших мое душевное участие; но вы были из первых. Телесное здоровье ваше, как видно, поправилось, и деятельность возобновилась; но какая деятельность? Каждое ваше действие было для меня новым ударом, и один другого сильнейшим. Статья ваша, напечатанная в „Московских ведомостях“ о переводе „Одиссеи“, заключая в себе много прекрасного, в то же время показывала ваш непростительно ошибочный взгляд на то действие, какое вы ему предсказываете с самоуверенностью, догматически. Похвалы ваши переводу превзошли не только меру, но и самую возможность достоинства такого труда. Одни видели в этом поэтическое увлечение, другие – пристрастие дружбы; но я знал вас хорошо: ясность и глубина взгляда и верность суда, даже в предметах, мало вам известных, были отличительными вашими качествами, и я, посреди похвал и восклицаний ваших друзей и почитателей, горестно молчал и, тоскуя, думал о будущем. Предисловие ваше ко второму изданию „Мертвых душ“ поразило меня глубже, и когда Шевырев читал мне его, то мои стенания от физических мучений заменялись стенаниями душевными, и я тогда же предлагал не печатать вашего объяснения с читателями. В коротких словах скажу вам заключение, которое выведет из него здравый толк простого русского человека. „Кой черт, – скажет он, – сочинитель сам признается, что плохо знает Русь, и для того, чтобы избежать промахов во втором томе своего сочинения, почти пять лет живет за границей, да, видно, и еще хочет там оставаться, потому что просит нас замечать его промахи, описывать нравы наши, обычаи и вообще весь русский быт и все это пересылать к нему через петербургских и московских корреспондентов! Он, видно, хочет, живя на чужбине и с каждым днем забывая то, что знал о святой Руси, чужими руками жар загребать“. Нужно ли говорить, что скажут те люди, которые понимают, как ложна мысль, будто из мертвых описаний житейских фактов и анекдотов может постигаться жизнь и дух обширнейшей, разнообразнейшей страны и великого народа, в ней живущего. Вслед за этим разнеслись темные слухи, что в Петербурге печатается целая книга ваших сочинений, в которой помещена ваша переписка с друзьями, состоящая из проповедей и пророчеств, ваше признанье, что все написанное вами до сих пор ничтожно и не достойно внимания, ваше извещение, что вы сожгли продолжение „Мертвых душ“ и что вы отправляетесь в Иерусалим, и, наконец, ваше завещание, чтоб не ставили никакого памятника на вашей могиле. Не зная, до какой степени справедливы эти слухи, тем не менее уже не я один, но многие из тех, для коих драгоценны вы и ваш великий талант, пришли в неописанный ужас. Враги ваши торжествовали, и уже Брамбеус торжественно и печатно объявил, что новый Гомер впал в мистицизм. Вскоре получили мы доказательства, после которых, по моему мнению, должно было всему поверить: мы получили для напечатания „Предуведомление“ к четвертому изданию „Ревизора“ в пользу бедных и новую Развязку. Друг мой, где же то христианское смирение, которое велит делать добро так, чтоб шуйца не ведала, что творит десница? Вы всенародно, в услышание всей России, устраиваете свое благотворительное общество, назначаете поименно членов оного и с подробностью предписываете им образ их действий, невозможный в исполнении, несообразный ни с чем до последней крайности. Как вы могли подумать, что лица, назначаемые вами, особенно женщины, могли быть так неразборчивы, так нескромны, что согласились бы принять публичные обязанности благотворения, вами на них возлагаемые?.. Разумеется, никто не согласится, и ваше „Предуведомление“ уничтожается само собою. Но где же ваш прежний ясный и здравый взгляд на публичность, гласность в деле благотворения? Давно ли вы сами поручали такие дела Шевыреву и мне под условием глубокой тайны? Этой тайны не знают даже наши семейства. Наконец, обращаюсь к последнему вашему действию – к новой Развязке „Ревизора“. Не говорю о том, что тут нет никакой развязки, да и нет в ней никакой надобности; но подумали ли вы о том, каким образом Щепкин, давая себе в бенефис „Ревизора“, увенчает сам себя каким-то венцом, поднесенным ему актерами? Вы позабыли всякую человеческую скромность. Вы позабыли, вы уже не знаете, как приняла бы все это русская образованная публика. Вы позабыли, что мы не французы, которые готовы бессмысленно восторгаться от всякой эффектной церемонии. Но мало этого. Скажите мне, ради бога, положа руку на сердце: неужели ваши объяснения „Ревизора“ искренни? Неужели вы, испугавшись нелепых толкований невежд и дураков, сами святотатственно посягаете на искажение своих живых творческих созданий, называя их аллегорическими лицами? Неужели вы не видите, что аллегория внутреннего города не льнет к ним, как горох к стене; что название Хлестакова светскою совестью не имеет смысла, ибо принятие Хлестакова за ревизора есть случайность? Вы некогда обвиняли меня в неполной искренности, вы требовали беспощадной правды – вот она. Если выражения мои резки, то вы, зная меня, не должны ими оскорбиться; но берегитесь подумать, что это вспышка моей горячей, страстной, как вы называете, натуры, – вы жестоко ошибетесь. Пятый год душа моя наполняется этими чувствами и убеждениями, и, наконец, переполнилась мера. Посердитесь на меня, лишите меня вашей дружбы, но внемлите правде, высказанной мною».
Ответ Гоголя прибыл уже в 1847 году.
«Неаполь. 1847. Генваря 20, нового стиля.
Я получил ваше письмо, добрый друг мой Сергей Тимофеевич. Благодарю вас за него. Все, что нужно взять из него к соображению, взято. Сим бы следовало и ограничиться; но так как в письме вашем заметно большое беспокойство обо мне, то я считаю нужным сказать вам несколько слов. Вновь повторяю вам еще раз, что вы в заблуждении, подозревая во мне какое-то новое направление. От ранней юности моей у меня была одна дорога, по которой иду. Я был только скрытен, потому что был неглуп, – вот и все. Причиной нынешних ваших выводов и заключений обо мне (сделанных как вами, так и другими) было то, что я, понадеявшись на свои силы и на (будто бы) совершившуюся зрелость свою, отважился заговорить о том, о чем бы следовало до времени еще немножко помолчать, покуда слова мои не придут в такую ясность, что и ребенку стали бы понятны. Вот вам вся история моего мистицизма. Мне следовало несколько времени еще поработать в тишине, еще жечь то, что следует жечь, никому не говорить ни слова о внутреннем себе и не откликаться ни на что, особенно не давать никакого ответа моим друзьям насчет сочинений моих. Отчасти неблагоразумные подталкиванья со стороны их, отчасти невозможность видеть самому, на какой степени собственного своего воспитанья нахожусь, были причиной появления статей, так возмутивших дух ваш. С другой стороны, совершилось все это не без воли божией. Появление книги моей, содержащей переписку со многими весьма замечательными людьми в России (с которыми я бы, может быть, никогда не встретился, если бы жил сам в России и оставался в Москве), нужно будет многим (несмотря на все непонятные места) во многих истинно существенных отношениях. А еще более будет нужно для меня самого. На книгу мою нападут со всех углов, со всех сторон и во всех возможных отношениях. Эти нападения мне теперь слишком нужны: они покажут мне ближе меня самого и покажут мне в то же время вас, то есть моих читателей. Не увидевши яснее, что такое в настоящую минуту я сам и что такое мои читатели, я был бы в решительной невозможности сделать дельно свое дело. Но это вам покуда не будет понятно; возьмите лучше это просто на веру; вы чрез то останетесь в барышах! А чувств ваших от меня не скрывайте никаких! По прочтении книги тот же час, покуда еще ничто не простыло, изливайте все наголо, как есть, на бумагу. Никак не смущайтесь тем, если у вас будут вырываться жесткие слова: это совершенно ничего; я даже их очень люблю. Чем вы будете со мной откровеннее, тем в больших останетесь барышах. Руку для того употребляйте первую, какая вам подвернется; кто почетче и побойчее пишет, тому и диктуйте. Секретов у меня в этом отношении нет никаких. Один только секрет и был, о котором я просил вас никогда даже и мне не напоминать и о котором вы неблагоразумно упомянули в вашем письме. Сами сказали, что о нем и семейство ваше не знает, и дали написать эти слова не вашей руке. Это нехорошо. Если вы почувствовали надобность упомянуть об этом деле для того, чтобы сделать сравнение с распоряжением по части продажи „Ревизора“ (которого издание и представление мною отложено), то лучше было обойтись просто, без этого сравнения, тем более, что оно совсем неверно и невпопад. Есть дела, которые действительно нужно производить так, чтобы и другая рука наша не видела того, и есть дела, которые нужно производить открыто, в виду всех, которые суть просто наш непременный долг, а не подвиг благотворения. Если почти все наши писатели издавали книги для бедных, если даже Булгарин, Греч и многие другие, укоряемые в корыстолюбии, производили в пользу бедных пожертвованья, публичные чтения и тому подобные, – почему же я не могу также и что же я за исключение? и отчего копейка от другого есть долг, а от меня подвиг благотворения? Друг мой, вы не взвесили как следует вещи и слова ваши вздумали подкреплять словами самого Христа. Это может безошибочно делать один только тот, кто уже весь живет во Христе, внес его во все дела свои, помышленья и начинанья, им осмыслил всю жизнь свою и весь исполнился духа Христова. А иначе – во всяком слове Христа вы будете видеть свой смысл, а не тот, в котором оно сказано. Но довольно с вас. Не позабудьте же: откровенность во всем, что ни относится в мыслях ваших до меня! Обнимаю вас! Передайте поклон всем вашим.
Вас очень любящий Г.».
До получения ответа от Гоголя Аксаков успел уже прочитать «Выбранные места из переписки с друзьями» и под свежим впечатлением этой книги продиктовал два негодующих письма: одно в Калугу, к сыну Ивану, который сочувственно относился к «Выбранным местам», другое – к самому Гоголю. Вот первое из них:
«14 января 1847 г.
Сейчас получил письмо твое, милый друг Иван, от 11 января. Не будучи в состоянии заниматься теперь никаким другим делом, кроме разговора с тобою, я принимаюсь диктовать письмо, хотя оно пойдет еще послезавтра. Письмо твое не изумило, не поразило меня, а просто уничтожило на некоторое время. Я также прочел всю книгу Гоголя. Если бы я не имел утешения думать, что он на некоторых предметах помешался, то жестким бы словом я назвал его. Я вижу в Гоголе добычу сатанинской гордости, а не христианское смирение. Я никогда не прощу ему выходок на Погодина: в них дышит дьявольская злоба, а он изволит утопать в сладости любви христианской. Меня оскорбило письмо его к Веневитинову, которое и написать совестно, не только напечатать, которое нашпиговано ангельскими устами и небесным голосом, где определяется чисто католическое воззрение на красоту женщины и употребление оной и, между прочим, говорится о рукоплесканиях на небесах. Я не мог читать без отвращения печатное завещание человека живого и здорового, в каждом слове которого дышит неимоверная гордость и опять-таки злоба на Погодина, где эстамп „Преображения господня“ так и ложится рядом с его портретом. Боже мой, какое впечатление произведет это завещание на его бедную мать! Я не мог без горького смеха слушать его наставление помещикам, как надобно им пахать, жать и косить впереди своих крестьян; как заставлять их прикладываться к некоторым словам священного писания, тыкая в них пальцем, как чинить суд и расправу и как уверить умный русский народ, что помещик для того только справляет барщину, чтоб они в поте лица снедали хлеб свой; как раскладывать свой годовой доход, которого никогда при начале года в руках не бывает, на семь куч и если в куче, назначенной для благотворения, недостает денег, то дать людям умирать возле себя, а из другой кучи не брать! Я не мог без жалости слышать этот язык, пошлый, сухой, вялый и безжизненный, которым ты упиваешься, и только статья о русской литературе и литераторах и письмо об Иванове напомнили мне прежнего Гоголя. Неужели не поразило тебя выражение: прекрасный небесный отец наш и рядом: прекрасный друг мой (говоря о Жуковском)? Я теперь уже готов услышать от тебя, что статья, которой не называю, непосредственно вытекает из духа христианского. Этот дух по крайней мере неглуп. Я прочел книгу и отдал читать другим; пишу теперь на память, которая у меня плоха. Я уверен, что найду в ней десяток подобных доказательств. Я не буду знать, что мне возразить тому человеку, который скажет: это хохлацкая шутка; широко замахнулся, не совладел с громадностью художественного исполнения второго тома, да и прикинулся проповедником христианства.
Мы все сбираемся писать к Гоголю, более или менее в одинаковом смысле. Разумеется, все, что я написал тебе, я не только никому не скажу, но и не позволю сказать при мне, кроме истинных друзей Гоголя.
16 января. Обстоятельства переменяются. Мы не можем молчать о Гоголе, мы должны публично порицать его. Шевырев даже хочет напечатать беспощадный разбор его книги. Дело в том, что хвалители и ругатели Гоголя переменились местами: все мистики, все ханжи, все примиряющиеся с подлою жизнию своею возгласами о христианском смирении, весь скотный двор Глинки, а особенно женская свита К. В. Новосильцевой утопают в слезах и восхищении. Я думал, что вся Россия даст ему публичную оплеуху, и потому не для чего нам присоединять рук своих к этой пощечине; но теперь вижу, что хвалителей будет очень много, и Гоголь может утвердиться в своем сумасшествии. Книга его может быть вредна многим. Вчера был у меня Погодин. Он признается, что в первые минуты был оскорблен до глубины души (Шевырев сказывал, что он горько плакал), но скоро успокоился и теперь искренно смеется. Он хочет написать к Гоголю: „Друг мой, Иисус Христос учит нас подставлять правую ланиту, получив пощечину в левую: но где же учит он давать публичные оплеухи?“ Вся его книга проникнута лестью и страшной гордостью под личиной смирения. Он льстит женщине, ее красоте, ее прелестям; он льстит Жуковскому, он льстит власти. Он не устыдился напечатать, что нигде нельзя говорить так свободно правду, как у нас. Может ли быть безумнее гордость, как требование, чтоб, по смерти его, его завещание было немедленно напечатано во всех журналах, газетах и ведомостях, дабы никто не мог отговориться неведением оного? Чтоб не ставили ему памятника, а чтоб каждый вместо того сделался лучшим? Чтоб все исправлялись о имени его?.. Все это надобно повершить фактом, который равносилен 41-му числу мартобря (в „Записках сумасшедшего“)… Сейчас получили письмо твое от 14 января и вместе с ним письмо от матери Гоголя, которая еще не получила его книги, но получила его завещание… Добрый и нежный сын! Книги Гоголя в продаже нет, ибо всего было прислано тридцать пять экземпляров, а тысяча двести выслано из Петербурга в прошедший понедельник; итак, ты не скоро еще ее получишь. Я уверен, что мысли твои о книге Гоголя должны измениться. Ты обольстил сам себя предположением чистого христианского направления в Гоголе. Что Александра Осиповна? Если ты захочешь, то можешь показать ей или прочесть в моем письме все, касающееся до книги Гоголя. Я даже желал бы сообщить ей письмо мое к нему, читанное тобою. Неужели необыкновенный ум этой женщины не поймет меня? Целую, обнимаю и благословляю тебя. Отец и друг С. Аксаков».
А вот другое письмо С. Т. о «Выбранных местах», адресованное Гоголю, от 27 января 1847 года:
«Друг мой! Если вы желали произвести шум, желали, чтоб высказались и хвалители и порицатели ваши, которые теперь отчасти переменились местами, то вы вполне достигли своей цели. Если это была с вашей стороны шутка, то успех превзошел самые смелые ожидания: все одурачено! Противники и защитники представляют бесконечно разнообразный ряд комических явлений… Но, увы! нельзя мне обмануть себя: вы искренно подумали, что призвание ваше состоит в возвещении людям высоких нравственных истин в форме рассуждений и поучений, которых образчик содержится в вашей книге… Вы грубо и жалко ошиблись. Вы совершенно сбились, запутались, противоречите сами себе беспрестанно и, думая служить небу и человечеству, – оскорбляете и бога и человека.
Если б эту книгу написал обыкновенный писатель – бог бы с ним! Но книга написана вами; в ней блещет местами прежний могучий талант ваш, и потому книга ваша вредна: она распространяет ложь ваших умствований и заблуждений. Издали предчувствовал я эту беду, долго горевал и думал встретить грозу спокойно; но когда разразился удар, то разлетелось мое разумное спокойствие. О, недобрый был тот день и час, когда вы вздумали ехать в чужие края, в этот Рим, губитель русских умов и дарований! Дадут богу ответ эти друзья ваши, слепые фанатики и знаменитые маниловы, которые не только допустили, но и сами помогли вам запутаться в сети собственного ума вашего, дьявольской гордости, которую вы принимаете за христианское смирение. Горько убеждаюсь я, что никому не проходит безнаказанно бегство из отечества: ибо продолжительное отсутствие есть уже бегство – измена ему.
Я не хотел писать к вам до получения ответа на письмо мое от 9 декабря, но сердце не вытерпело. Вероятно, вы получите много писем. Вы просили печатно всех сказать свое мнение откровенно, и многие это сделают. Прилагаю письмо Д. Н. Свербеева, которое он пишет почему-то ко мне, а не прямо к вам. Прощайте. Обнимаю вас и молю бога, чтоб он укрепил ваше здоровье и успокоил ваш дух. Я не страдаю от своей болезни и понемногу оправляюсь.
Друг ваш С. Аксаков.
P. S. Я не хотел и не хочу касаться до частностей вашей книги, но не могу умолчать о том, что меня всего более оскорбляет и раздражает: я говорю о ваших злобных выходках против Погодина. Я не верил глазам своим, что вы даже в завещании (я верю вам, что вы писали точно завещание, а не сочинение, хотя этому поверить довольно трудно), расставаясь с миром и со всеми его презренными страстями, позорите, бесчестите человека, которого называли другом и который точно был вам друг, но по-своему. Погодин сначала был глубоко оскорблен, мне сказывали даже, что он плакал; но скоро успокоился. Он хотел написать к вам следующее: «Друг мой! Иисус Христос учит нас, получив оплеуху в одну ланиту, подставлять со смирением другую; но где же он учит давать публичные оплеухи?» Желал бы я знать, как бы вы умудрились отвечать ему.
Мой адрес: в Леонтиевском переулке, в доме Рюмина».
Едва только было отправлено это письмо, как прибыл ответ Гоголя на письмо от 9 декабря 1846 г. из Неаполя (см. выше). Об этом ответе С. Т. писал 17 февраля 1847 г. сыну Ивану; кроме того, об этом сохранилась и выписка из письма Веры Сергеевны к М. Г. Карташевской от 21 февраля 1847 г. Вот она:
«До выхода книги <„Выбранные места из переписки с друзьями“> отесенька никому не показывал письма своего к Гоголю; но после книги, видя, что для Гоголя не существует уже более никаких частных дружеских отношений, показал свое письмо и потом ответ его. Не осталось человека, который бы более или менее не был оскорблен им, и приговор был общий, что письмо хуже книги. Еще не получая ответа от Гоголя, отесенька не выдержал и написал ему несколько строк по прочтении его книги… Отесенька даже жалел, что послал его; но теперь доволен, потому что по получении такого ответа на первое письмо не был бы в состоянии написать ему о впечатлении, произведенном его книгою. Отесенька удивительно спокойно и кротко принял его ответ, но писать к нему с тою душевною горячею откровенностью, после такого ответа, разумеется, не в состоянии».
Вот выдержки из нескольких писем С. Т. к сыну Ивану:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































