Читать книгу "Собирание бабочек"
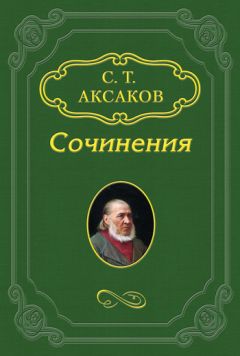
Автор книги: Сергей Аксаков
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Пословица говорит: «Пришла беда – отворяй ворота», – что, к сожалению, нередко и случается; но зато часто бывает и наоборот: вслед за одной радостью скоро наступает другая. Воротясь домой, только что я раскрыл ящик с хризалидами, как представилась мне прелестная сумеречная бабочка, самой крупной породы, выведшаяся, вероятно, еще ночью, потому что крылушки ее были совершенно расправлены. По Блуменбаху, я мог признать ее Крушинною (ligustri) сумеречною бабочкою, названною им так потому, что водится на растении крушине, испанском бузняке, но я ее не определяю и не называю положительно; верхние ее крылушки у Блуменбаха вовсе не описаны. Впоследствии я убедился, что очень красивая гусеница этой прекрасной бабочки живет преимущественно на крыжовнике и барбарисе. Крылья у ней – верхние темносерого цвета, с белыми пятнами или матово-белыми с темными пятнами: я потому говорю или, что обоих цветов находится поровну, и я не знаю, который из них признать основным; нижние крылья – красные, как будто кровяные, с тремя черными перевязками; туловище также красное, с черными ободочками по всему брюшку, – это довольно верно описано и у Блуменбаха. После мы всегда звали эту очень красивую сумеречную бабочку Барбарисовою. Она довольно обыкновенна; но я до тех пор ее не видывал, и она показалась мне чудом красоты. Да и как было не обрадоваться первой сумеречной бабочке, выведшейся у меня из найденных мною хризалид! По величине и темному цвету куколки я считал ее ночною. Поздно, но весело сел я обедать. Евсеич прислуживал мне, по обыкновению. Я заметил, что давешняя, не совсем обыкновенная, улыбка не сходила с его губ. Он от времени до времени подтрунивал над моей охотой ловить бабочек и возиться с червями, от которых гадко воняет, и я от души забавлялся его тонкими намеками и сарказмами. Пообедав, я повез свою новорожденную сумеречную красавицу, со всеми предосторожностями, чтобы не помрачить первородного блеска чудных ее красок, к другу моему Панаеву. Он принял ее почти с такой же радостью, как и знаменитого Кавалера, и немедленно разложил. Она должна была придать новый блеск нашему собранию.
На другой же день, поутру, весь университет знал о наших новых необыкновенных приобретениях, и хотя все были более или менее заняты и озабочены продолжающимися экзаменами, но приняли живое участие в наших новых бабочках. Тимьянский был даже озадачен и смущен, особенно когда увидел их. «Ну уж счастливцы! – говорил он нам. – Для вас Кавалер и в Казань прилетел. Вот, смеялись над тобой, Аксаков, что ты возишься по пустякам с червями, а пойди-ко достань такую сумеречную Крушинную бабочку, совершенно свежую и не потертую!.. так нигде не достанешь!»
Университетские экзамены кончились, а гимназические еще оканчивались. Семеро студентов, в том числе и я, продолжали ходить в высший русский класс к Ибрагимову (прежде в гимназии у него был средний, а высший занимал Л. С. Левицкий) и должны были явиться на гимназический экзамен, назначенный последним, заключительным. Товарищи мои обижались этим, а я, напротив, был очень доволен. Гимназические экзамены вообще шли полнее, стройнее и соответственнее своему назначению. У Ибрагимова же русский экзамен был его блестящим торжеством: мы читали свои сочинения, говорили о старой и новой литературе и критически оценивали лучших наших писателей. Мое декламаторство также было употреблено в дело. Все, волею или неволею, осыпали похвалами Ибрагимова, обиженного тем, что его не сделали адъюнктом, и поздравляли с блестящими успехами его учеников. Никогда не забуду светящихся удовольствием татарских глаз и раздвинутого улыбкою до ушей большого рта незабвенного для меня Николая Мисаиловича Ибрагимова, воспоминание о котором всегда сливается в моей памяти с самыми отрадными и чистыми воспоминаниями юношеских учебных годов. «Благодарствуйте, Аксаков! – говорил он. – Мне всегда было приятно заниматься с вами, вы отблагодарили меня достойным образом». Я обнимал его, уверяя, что очень чувствую и никогда не забуду, как много ему обязан.
Наконец, все экзамены кончились. Надобно было ехать на летнюю вакацию: мне в Симбирскую губернию, в Старое Аксаково, где жило этот год мое семейство, а Панаевым – в Тетюшский уезд Казанской губернии, где жила их мать и сестры. В первый раз случилось, что радостное время поездки на вакацию в деревню, к семейству, было смущено в душе моей посторонней заботой. По совету Фукса, бабочек мы оставляли в гимназической библиотеке под надзором ее смотрителя. Но что же было делать с моими гусеницами и хризалидами? Семь ящиков и три стеклянные банки нельзя было везти с собою в простой ямской кибитке; в одни сутки червяков бы затрясло, а хризалид оторвало с места и вообще все бы расстроилось,[25]25
Так мы думали тогда, но ошибались: червяков в траве и листьях, и особенно хризалид в хлопчатой бумаге, можно везти безопасно.
[Закрыть] да и просто некуда было поместить эти громоздкие вещи; оставить же без призора мое воспитательное заведение – также было невозможно. Да и на кого же мог я положиться? В Казани оставался только мой кучер с лошадью. Кто мог заменить меня? Признаюсь также, что жаль мне было оторваться от этого постоянного наблюдения, попечения, забот и ожиданий, которые я уже привык устремлять на жизнь моих питомцев, беспрестанно ожидая новых превращений и, наконец, последнего, полного превращения в какую-нибудь неизвестную мне чудную бабочку. Но делать было нечего, и с этою мыслию я уже примирился. Оставалось только решить, кому поручить их. Я готов уже был избрать в попечители о моих гусеницах и хризалидах оставшегося жить в моем флигеле Александра Германа, который невольным образом уже присмотрелся к этому делу и не отказывался от него; но он был очень ветрен и неблагонадежен. Вдруг пришел мне в голову Тимьянский: ему не к кому, некуда было ехать, и он оставался вакацию в университете, как и многие другие. Почему не попросить его? По моему мнению, наше соперничество не мешало ему заняться моими гусеницами и хризалидами, к которым он, как натуралист, не мог быть совершенно равнодушен. Я не ошибся. Лишь только я заговорил о моем затруднительном положении, Тимьянский сейчас, искренно и добродушно, вызвался сам присмотреть за моими питомцами. Я сказал Тимьянскому, что хотел просить его об этом и был заранее уверен, что он не откажется одолжить и успокоить товарища и что я сердечно ему благодарен. Точно гора свалилась у меня с плеч! Я знал, что целая комната возле нашего физического кабинета, то есть кабинета с физическими инструментами, находилась в его распоряжении для сушки бабочек и насекомых и даже аудитория, в которой читал Фукс и от которой он имел ключ: следовательно, ему было где разместиться; свежих же листьев и трав для корма червей он мог ежедневно доставать в саду, который находился при соседственном доме, купленном в казну для университета. Итак, поблагодарив еще раз от всей души доброго товарища за его радушную готовность принять на себя мои хлопоты и заботы, я сейчас же отправился к Панаеву, чтобы сообщить ему это приятное известие. Друг мой принял его не так, как я ожидал. Он был немножко недоверчив и даже подозрителен и хотя не предполагал никакого дурного намерения у Тимьянского, но не ожидал слишком усердного попечения об умножении и украшении нашего собрания бабочек. Впрочем, он соглашался, что в настоящем нашем положении – это самое лучшее, чего можно было желать. В тот же день мы с Панаевым бережно перевезли бабочек в библиотеку, а моих гусениц и хризалид в особую комнату возле физического кабинета, назначенную для кабинета натуральной истории, где и сдали их с рук на руки Тимьянскому и Кайсарову. Я убедительно просил и Кайсарова присматривать за моими питомниками, и он обещал, но, по своему обыкновению и нраву, обещал очень холодно, так что я не полагал на него никакой надежды, в чем, однако, к большому моему удовольствию, совершенно ошибся. Кайсаров был как-то сух и необщителен. Я не знаю, был ли у него в целом университете не только друг, но короткий приятель; с Тимьянским тоже у него не было никакой близости; я удивился, когда он сделался его помощником в собирании бабочек и насекомых. При прощании Тимьянский сказал нам: «Послушайте, господа, я стану усердно смотреть за вашими червями и хризалидами, но ведь я за успех не ручаюсь. Легко быть может, что гусеницы и хризалиды поколеют до своего превращения, так, чур, за это на меня не сердиться. Всех бабочек, которые выведутся, я разложу, как умею, высушу и сохраню… Да, кстати: сухие бабочки часто пропадают от моли, – это сказал мне Фукс и советовал напоить их туловище камфарою, то есть помазать и покапать на них с кисточки камфарным спиртом. Не худо вам сделать это сейчас с вашими бабочками, которых вы оставляете в библиотеке. Вот вам и кисточка и камфарный спирт». Такая заботливость убедила и друга моего Панаева в совершенном доброжелательстве Тимьянского. Мы с благодарностью воспользовались его предложением и сейчас побежали в библиотеку. Еще раз взглянули и простились с нашими чудесными бабочками, помазали камфарным спиртом, заперли ящики и ключики отдали, на всякий случай, Тимьянскому. Мы простились с ним дружески, искренно уверяя, что во всем на него полагаемся и, чтобы ни случилось, за все будем благодарны. Простились также со всеми товарищами, остававшимися в университете, и, напутствуемые их добрыми желаниями, отправились домой, сначала к Панаевым, где я простился с другом моим Александром и с его братьями. Лошади у них были давно запряжены; ждали только возвращения Александра и уж побранивали нас, особенно меня, за возню с червями и хризалидами, – так нетерпеливо хотелось им ехать в деревню! Да и как не хотеть, как не рваться после десятимесячной школьной жизни, летом, из города, пыльного, душного и всегда чем-нибудь вонючего, в чистое, душистое поле, в тенистые леса, в прохладу, к семейству, на родину или по крайней мере туда, где прошли детские, незабвенные года. Панаевы при мне же уехали, поместившись все пятеро в старинной линейке, на присланных за ними своих лошадях. Александр сел с порядочным ящиком в руках, в котором находилось десятка два бабочек, собранных им из дубликатов: он вез их подарить сестрам, но двое меньших братьев, сидевших с ним рядом, громко возопияли на него, утверждая, что от ящика им будет тесно… стук и дребезжанье старой линейки, тронувшейся с места, заглушили их детские голоса. Панаевы собирались и кормить и ночевать в поле; с ними были и удочки и даже ружье, – мне стало грустно и завидно. На этот раз приказано мне было приехать на почтовых, в простой ямской повозке; а главное, я должен был ехать не в милое и дорогое мне, богатое водами, лугами, болотами и отдельными рощами Оренбургское Аксаково, а в скучное, безводное, кругом лесное, старое Симбирское Аксаково, где и дома порядочного не было.
Воротясь в свою квартиру, я нашел также все готовым к отъезду. Ямские лошади были запряжены, слабо подвязанный колокольчик позвякивал от каждого движения коренной, люди, одетые по-дорожному, с картузами в руках, ждали меня на крыльце… Покуда я переодевался также в дорожное легкое платье, мысль о близком свидании с семейством, особенно с другом моим сестрицей, которая ждала меня с живейшим нетерпением, мелькнула в моей голове и радостно взволновала мое сердце, а запах дегтя и рогожи, которым пахнуло на меня от кибитки, мгновенно перенес меня в деревню, и стало легко и весело у меня на душе. Евсеич сел со мной в повозку. Иван Малыш вскочил на козлы, ямщик тряхнул вожжами, свистнул, и тройка полетела.
Когда мы выбрались из Казани и длинной городской слободы, которая называлась Мокрою, было уже не жарко, и великолепный летний вечер повеял прохладой на раскаленную землю. Стояла засуха, давно не было дождя. Я еще не испытывал настоящим образом удовольствия скорой почтовой езды, и когда ямщик, чтоб потешить молодого барина и заслужить на водку, пустил во весь опор, во весь дух свою лихую тройку, я почувствовал неизъяснимое и не известное мне, какое-то раздражающее наслаждение… Евсеич мой тоже очень был доволен. «Что, соколик, каково закатывает? – говорил он, улыбаясь. – А ведь лошадки-то, поглядеть, – дрянь! Да ты не боишься ли?» – продолжал он, видя, что я тяжело дышу и ничего не отвечаю. Мне ужасно стало досадно, но я переломил себя и ласково старался уверить моего дядьку, что, напротив, мне очень весело, что у меня сердце бьется от радости и как будто дух замирает. Это было совершенно справедливо, я говорил прерывающимся от волнения голосом. Я чувствовал такое нервное, невыразимо сладкое раздражение, такое внутреннее стремление вперед, что желал бы сам полететь, как птица! Между тем опускался вечер. Длиннее и длиннее становились тени от скачущей повозки, лошадей, кучера и Ивана Малыша, который заливался русскою песнею. Тени бледнели постепенно и, наконец, смешались с потемневшей землей. Все это вместе сильно подействовало на меня, я чувствовал какое-то волнение и не умел понять, что со мною делается. Мне не захотелось пить чаю на станции, хотя Евсеич проворно разложил погребец, а Иван Малыш наложил дорожный самоварчик. Мой отказ от чаю очень смутил доброго дядьку. Прежде этого никогда не случалось, а здесь была особенная приманка: на столе стоял горшок густых, сморщившихся холодных сливок, которые я очень любил. Евсеич подумал, что я нездоров, стал приставать с расспросами, и для его успокоения я съел целую тарелку сливок с казанскими кренделями. Лошади были готовы, и мы опять поскакали. Обидная для меня мысль, что я напугался от скорой езды, не выходила из головы Евсеича; он не велел шибко ехать, чтоб ночью как-нибудь не опрокинуться, и ужасно надоел мне своими докучными расспросами и рассуждениями. Я закрыл глаза, хотя этого было и не нужно, потому что становилось темно, притворился спящим, даже всхрапывал, покуда не заснул сам наблюдавший меня мой попечительный дядька. Я, напротив, не спал долго и после восхождения солнца, и много новых ощущений и наслаждений доставила мне эта бессонная ночь с своей вечерней и утренней зарею. Не скоро и как-то нечаянно сон овладел мною, но зато я заснул уже так крепко, что не слыхал, как переменили лошадей на станции, и проснулся часов в девять утра, разбуженный громовым ударом. Опомнившись и оглядевшись, я увидел, что над нашими головами быстро неслось небольшое грозовое облако прямо к туче, которая синела, чернела, росла ежеминутно и заволокла уже полнеба с правой стороны и у которой один край был белесоват. Там уже рубил дождевой ливень; глухой, какой-то зловещий шум и свежая влажность неслась оттуда. «Никак, град? – сказал Евсеич. – Господи, спаси и помилуй! Последний хлебец выбьет у мужичков». – Казалось, туча шла стороною; но вдруг поворотила и стала нагибать прямо на нас; крупные капли дождя зашлепали по пыльной дороге и по моей рогожной, также пыльной, кибитке. Люди засуетились, чтобы прикрыть меня и самим прикрыться. Евсеич велел ехать шагом, говоря, что в грозу скакать опасно. Скоро накрыла нас туча. Засверкали змеистые, ослепительные молнии, и мгновенно вслед за ними раздавались оглушительные громовые удары. Всякий раз казалось, что гром ударил возле нашей повозки. Сначала Евсеич, Иван Малыш и ямщик снимали шапки и крестились при блеске каждой молнии, но когда она сделалась почти беспрерывною, то и креститься перестали… Вдруг налетела буря с крупным частым градом и проливным дождем, и воздух превратился в белую водяную пыль. Должно признаться, что я не без страха смотрел на эту величественную, но грозную картину. Гнев стихий ужасен. В ту минуту он так могущественно проявлял свои разрушительные силы и ничтожность, беззащитность человеческой природы, так явно изобличалась и чувствовалась мною, что я не мог оставаться спокойным; притом я в детстве был напуган громом и тогда еще не освободился от этого тяжелого впечатления. Признаюсь, чувство невыразимо оградного спокойствия и радости разлилось в душе моей, когда удары грома начали становиться реже и отдаленнее. Туча провалила с полудня на запад, и уже голубое небо засверкало с правой стороны. Мы с Евсеичем уцелели, а Иван Малыш и ямщик были до костей промочены дождем. Но яркое летнее солнце уже спешило выкатиться на очищенное от туч небо и принялось сушить мокрого ямщика и Малыша, которые весело подсмеивались друг над другом. Нам показалось, что туча самой серединой прошла над нашими головами; но, подвигаясь, уже рысью, вперед, мы увидели, что там и дождь и град были гораздо сильнее, а громовые удары ближе и разрушительнее: лужи воды стояли на дороге, скошенные луговины были затоплены, как весною; крупный град еще не растаял и во многих местах, особенно по долочкам, лежал белыми полосами. Мы проезжали мимо хлебов, которые все были более или менее побиты градом, а некоторые десятины так вытолочены, как будто бы долго пасли на них стадо мелкого скота; не только колосья – солома, казалось, была втоптана в грязь. Вдобавок ко всему в одной окольной деревне виднелись два столба дыма, означавшие, без сомнения, пожары от молнии, а в ближнем лесу дымилось несколько расколотых деревьев, зажженных тоже молнией. Этот ужасный след быстро промчавшейся грозы был особенно поразителен при ясном небе, тишине освеженного воздуха и ярком солнечном освещении. «Ну, вот где была настоящая-то гроза, – говорил Евсеич, – а нас, видно, туча только крылушком задела». Выбитые десятины хлеба возбуждали особенное участие в моих спутниках; ямщик сам был из той деревни, куда мы ехали, и знал даже, кому принадлежали эти десятины; как нарочно, хозяева их были бедные люди, и такая потеря окончательно разоряла их. Несколько времени все трое толковали о печальном событии, и в словах моего дядьки слышалась его искренняя, неподдельная доброта. «Ах, господи! – говорил он, – кабы я был богатый, вот и пособил бы им; а то что? убытку тут на сотни, на тысячи рублев, так копейками не поможешь». Мы скоро приехали на станцию и привезли печальное известие о хлебных полях. Никто не чаял такой беды; в деревне и граду не было, а слышали только шум. Между старухами и бабами поднялся вой и плач, и некоторые сейчас пошли в поля, чтобы собственными глазами удостовериться в своем несчастье. Евсеич признался мне потом, что отдал свои копейки одному самобеднейшему семейству.
На следующей станции мы переменили лошадей в таком селении, которое своими жителями произвело на меня необыкновенное впечатление: это были татары, перекрещенные в православное вероисповедание, как мне сказали, еще при царе Иване Васильевиче; и мужчины и женщины одевались и говорили по-русски; но на всей их наружности лежал отпечаток чего-то печального и сурового, чего-то потерянного, бесприютного и беспорядочного; и платье на них сидело как-то не так, и какая-то робость была видна во всех движениях; они жили очень бедно, тогда как вокруг и татарские, и русские, и мордовские, и чувашские деревни жили зажиточно. Мой дядька Евсеич знал прежде эту деревню и знал таких же перекрещенцев в других деревнях. Он говорил мне, что они все на один лад и все бедны: от своего отстали, а к нашему не пристали; «так и маются, как какие-то Каины», – прибавил он в заключение. Слова его заставили меня очень задуматься. Я промешкал на станции лишних полчаса, стараясь внимательно вглядеться и разговориться с хозяевами. Я говорил также и с соседями их, со стариками и старухами, а также с мальчиками. Впрочем, в детях менее было заметно той грустной и неприятной особенности, которая лежала на всех взрослых: дети были живее и веселее. Тип татарской физиономии еще не истребился, но уже повыродился; никто не брил головы, но и длинных волос никто не носил; все казались какими-то сейчас остриженными, взятыми из крестьян в рекруты или на господский двор. Они отчасти понимали свое положение и считали невозможностью из него выйти. Между ними ходило предание, что праотцы их за какую-то вину должны были подвергнуться наказанию кнутом и ссылке в Сибирь в каторжную работу; что их простили за то, что они приняли русскую веру, и переселили на другие места; что Магомет их проклял и что потому они живут бедно. Все это произвело на меня тогда живое впечатление; но потом мне уже никогда не случалось бывать в деревне, населенной перекрещенцами, и я мало-помалу совершенно забыл об этих бедных и жалких людях; а любопытно было бы узнать: продолжается ли эта ужасная казнь над потомками за вероотступничество предков, совершенное без всякого убеждения, а из цели корыстной? или, наконец, смешавшись с русскими, с которыми вместе были поселены, эти невинные бедняки смягчили строгость нравственного правосудия своим долготерпением?
Далее по дороге не было и слуху о дожде и граде. Мы ехали очень скоро, и ночь застала нас уже в тридцати пяти верстах от Старого Аксакова. Я крепко заснул, не слыхал, как мы приехали, и, вероятно, проспал бы очень долго, если бы не разбудили меня ласки и поцелуи моей милой сестры. Проснувшись часов в шесть утра и узнав, что я приехал на заре и сплю в кибитке, она прибежала и разбудила меня. В доме почти все еще спали; я пошел в комнату моей сестрицы, которая немедленно сообщила мне, что наловила и собрала для меня много бабочек и червячков. Она знала из писем моих все подробности моего нового увлечения. В самом деле, червяки (многие даже не гусеницы) жили у ней в ящиках, в стеклянных банках и под опрокинутыми стаканами. Бабочки помещались на окне, которое не растворялось и с внутренней стороны было обтянуто кисеей. Эта выдумка была недурна, хотя имела ту невыгоду, что бабочки бились на стеклах и теряли свою цветную пыль; но другая выдумка была не так удачна: сестрица моя подняла фортепьянную доску, и под ней тоже были насажены разные бабочки; большая часть из них от духоты перемерли. Груды свежих трав, цветов и листьев у червей показывали заботу, с которою ухаживала за ними моя милая сестрица, хотя червяков она терпеть не могла и никогда не брала в руки. Осмотрев внимательно не ожиданное мною приобретение, я нашел несколько видов бабочек и гусениц мне не известных; много было мертвых и даже высохших, много было потертых бабочек, но довольно нашлось и таких, которых я сейчас принялся раскладывать, потому что дощечки, булавки и бумажки привез с собой. Я просил мою добрую сестру не смотреть на раскладку, говоря, что ей будет жалко; но она не хотела со мной расстаться, да и любопытно ей было поглядеть, как это делается; прижиганье на свечке заставило ее убежать, и она долго не могла равнодушно смотреть и на высушенных бабочек.
Между тем в доме все проснулись. Я не стану говорить об общей семейной радости и об особенной радости моей матери, которая видела во мне теперь настоящего студента, уже не мальчика, а молодого человека, живущего самобытною жизнию. Видела в то же время мою полную искренность и прежнюю чистоту нравов. Добрый мой отец также был очень мною доволен, и хотя он мне ничего такого не говорил, но я видел, с каким удовольствием он смотрел на меня, когда я с жаром описывал свою университетскую жизнь. Первые дни были посвящены разговорам и взаимным рассказам. Я услыхал много нового и в житейском, существенном отношении очень много важного и приятного. С своей стороны, я рассказал о своих новых и старых профессорах, о новых предметах учения, о наших студентских спектаклях, о литературных занятиях и затеях на будущее время и, наконец, о моей страсти к собиранию бабочек и о пользе, которая может произойти для науки от подобных собираний. Потом съездили мы к друзьям нашим Миницким, к двоюродной сестре моей А. И. Веригиной, бывшей воспитаннице Н. И. Куроедовой, жившей теперь уже своим домом, в своей деревеньке; съездили и к другим соседям.
Когда все разъезды были кончены, деревенская жизнь с возможными по тамошней местности удовольствиями пошла по своей обыкновенной колее. Что и говорить – не было никакого сравнения между Старым и Новым Аксаковом! Там была река, огромный пруд, купанье, уженье и самая разнообразная стрельба, а здесь воды совсем почти не было, даже воду для питья привозили за две версты из родников; охота с ружьем, правда, была чудесная, но лесная, для меня еще не доступная, да и легавой собаки не было. Впрочем, отец возил меня несколько раз на охоту за выводками глухих тетеревов, которых тамошний охотник, крестьянин Егор Филатов, умел находить и поднимать без собаки; но все это было в лесу, и я не успевал поднять ружья, как все тетеревята разлетались в разные стороны, а отец мой и охотник Егор всякий раз, однако, умудрялись как-то убивать по нескольку штук; я же только один раз убил глухого тетеревенка, имевшего глупость сесть на дерево. Вальдшнепов было великое множество, но для них еще не наступила пора. Впрочем, Егор приносил иногда старых и молодых вальдшнепов: молодых он ловил руками, с помощью своей зверовой собаки, а как он ухитрялся убивать старых – я и теперь не знаю, потому что он в лёт стрелять не умел. Около моховых болот, окруженных лесом, жило множество бекасов, старых и молодых; но я решительно не умел их стрелять, да и болотные берега озер под ногами так тряслись и опускались, «ходенем ходили», как говорили крестьяне, что я, по непривычке, и ходить там боялся. Езжали мы иногда в лес, целой семьей, за ягодами, за грибами, за орехами; но эти поездки мало меня привлекали. Итак, поневоле единственным моим наслаждением было собирание бабочек; на него-то устремил я все свое внимание и деятельность. Бабочек, по счастию, в Старом Аксакове оказалось очень много, и самых разнообразных пород; особенно же было много бабочек ночных и сумеречных. Гусениц попадалось уже мало, да я и не занимался ими, потому что выводиться было им уже некогда или поздно: наступал август месяц. При первых моих поисках и в старом плодовитом саду, и на поникшей речке Майне, и около маленьких родничков, которые кое-где просачивались по старому руслу реки, и на полянах между лесами я встретил не только бабочек, водившихся в окрестностях Казани, но много таких, о которых я не имел понятия. Сумеречных бабочек я караулил всегда в сумерки или отыскивал в лесном сумраке, даже середи дня, где они, не чувствуя яркого солнечного света, перепархивали с места на место. Ночных же бабочек, кроме отыскивания их днем в дуплах дерев или в расщелинах заборов и старых строений, я добывал ночью, приманивая их на огонь. Я сделал себе маленький фонарь и привязывал его на вершину смородинного или барбарисового куста, или на синель[26]26
Синель – сирень.
[Закрыть], или невысокую яблонь. Привлеченные светом бабочки прилетали и кружились около моего фонаря, а я, стоя неподвижно возле него с готовой рампеткой, подхватывал их на лету. В непродолжительном времени я поймал около двадцати новых экземпляров; трудно было определить их названия по Блуменбаху, как мы ни хлопотали над ним вместе с сестрой. Не ручаюсь даже за точность имен, принятых мною по некоторым признакам и сходству в описании. Я заимствовал их из нашего немецкого руководителя, и они казались мне тогда верными. Расскажу о самых замечательных бабочках по порядку, как они мне доставались. Первая бабочка, пойманная мною, должна принадлежать к породе не настоящих сумеречных бабочек, потому что признаки в ней были смешанные. Мне казалось, что ее можно отнести к одному из многочисленных видов моли, принадлежащих к породе ночных бабочек; но в описанных у Блуменбаха ее нет, да она и крупна для пород моли. Это была бабочка несколько менее средних, но и не маленькая; крылушки у ней круглые, как снег белые, покрытые длинным пухом, который на голове, спинке и брюшке еще длиннее; на этом белом пуху ярко выдаются черные, как уголь, глазки, такого же цвета длинный волосяной хоботок, толстые усики и ножки.[27]27
Н. П. В. полагает вероятным, что это была Ивовая сумеречная бабочка (Liparis Salicis).
[Закрыть]
Когда я увидел ее в первый раз, тихо вьющуюся около какого-то дерева в лесу, то опускающуюся, то поднимающуюся, я подумал, что это летает пух в душном, недоступном продольному ветерку лесном воздухе. Но когда в другой раз увидел я эту точно косматую пушинку, прильнувшую к древесному листку, тогда, подойдя поближе, к великой моей радости, я разглядел, что это бабочка. Много предстояло мне хлопот. Много надо было ловкости, чтобы ее поймать и разложить, не помявши и не потерши ее пушистых крылушек. Вторую бабочку поймал я и назвал, по Блуменбаху, Иперант (Hyperanthus). Она принадлежала по величине к породе средних бабочек; на всех ее четырех темносизых, вырезных, угольчатых крыльях находятся беленькие точки, а на изнанке нижних крыльев по три светлых очка или кружочка; она была довольно красива, или, правильнее сказать, необыкновенна. Потом поймал я Атропу, или Мертвую Голову; в ее названии ошибиться нельзя – признак слишком очевиден: возле самой ее головки, на спинке, находится нечто похожее на человеческий череп и две кости, сложенные под ним крестообразно. Верхние крылья у нее светлобурые, а задние – желтые с двумя черными поперечными полосами; брюшко желтое с черными перевязками. Хотя она показана у Блуменбаха в числе сумеречных бабочек, но мы признавали ее за ночную, по величине ее крыльев и толщине туловища.[28]28
Очевидно, что мы ошибались: в числе ночных бабочек находятся самые мелкие породы моли.
[Закрыть]
Очень была красива узором и замечательна относительной величиной своей Настоящая сумеречная бабочка, у которой крылушки верхние и нижние были совершенно клетчатые: кофейные клеточки лежали по белому полю. Маленькие в этом роде бабочки попадались часто, но такой величины я никогда уже не встречал. Она ночью залетела в комнату моей сестры и уселась очень низко в углу. Я заметил ее поутру и подумал, что это лоскуточек клетчатого ситца или кисеи пристал как-нибудь к стене, – и боже мой, как обрадовался, когда разглядел, что это бабочка. У Блуменбаха ее вовсе нет. Была также у меня очень большая ночная бабочка, вся светлобурая, у которой на крыльях лежала диагональная полоса беловато-розового цвета, так что когда я разложил ее и поднял верх длинноватые и угловатые ее крылья, то конец перевязки на верхнем сошелся с началом перевязки на нижнем крыле и они составили бы треугольник, если бы продолжить их сходящиеся концы. У Блуменбаха есть некоторое сходство с нею в описании Огородной ночной бабочки. Впрочем, сходство это ограничивается только перевязкою, похожею на треугольник. Но самыми драгоценными приобретениями, из которых каждое в свою очередь привело меня в восторг, были две бабочки: Кавалер Махаон и Большой Павлин. Вот каким образом достались мне эти сокровища. Шел я однажды по иссохшему руслу речки Майны и увидел в небольшом углублении, вероятно высохшего от жаров родничка, дно которого было еще мокровато, целую кучу белых простых капустных бабочек. Многие из них лежали уже мертвые или умирали, другие сидели в кучке, сложив свои крылья, ползали, но уже не летали, остальные вились над ними. Подобные явления для меня были не новость. Я видел, как некоторые породы бабочек, как, например, белые маленькие, голубые и маленькие же светлокоричневые с точками на задних крыльях, собираются в кучи, чтобы вместе умирать.[29]29
Такая необъяснимая особенность замечается и в других породах животных: я читал, что слоны имеют общее кладбище. Во время же мора на зайцев я сам нахаживал до десятка заячьих трупов, иногда на одной небольшой полянке. Вот как объясняет это явление г. Вагнер: «Бабочки собираются около лужиц, сырых мест по дорогам и пьют воду. Многие из них прилетают после акта оплодотворения, за которым у самцов непосредственно следует смерть. Эти-то самцы (а иногда и самки, уже положившие яйца), мучимые жаждою, слетаются к лужам и оканчивают здесь свою жизнь».
[Закрыть]









































