Читать книгу "…И больше – ничего. Всё, что осталось"
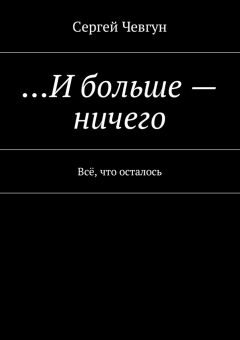
Автор книги: Сергей Чевгун
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
…И больше – ничего
Всё, что осталось
Сергей Федорович Чевгун
© Сергей Федорович Чевгун, 2017
ISBN 978-5-4485-9264-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Однажды я пообещал ему Вечность. В пределах доступного, – пока существует интернет. Теперь понимаю: Вечность – дело серьёзное. Пусть даже в электронном виде. Но слово надо держать. Иначе, зачем его надо было давать? Тогда, зимой 96-го? В Москве, на Мосфильмовской улице?..
1
Тогда, зимой 96-го, я прыгнул в проходящий поезд и подался в Москву. Время было сумбурное, смутное. Письма писать было глупо, посылать телеграммы – ещё глупей. Оставалось надеяться на домашний телефон. И на то, что трубку поднимут в любое время дня и ночи.
Сумка с вялеными лещами, предусмотрительно захваченная в дорогу, помогла мне найти общий язык с проводниками. Мне даже предложили занять верхнюю полку. В первом купе. С матрасом, но без одеяла. Я пристроил лещей в изголовье и стал как господь бог.
В моей жизни было много поездов: скорых и скоростных, фирменных и почтово-багажных, дальнего следования и пригородных. Поезд, на котором я ехал в тот раз, пополнил коллекцию, – он был из Баку. Долгие двадцать часов я лежал среди «челноков» и гастарбайтеров и думал о Вечности. Иногда это помогает.
Я представлял себе: Вечность – это Река. Я знал их немало. Видел томную Волгу и задумчивый Амур, мрачный Тобол и ласковую Уссури. Не забылись ни шустрая Зея, ни блудливая Катунь. И близки ещё были в тот год рыжая речка Найба и чёрная – Тымь.
Меня несло по Реке малой щепкой, кружило в водоворотах, то выгоняло на стремнину, а то прижимало к берегам. Исток терялся в тумане, не было видно и устья. Звезда Сентябрь уже поднималась над горизонтом, но Харон ещё не гремел ржавой цепью, спуская лодку на воду. Витька был ещё жив, и беспечная молодость казалась бесконечно долгой. Вино было сладким на вкус, табак отдавал лёгкой горечью, прошлое было терпким, словно брусника, а настоящее – солоноватым на вкус.
Поезд мотало на стрелках, страну – на изгибах реформ. Гастарбайтеры пили чай из эмалированных кружек и перебрасывались между собой короткими фразами на языке Низами и Фирдоуси. «Челноки» меланхолично жевали домашние бутерброды и прикидывали в уме доходы от предстоящих сделок. Проводники то и дело принимали на станциях левый груз и сваливали его на нижние полки. Так что к концу пути купе, в котором я ехал, живо напоминало небольшой промтоварный склад.
В двенадцатом часу ночи я вышел на Павелецком вокзале. Проводная связь пока что ещё работала. Телефон-автомат подавился жетоном, подумал и соединил.
– Серёга! Ты, что ли? – знакомый бархатистый голос мягко тёрся о мембрану. – Откуда звонишь?
– Да с вокзала…
– Молодец! Значит, так. Спускайся в метро – и на станцию «Киевская», там пересядешь на троллейбус, они ещё ходят, и до остановки «Мосфильм». Я тебя встречу…
2
Пятнадцать лет спустя, ранним утром 22 сентября, я выйду из рейсового автобуса Волгоград-Москва у Павелецкого вокзала и отправлюсь в метро на станцию «Баррикадная». Там будет ждать меня Апостол (назову его так) – давний приятель мой, провинциальный поэт, безнадёжно отравленный мистикой и Шекспиром (1).
Накануне мы по телефону уговорились встретиться на «Баррикадной», чтобы вместе поехать на Троекуровской кладбище – на Витькины похороны. Это разумно. В Москве приезжим лучше держаться вместе, тем более в такой скорбный день.
Столичное утро было сырым и серым. Я стоял у метро и поджидал Апостола. Курил. Вспоминал всё, что было. Думал о том, что есть.
От «Баррикадной» – полшага до сталинской «высотки» на Кудринской площади. Я в этом доме бывал ещё в эпоху площади Восстания. Тогда ещё были живы Витька и его мама, а в Министерстве обороны ещё отдавал распоряжения отец – генерал-лейтенант. И невозможно было представить, что однажды большая и грузная страна напорется на риф государственной измены, в пробоину хлынет мутная вода перестройки и смоет великий Союз в кювет новейшей Истории. Смоет вместе с Восстанием, символами, званиями и людьми.
Апостол появился неожиданно. Подошёл сзади и крепко обхватил меня за плечи. Похоже, хотел напугать.
Не тот случай…
– Привет!
– Здравствуй, брат. Писать очень трудно, – ответил я Апостолу. Давным-давно, в литинститутском общежитии, я по утрам встречал приятеля этим приветствием, взятым на время у Серапионовых братьев. Тогда Апостол ещё не был Апостолом, а был нетрезвым поэтом, ходил в пиджаке и с шарфом, небрежно намотанным на шею. Явно подражал Рубцову. Все мы тогда ходили нетрезвыми, все мы кому-то подражали! Мы жадно вгрызались в отравленный хлеб литературы, и не было от него более надёжного противоядия, чем алкоголь, приправленный утренней сигаретой.
Апостол начинал как все мы – с печальных стихов. И это нормально для поэта. Мы были печальны от молодости, которая тяготила. Хотелось на Север, под поезд, в Америку… всё равно!.. Но вышел срок, и жизнь повернула каждого в нужную сторону. Мы заменили поэзию прозой, семьей или работой. Апостол был среди тех, кто шёл за Брейгелем (2) и не увидел обрыва. А повернуть назад не смог или не захотел.
Апостол и в самом деле похож на апостола. Во всяком случае, внешне. Седые волосы до плеч явно подпитывают его вдохновение, иначе давно бы Апостол принял более цивилизованный вид. И я понимаю: стихов Апостол больше не пишет. И не сочиняет. С такой причёской можно только творить. Или даже вещать.
– Куда мы собрались ехать? Зачем? Там Вити нет, – жилистая рука Апостола тянется в сторону западного административного округа. – Там только мёртвое тело. Кому оно нужно? Скажи, кому?
– Ну, как же?.. Да нет же… – я не нахожу, что сказать. Во всём, что касается смерти, я безнадёжно банален.
– Он нужен был нам живой! – голос у Апостола заметно дрожит. – И мы ему были нужны. Живыми! Он хотел, чтобы его любили – как друга. А у нас с тобой не было времени лишний раз приехать к нему. Ведь не было?
– Не было, да. Это так. Всё это так, – отвечаю я. – но жизнь есть жизнь. Витька ушёл раньше нас, и мы обязаны его проводить. В этом всё дело.
Но Апостол меня не слушает. Он увлекает меня к ближайшей уличной скамье, небрежно пристраивает пакет на влажные доски и выразительно поправляет свои седые космы. Похоже, он уже зреет Истину. Его понесло.
– Витя – здесь… где-то рядом… я чувствую это, – голос Апостола наливается силой; кажется, ещё немного, и космы выстрелят электрической искрой. – Может, сидит сейчас где-то на облачке, смотрит на нас… слушает, о чём говорим… Он вместе с нами!..
И задирает голову вверх. И смотрит в мутное небо, словно бы и в самом деле пытается разглядеть знакомое лицо.
3
Пройдёт всего лишь год с небольшим, и Апостол уйдёт вслед за Витькой в тот мир, откуда не возвращаются. Произойдёт это в ноябре в большом волжском городе. Апостол уйдёт, не попрощавшись, однако успев ещё написать о Витьке стихотворение:
В темноте чертей и бестий,
Снова слышу крик: «Пора!»
Целый год, в пыли созвездий,
Я живу – без Виктора.
Угасает пламя в горне,
Память крошится, как мел.
Отрубили дубу корни,
Чтоб напрасно не шумел.
Это больше, чем досада,
Это – глубже всех глубин…
Был спасением от ада
На Восстанья, дом один.
Разводя земное лихо,
Бурелом измен и лжи,
Там мы пели зло и тихо,
Как над пропастью, во ржи.
Но опять все те же беси,
Мир, в отсутствие добра…
Ничего душа не весит,
Только давит, как гора.
В темноте чужого смеха
Я плыву кусочком льда…
Это лучший друг уехал,
Не успев сказать, – куда…
Боль давно дошла до ручки,
Но я слышу: «Не спеши…»
И опять плыву, как тучка,
В небесах его души. (3)
Он был щедрым на строки, посвященные друзьям… Помню, весной 90-го я прилетел с Сахалина в Москву на очередную сессию. Едва устроившись в общежитии, тут же, с третьего этажа, позвонил по телефону-автомату на площадь Восстания. Витька сразу же снял трубку:
– Привет, Серега! На сессию?
– Ясно море! Сейчас собрался ехать к тебе.
– Жду! Да, кстати, здесь один человек сидит рядом со мной… Хочет с тобой поговорить.
– Что за человек?
– Не важно. Сейчас ему трубку передам…
Секунда, другая – и я услышал знакомый голос:
– Замело, что ли, душу снегом
Или мучает совесть во мгле?
Где теперь ты, Серёжа Чевгун,
Что случилось с тобой на земле?..
– Апостол! Ты откуда взялся? – заорал я на всё общежитие, а Апостол (это был именно он) продолжал всё так же размеренно, пока не дочитал до конца:
Были годы потёмок кромешных,
Но духовною жаждой томим,
Ты свистел над Россией, как леший
Над уснувшим болотом своим.
Помню все —
И грехи, и промашки,
И обиду в дыханье твоем:
– Я родился в счастливой рубашке,
Но куда она делась потом?!
И какая же страшная сила,
Под какою гремучей звездой
Нас с тобой по земле разводила,
Разливала студеной водой?
Сколько раз
Мне мерещилось дома:
Ты как нищий стоишь у окна
И рубашку снимаешь знакомо:
– А вот эта тебе не нужна?
Просыпались и плакали дети,
И жене, подбегавшей ко мне,
Говорил я:
– Любимая, ветер…
Это ветер свистит в тишине…
Это ветер во сне и на деле!
Забежал бы, Сергей, cгоряча…
Я скажу,
Что в роддоме надели
Мне рубашку с чужого плеча!
Может быть,
Мы уснем и проснемся
Там, где молодость, дым и вино,
И рубашками снова махнёмся,
Как случилось когда-то давно.
Какой-то частник за полчаса добросил меня до площади Восстания. Что было дальше – ясно без лишних слов. Мы пили и пели, Апостол читал стихи – торопливо, одно за другим, словно бы хотел выговориться за те восемь лет, которые минули после нашей последней встречи.
Тогда же, в Витькиной комнате окнами на «Баррикадную», Апостол и подарил мне свой сборник «Не ровен час», из которого читал по телефону «Послание другу». «Милый, милый, смешной дуралей! Не пора ли…» – написал Апостол на обложке, дополнив есенинскую строку короткой фразой «от себя». И оборвал её безнадёжным многоточием.
Много позже Апостол уберет в стихотворении первые две строфы, слегка изменит третью, назовёт его «Рубашка» – и привезёт c посвящением на Грушинский фестиваль, чтобы прочитать вместе с новыми вещами. По «Рубашке» я и разыщу Апостола после долгой безвестности. Произойдёт это летом 08-го года. А в декабре, накануне 75-летнего юбилея Литинститута, мы встретимся у Витьки – и проведем долгий вечер и такую же долгую ночь. Но это будет уже другой Апостол – бесконечно трагичный, уверивший в мистику поэт, уже примеривший на себе шапочку булгаковского Мастера. И это будут совсем другие стихи – неистовые, порой исступлённые, полные мрачных теней и гибельных ассоциаций, почерпнутых из мутных источников и ядовитых ручьёв.
Я не приверженец мистики, слабо верю в эзотерику. Давняя учёба в мединституте навсегда избавила меня от трепетного интереса к проискам тёмных сил. Даже прочитанный в молодости Булгаков, с его сладким мороком надежды на высшую справедливость, не заставил меня жить с оглядкой на Патриаршие пруды. А эпизод с сановней милостью, дарованной Иешуа остриём копья, мне и теперь представляется по-иезуитски лживым.
Стоп. Когда это было – и молодость, и Булгаков? Вспоминаю: столица, сессия, пивная на Таганке… Стало быть, год 80-й. «Булгаковым интересуемся? – отклеился от соседнего столика москвич с газетным свертком под мышкой. – Могу предложить: „Мастер и Маргарита“. Червонец».
Бог ты мой! Мастер! И Маргарита! И всего за червонец… Булгакова я уже знал – брал в читальном зале Литинститута. Но одно дело, глотать страницы, не пережевывая, в казённом книгохранилище, и совсем другое – иметь возможность открыть книгу с любого конца в любом месте. Совсем другой коленкор!
Я спешно вывернул оба кармана и выжал их под похмельным взглядом столичного офени. Набрал восемь… девять рублей… вот и двадцать копеек… снова двадцать… ещё пятнадцать… И пятак. «Оставь его на метро», – посоветовал добрый офеня. Я так и сделал. Торопливо допил своё пиво – и провалился вместе с Булгаковым в метро.
Что было потом? Часа четыре запойного чтения под бесконечное кружение по кольцевой линии. Мелькали станции, словно главы романа. А может, и наоборот. И чем больше кругов наматывал я в столичной подземке, тем отчётливей проступала сквозь страницы романа шершавая мысль: а ведь лукавит Михаил Афанасьевич! Нет таких благодетелей на свете, кто сам придёт и сам всё даст. В любом деле есть свой интерес. Только вот не всегда он заметен с первого взгляда.
Помню, как я пытался спорить с Апостолом. Он моих сомнений не принял. В Булгакове он искал себя. И даже однажды попробовал дописать «Мастера и Маргариту». По-моему, неудачно. Однако шапочка Мастера, примеренная Апостолом, так и осталась на его голове. И вновь обретенная Муза уже перечитывала его рукописи и пророчила их творцу близкую славу.
Осенью 11-го года Апостол прислал мне эсэмэску: «Переезжаю!» Что, куда? Ничего не понятно. «Объясни», – нажал я на телефонные кнопки. «Воланд даёт мне квартиру в Истре», – последовал эсэмэсный ответ. Я позвонил Апостолу. Минут пять он рассказывал мне о том, как встретил на Патриарших прудах гражданина Воланда и настолько ему понравился, что гражданин мигом снял для Апостола квартиру в Истре на длительный срок. «И ничего не попросил взамен? Даже рукопись будущей книги?» – ни без насмешки спросил я у Апостола. Но тот сослался на дороговизну разговора в роуминге и отключился.
«Ты ведь знаешь: я в добрых воландов не верю, – потревожил я Апостола в тот же вечер, уже по электронной почте. – Кто он, твой неожиданный покровитель? Чем будешь погашать столь щедрый кредит?»
Признаюсь сразу: я не любитель ходить вокруг да около, тем более в отношениях с друзьями. Вопросы были заданы, однако ответа на них я тогда не получил.
Ответ пришел много позже, месяца через три, когда Апостол, расставшись с Истрой, уже вернулся обратно к себе в родной город. «Человек, который это делает, считает меня лучшим поэтом России! – писал Апостол. – Но отношения в Москве у нас с ним не сложились. Хотя мне кажется, что и в этой ситуации он сдержит своё слово и купит нам <…> жильё».
«Но ведь за всё в этой жизни приходится платить! – отбросив всяческую дипломатию, отстучал я на клавиатуре. – Чем думаешь платить ты? Игрой в оппозицию, в которой ты, извини, разбираешься гораздо меньше, чем в поэтических тропах?»
Письмо ушло и вернулось обратно с плохо скрываемым раздражением: «Прочитал всю эту чушь, ваше величество, и понял только одно: пора прощаться. Вся твоя правда, мудрость и т. п. ничего кроме скуки во мне не вызывают…» И выдал мне напоследок такое несправедливо-озлобленное, что я не выдержал и сорвался: «Когда-нибудь ты поймешь, что безнадежно болен, Апостол! Но меня рядом уже не будет…» (4)
Прошёл месяц, другой, третий. Камни были разбросаны, но время собирать их так и не наступало. Апостол жил на съемной квартире и готовил к печати очередной сборник. Мелькали на литературных сайтах новые стихи, размазывали по экрану строчки: «Меня менты мололи и месили // С безумием расстрелянных отцов». То пытались привлечь внимание страшилками: «Перестань из сердца кровяного // Головой отрубленной крутить», а то и откровенно хлюпали в рифму:
Я никто. Я больной и усталый,
Меня бросила Родина-мать…
Вот как такому страдальцу рубль в шапку не кинуть?..
Наверное, я предвзято отношусь к поэтам, дожившим до седых волос. Не иначе как сказывается дурное воспитание прозаика и журналиста. Но скорее, причина в другом, – в пришедшем с возрастом понимании того, что стихи, по большому счету, всего лишь обычная человеческая слабость, прихотливо облеченная в ритмы, рифмы и образы. Поэты, при всех их драчливых характерах и дуэльных амбициях, – люди с патологически уязвимой душой. Иначе откуда в мировой поэзии столько плохо скрываемой тоски и явных обид? Столько тихих вздохов и громких стонов? Столько эффектного отчаянья, талантливого сожаления и красивого раскаяния? Словом, столько элементарной слабости, талантливо выставленной напоказ?
В Литинституте нам рассказывали о психологии творчества. О замещении реальных человеческих переживаний их литературными моделями. И о целительном катарсисе, который помогает читателю преодолевать реальную душевную боль и реальную грусть. Апостол умел сделать из мелкой обиды почти шекспировскую трагедию, из пустяковой душевной царапины – годами не заживающую рану. А вот преодолевать их в реальной жизни, похоже, так и не научился. «Сережа, я умираю…» Как часто слышал я от Апостола эту сакраментальную фразу! А всего-то и надо было: хорошенько опохмелиться – и завязать.
«В твоих стихах слишком много заёмного: образы, интонации. Словарь, наконец, – говорил я Апостолу в юбилейном декабре – там, у Витьки на квартире. – Красиво, не спорю, но ведь это не более чем стилизация! Подделка под старину. Игра в былинно-сказочную Русь, придуманную ещё в позапрошлом веке. Отсюда столько литературных аллюзий и прямых параллелей с Клюевым, Рубцовым, Кузнецовым… Это безусловная вторичность».
«Серёжа, ты неправ, – отвечал мне Апостол. – Просто я живу по завету Юрия Кузнецова: «Заимствовать нельзя, но преображать можно всё!» В его глазах, прежде грустных, слегка виноватых, а теперь всезнающих и с хитрецой, плясали мелкие бесы деревенского ведуна.
(Поэта Кузнецова Апостол боготворил. Кстати, прожил столько же, сколько и Юрий Поликарпович – всего 62 года. И умер «по-кузнецовски» – в ноябре, от инфаркта…)
«Преображать – это как? Вроде Шишкина – лепить романы из цитат?» – не отставал я. «Серёжа, ты ничего не понимаешь! – рубил Апостол. – Всё давно уже написано до нас, ничего нового мы с тобой не создадим. Но можно улучшить то, что уже есть. Вот это я и называю преображением».
Чем дальше уходил Апостол в преображение чужих стихов, тем чаще вздыхал в нём провинциальный гений. Тем отчетливей проступало сквозь все еще сильные строчки желание литературной славы. «Поэт я в России один из лучших»… – прочитал я как-то в интернете фразу Апостола. И признаться, нисколько этому не удивился.
Незадолго до смерти Апостол начнёт бороться за премию «Народный поэт», ежегодно присуждаемую сайтом «Стихи.ру», – за этот фантом всеобщего читательского признания, рассчитанный не иначе как на самолюбие непризнанных стихотворцев. Апостол выплеснет в интернет большую часть того, что у него было. Тогда же родится и миф о том, что четыреста стихотворений Апостол написал всего лишь за две недели…
Литературные конкурсы не могут быть объективными по определению, и уж тем более в интернете. Полагая, что голосование может завершиться не в его пользу, Апостол кинется искать справедливости в подсчёте читательских голосов. Он опубликует на «Стихи.ру» «Народный поэт от 0,0001» – довольно сумбурную текстовую смесь из замечаний по существу и осколков уязвлённого самолюбия (5). Он с нетерпением будет ждать итогов голосования – и не доживёт до них всего лишь десяток дней.
Никчемную, в общем-то, премию Апостолу всё же дадут.
Посмертно…
4
Так ничего не высмотрев в дымном столичном небе, Апостол тяжело опускается на скамью и с минуту молчит. Потом решительно поправляет ладонями изрядно седую копну волос и тянется к пакету:
– Давай, помянем Витю. У меня есть…
Он извлекает из пакета початую бутылку коньяка, пару залапанных стаканов и нечто, напоминающее закуску – криво порезанное и щедро примятое. Сто жидких граммов ловко делятся на два по пятьдесят. Это и без рулетки видно.
– Вчера ехал в Москву, поругался в вагоне с какими-то девицами. А те позвали милицию. Сняли с поезда… сволочи! – продолжает Апостол безо всякого перехода. – Ночь продержали в ментовке. Утром выпустили. Но ничего, даже коньяк вернули, – и протягивает мне стакан. – Давай?
Моя всегдашняя трезвость смущённо отходит в сторону. Сегодня явно не её день.
– Давай. За Витьку…
Тогда, зимней ночью 96-го, мы с Витькой тоже начали с коньяка. Пили под сюжетные перипетии «Место встречи изменить нельзя» с Высоцким в главной роли. Фильм был давней нашей традицией, своего рода талисманом. При каждой нашей встрече Витька отправлял в SHARP кассету с фильмом и не извлекал её до тех пор, пока капитан Жеглов не убивал бывшего разведчика Левченко меткой киношной пулей.
– Ну, и рожи у нас с тобой, Шарапов! Надо бы их поправить, – говорил Витька всякий раз, разливая по очередной. Мы дружно поправляли свои рожи – и продолжали наш бесконечный разговор: о литературе и политике, музыке и журналистике, истории и философии… Да мало ли о чём можно поговорить в хорошей компании, тем более под коньяк?
Мы вспоминали дороги, которые нас выбирали, а мы их так и не выбрали. Грустили о давних приятелях и полузабытых подругах. Пытались предсказывать будущее и бросались в прошлое с головой. А ещё мы говорили о Литинституте. О талантливых преподавателях и гениальных студентах. Или даже наоборот.
Мы вспоминали, как встретились первого сентября 77-го в литинститутском дворе. Какой это был чудесный день! Солнце светило только для нас, и счастливые лица вчерашних абитуриентов качались в похмельном мареве.
В тот день мы с Апостолом были счастливей всех: как раз накануне у нас кончились деньги. Хотелось занять червонец, вот только у кого? Занимать у преподавателей мы тогда еще не умели.
Мы повели глазами окрест и увидели стоявшего в интеллигентном одиночестве симпатичного парня с явно столичным профилем. Профиль нам как-то сразу понравился, а бойкости мне в те годы было не занимать.
Я подошёл к парню:
– Поэт?
– Поэт.
– У кого в семинаре?
– У Дементьева, – отвечал парень.
– И я у Дементьева. По-моему, это повод для хорошего знакомства, как ты думаешь?
– Аналогично, – улыбнулся парень.
– Ну, значит, так тому и быть! Правда, есть небольшой нюанс… – и я коротко объяснил суть проблемы.
– Вот это подойдёт? – сказал парень, и достал из кармана четвертную. Ну, что я могу сказать? У москвича оказались наши – дальневосточные – привычки: не оставлять на завтра то, что можно потратить сегодня.
С тех пор, как мы познакомились, прошло ровно тридцать лет и четыре года. Всё это время я жил и знал, что на Витьку можно в любой момент положиться. Он помогал нам с Апостолом всякий раз, когда мы попадали в сложные ситуации: выручал деньгами, доставал дефицитные лекарства, в хронически безбилетной летней Москве помогал сесть на поезд. Любил делать подарки: пластинки с дефицитным в ту пору Высоцким, книги малотиражного в те годы Бабеля… Что же касается традиционного столичного гостеприимства, то оно было частью Витькиной натуры. Так, как умел привечать Витька, нас с Апостолом, пожалуй, не привечал никто.
Витька был деловым человеком и знал, как добыть презренный металл. Синяя птица фарцовая однажды присела на подоконник его комнаты, да так здесь и прижилась до конца семидесятых. В бестолковые восьмидесятые Витька возил помаленьку дефицит из Москвы в Будапешт и обратно, хотя таможня и не давала на то «добро». А в мутные девяностые на пару с нашим общим приятелем Борей по прозвищу Чума поднимался в «челноках», доставляя белорусскую галантерею на благодатные российские просторы. Пока не подрался со своим компаньоном на вечерней улице и не рассорился с ним на всю оставшуюся жизнь.
Боря, Боря… Сейчас он в Даугавпилсе, небось, уже вовсю по-латышски sarunas. А тогда, в конце семидесятых, он учился в семинаре В. Пименова. Писал какую-то длинную пьесу из современной жизни, но так и не дописал. И на театре её не поставил. Бросил институт и подался в коммерцию, да так в ней и увяз. Во всяком случае, ничего драматического от Бори я в интернете не читал. И вряд ли уже прочитаю.
А ещё был Помор. Был Цыган. Был Володя, и даже не один: Володя из Свердловска и Володя из Петропавловск-Камчатского. Был Саша из Оренбурга. И ещё один Саша – из Арзамаса. А потом сразу два, и тоже Саши, – из Ставрополя и Горького, да плюс ещё один Саша – из Москвы… Много нас тогда плыло на челне Литературного института! Начнёшь вспоминать – и оживают в памяти десятки фамилий, прозвищ и имён. Ведь я учился в институте бесконечно долго – двадцать один год. Это больше чем достаточно для того, чтобы получить диплом и положить его на полку. Три семинара – два поэтических и один прозаический – возможно, помнят меня. Также не исключено, что они меня уже давно забыли.
Когда-то в молодости мне казалось, что дружба поэтов, однажды зародившись, никогда не иссякнет. Я ошибался. В смысле дружеских привязанностей творческие люди, особенно поэты, – самый ненадежный народ: легко сходится, особенно за столом, но еще быстрей – расходится, порой со смертельной обидой на всю жизнь. Ибо каждый существует в своем маленьком мире, построенном из рифм и образов, и не хочет пускать к себе никого – ни друзей, ни врагов. Банально, но факт: творческие люди – всегда бесконечно одиноки.
Мы с Витькой дружили так долго ещё и потому, что он не был творческим человеком. Бог не дал ему литературного таланта (литинститутские работы не в счет). Но в этом ли суть и смысл? Витькин талант был в ином – на протяжении тридцати с лишним лет оставаться для нас с Апостолом верным другом. А мы для Витьки были провожатыми в тот мир, который так и остался для него закрытым.
Мы редко говорили с Витькой о творчестве. Эта тема была для него не самой любимой. Однако же, при всём своём самолюбии, он умел радоваться чужим успехам. Любил при случае вспомнить строчки Апостола: «И жизнь как чужая невеста // Покажется лучше, чем есть». А из моих стихов ему больше всего нравился «Сентябрь» – немногое, что осталось от тех давних времён, когда я мечтал стать поэтом.
Не припомню ни одной встречи с Витькой, когда он не просил прочитать ему это стихотворение. Вот и в тот раз не обошлось без «Сентября»:
…И печаль сентября
я с водою осеннею выпил.
На последний глоток
по судьбе выпадало: «Пора!»
Громыхнуло о воду весло – и шарахнулся выстрел
От истока до устья.
И эхо – как стук топора.
И опять поднимаются вёсла – и рушатся за борт.
«До свидания – все!» И встаёт на дороге моей
Воробьиная отмель, и ждёт голубиная заводь,
Стережёт у излучины омут вороньих кровей.
Три исхода моих – и одно неизбывное право
У реки: не прощать от весла застарелый рубец.
Воробьиная отмель – налево легла, а направо —
Голубиная заводь…
И к омуту выгреб гребец.
И явилось ему, как звезда разбухает от влаги,
Безнадёжно вечерняя и безысходно одна
Над густой глубиной, где хвостами стучат о коряги
Одичалые рыбы, и ходят кругами у дна.
Не мигая, звезда у гребца под ногами горела
И нездешнею злобой воронья вскипала вода…
…Но звезду я ударил веслом —
и звезда потемнела,
И звезда – зашаталась, и рухнула к рыбам звезда!
Брызги света и тьмы я в лицо онемевшее принял,
Безрассудной рукой вытер звёздную пену с лица
И тугую волну взмахом вёсельным располовинил:
«Выноси же из омута, лодка, шального гребца!»
…Я один на реке, берегами покамест не узнан.
Утомлённые ивы с воды не поднимут голов.
И ещё далеко ощущение близкого устья,
И не прожита жизнь для того,
И не найдено слов.
Последняя строчка упала вместе с коньячной каплей на столешницу. Витька отставил бутылку. Мы помолчали и выпили. За слова, которые ещё не были найдены. За жизнь, которая не была прожита до срока. За все остальное мы выпили позже – после похода в ночной киоск.
– Послушай, Серега, – сказал Витька, помолчав. – Вот я порой думаю: придёт когда-нибудь эта баба с косой, махнёт, не глядя – и всё! Словно меня и не было на этом свете. Вам с Апостолом легче: вы – пишете…
– …и благодарные потомки когда-нибудь озолотятся, издавая и переиздавая наши сочинения, – пытался свести я всё к шутке, но Витька моей иронии не принял.
– Вы – пишете, – упрямо повторил он, – может, что-нибудь из написанного и останется. А что останется после меня? Скажи: что?
Коньяк – напиток не для трезво мыслящих людей, это и без лимона понятно. Ответ был готов даже раньше, чем прозвучал вопрос.
– Останется Вечность, – сказал я, особенно не раздумывая. – И я тебе это обещаю!
– Весьма вам признателен, мессир, – не остался в долгу Витька. – Но почему именно Вечность?
– Потому, что дружба – понятие вневременное, а значит, вечное. Что ж здесь непонятного?
– Стало быть, Вечность? И ничего больше? – спросил Витька.
– Вечность. И ничего больше, – ответил я.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































