Читать книгу "Я московский озорной гуляка"
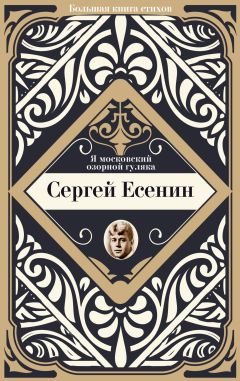
Автор книги: Сергей Есенин
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Сергей Есенин
Я московский озорной гуляка
© А. М. Марченко, предисловие, 2022
© А. Е. Ханемайер, иллюстрации, 2022
© Издательство АСТ, 2022
* * *
Предисловие. Загадка русской жизни и литературы
Так уж повелось, что житейская биография автора и творческий его путь, хотя и «перекрещиваются», функционируют все-таки по отдельности, разведенными по разным жанрам. А то и издательствам. Про творчество – «Наука», про жизнь – ЖЗЛ. Случаются, естественно, и отступления от обыкновения. Жизнь, объединившись с литературой, преображается в единственно возможную среду и обитания, и творческой самореализации. Тогда-то, видимо, и возникает то, что Блок, оглянувшись на Пушкина и Лермонтова, называл Загадкой русской жизни и литературы.
Причина гибели Есенина до сих пор дискуссионна. Как и достоверность воспоминаний современников. Особенно тех, кто оказался 28 декабря 1925 года в «Англетере» почти одновременно с медиками и милицией. Время отправления траурного вагона, наконец-то прицепленного к пассажирскому составу Петроград – Москва, отмечено наобум. Сумбурны и повествования очевидцев как о церемонии похорон, так и о реакции читающей публики («простых москвичей») на невосполнимую утрату. Почти единственное исключение – «свидетельские показания» Ивана Никаноровича Розанова, многоумного филолога и «гения библиографии». Он, как и всегда, пунктуален в деталях: «Последняя моя встреча с Есениным состоялась 30 декабря 1925 года, когда мы, московские писатели, пришли в Дом печати встретить прибывший из Ленинграда гроб с телом покойного поэта. Был сырой зимний вечер. Подавленные бессмысленной смертью, молча стояли мы у гроба. А на здании Дома печати порывистый ветер колыхал длинный белый плакат, на котором крупными буквами написано было: «Умер великий русский поэт».
В дни большого есенинского юбилея (столетие рождения: октябрь 1895 – октябрь 1995), кроме дежурно восторженных массовок, стали исподволь раздаваться и скептические, а то и раздраженно-несогласные голоса. Общего мнения это, конечно, не поколебало: Великий – отныне и впредь. Зато и альтернативные точки зрения и самоутвердились, и на литературной карте нарисовались с нажимом. В том числе и такая: Есенин – поэт для бедных разумом полуинтеллигентов. Но мы, россияне, читатели хотя и человекообразные, но непредсказуемые. В наших литературных спорах истина частенько либо не зарождается, либо умирает при родах, а к размышлениям ежели что и влечет, то отнюдь не самые убедительно достоверные сведенья и соображения. Например, решительное несогласие Есенина с пушкинской трактовкой личности Пугачева (в «Капитанской дочке»). Илья Шнейдер, коммерческий директор танцевальной школы Дункан, появляясь на Пречистенке, куда Есенин по настоянию Айседоры переселился, не без удивления наблюдал, как Есенин, не дописав еще «Пугачева», весь 1921 год занимался проблемой его издания. Носился по издательствам и типографиям, настойчиво противопоставляя своего «правильного» Пугача неправильному пушкинскому. Причем не только в «Капитанской дочке», но и в «Истории Пугачевского бунта». А вот о чем говорил в дни пушкинского юбилея: «Я очень, очень много прочел для своей трагедии и нахожу, что многое Пушкин изобразил просто неверно. Прежде всего сам Пугачев. Ведь он был почти гениальным человеком, да и многие его сподвижники были людьми крупными, яркими фигурами, а у Пушкина это как-то пропало».
Вот тут бы нам всем и задуматься и вдуматься. Однако же и сегодня, даже в гуманитарно продвинутых частных гимназиях об этом «несогласии» всего лишь упоминается. Походя, вскользь. А сюжетик, между прочим, прямо-таки золотомедальный. Даже для заочных слушателей Пушкинской академии. К сожалению, и они по застарелому обыкновению, реагируют не лучшим образом: «не повернув головы кочан» в сторону указки экскурсовода. Эка невидаль, общеизвестный музейный экспонат. И мимо, и далее… Быстрее, товарищи, в ногу! А как упрощена и усреднена история отношений Есенина и Маяковского? Точнее Маяковского и Есенина: до сих пор будто на уровне радиопередачи «Театр у микрофона». Без попытки ответа на неизбежное читательское «почему?» Так ведь и впрямь «почему?» Почему эти урожденные «супротивники», друг друга практически обычно не замечавшие (в исторической реальности литературного быта), ни с того ни с сего вдрызг «раздуэлились» летом 1924-го, в дни празднования стодвадцатипятилетия со дня рождения Пушкина? И не где-нибудь, а у подножия многострадального памятника? Картинка, правда, только делает вид, что с натуры срисована. На деле 6 июня 1924 года Маяковского на Тверском бульваре никто не видел. Скорее всего его и в Москве в те дни не было. Весь год в разъездах. В том числе и по заграницам. А вот Есенин был, и все тот же Иван Никанорович Розанов этот факт зафиксировал в уже упоминавшихся «Воспоминаниях»: «Особенно запомнилось мне выступление Есенина у памятника Пушкину в 1924 году в день 125-летнего юбилея великого поэта. Есенин стоял на ступеньках пьедестала, светлые его кудри резко выделялись в толпе. В руках он держал букет цветов, который от Союза писателей он возложил к подножию памятника. Он читал свое известное стихотворение, посвященное Пушкину, громко и четко, размахивая как обычно руками:
А я стою, как пред причастьем,
И говорю в ответ тебе:
Я умер бы сейчас от счастья,
Сподобленный такой судьбе.
Словом, несмотря на неприсутствие по причине отсутствия, дуэльный пистолет первым заряжает все-таки Маяковский. Сообщив юбиляру, что стоять им по смерти «почти что рядом», «вы, мол, на Пе, а я-то на эМ», и не найдя в «пещерном» прошлом возражений на нагловатое свое ПОЧТИ, перешагивает в следующее столетье. Однако ж и там, на его, конечно, вкус, еще безнадежнее. Инициатив Министерства народного образования не видать – не слыхать, зато «од-нар-образ-ный пейзаж» холодной войны в наличии. И пистолет срабатывает:
Ну, Есенин,
мужиковствующих свора.
Смех!
Коровою
в перчатках лаечных.
Раз послушаешь…
но это ведь из хора!
Балалаечник!
Судя по напряженной программности «Юбилейного», Маяковский готовился к дуэли с Есениным всерьез и загодя. Заранее прикидывал: что эффектнее – эстрадные групповые перебранки или дуэль на фоне памятника? И кого брать в секунданты? Старые друзья-футуристы наверняка бы сгодились. Но… выйдя из моды, обессилели. Сбрасывать конкурентов со сторожевых катеров современности стало невмоготу. Здесь и сейчас – куда бы ни шло. Но в долготу дней?
Нет, дуэль эффектнее…
В какой же из дней юбилейного лета впервые появилось в печати «Юбилейное», бесхлопотно выяснить мне, каюсь, не удалось. Да это и не так уж и важно. Ответный есенинский выстрел прозвучит в той же «Заре Востока», которую десятью днями ранее, проездом, осчастливил Маяковский маловыразительным текстом с еще более невыразительным названием: «Владикавказ – Тифлис». Ответственный секретарь «Зари Востока» – добрый приятель обоих «дуэльщиков», стало быть, можно не беспокоиться. Дуэльный номер газеты Маяковскому будет доставлен непременно. А доставлять было что. Ну чем не вызов на поединок?
Словом, хочешь не хочешь, а приходится с этим фактом считаться. Есенин по-прежнему, как и сто лет назад, все еще самый-самый. И самый читаемый, и почитаемый, да еще и единственный наизусть знаменитый. Поэмы, к сожалению, в состав экстразнаменитых пока не попадают, ни библейские, ни «Пугачев». Они, отмечают библиотекари, «на любителя». Правда и то, что среди любителей есть у нас и не рядовые. Дмитрий Быков, не любя Есенина, библейский цикл полагает «гениальным». И все-таки… Если бы не Высоцкий и не озвученный его шармом Хлопуша, обожатели Мандельштама вряд ли бы стали заглядывать в есенинские «скрижали». В кругах постсоветских неодворян Есенин числится в простецах. Переубедить их почти невозможно, поскольку непростота есенинской выделки местами и впрямь похожа на простоту, в силу множественности смыслов, запертых на замок «тайного слова». Подобрать ключ, а то и ключи, к этому замку – ой как непросто. Скажем, такой факт. Летом 1916 года Есенин случайно оказался в гостях у общего с Блоком знакомца. Обсуждалась картина (видимо, с помощью репродукции) модного в том году польского художника (сюжет – пожар Рима). Отзывы о ней записывались в памятный альбом хозяина. Текст, вписанный Есениным, к пожару Рима прямого отношения не имел. Это были стихи. Вот эти.
Слушай, поганое сердце,
Сердце собачье мое.
Я на тебя как на вора,
Спрятал в руках лезвие.
Рано ли поздно всажу я
В ребра холодную сталь.
Нет, не могу я стремиться
В вечную сгнившую даль.
Пусть поглупее болтают
Что их загрызла мета;
Если и есть что на свете —
Это одна пустота.
3 июля 1916
Некоторое время спустя, в присутствии Есенина, владелец альбома показал это стихотворение Блоку. Блок ответил Есенину тоже стихами, вписав их в тот же альбом. Эти первые двенадцать строчек Пролога к поэме «Возмездие» прежде всего и вспоминаются, когда пытаешься понять, что же именно имел в виду Есенин, когда утверждал, что обожаемый им Блок – поэт бесформенный. Настоящей правды мы, разумеется, никогда не узнаем, но разницу в выделке почувствуем. Особенно при сравнении другого фрагмента из «Возмездия» со стихотворением Есенина, в котором тоже упоминается напугавшая Блока хвостатая комета, появление которой оба поэта воспринимают как «Пророчество».
Блок об этом говорит, что называется, в лоб. Есенин же, если употребить термин, принятый в его причудливой поэтике, – «через слагаемость», то есть способом сложения нескольких «преображений» первичной «фигуральности». Вот – для сравнения и этот фрагмент, и то стихотворение Есенина.
Александр Блок
Отрывок из Пролога к поэме «Возмездие»
Двадцатый век… Еще бездомней,
Еще страшнее жизни мгла.
(Еще чернее и огромней
Тень Люциферова крыла.)
Пожары дымные заката
(Пророчества о нашем дне),
Кометы грозной и хвостатой
Ужасный призрак в вышине,
Безжалостный конец Мессины
(Стихийных сил не превозмочь),
И неустанный рев машины,
Кующей гибель день и ночь…
Сергей Есенин
Душа грустит о небесах,
Она не здешних нив жилица.
Люблю, когда на деревах
Огонь зеленый шевелится.
То сучья золотых стволов,
Как свечи, теплятся пред тайной,
И расцветают звезды слов
На их листве первоначальной.
Понятен мне земли глагол,
Но не стряхну я муку эту,
Как отразивший в водах дол
Вдруг в небе ставшую комету.
Так кони не стряхнут хвостами
В хребты их пьющую луну…
О, если б прорасти глазами,
Как эти листья, в глубину.
Блок перечисляет общеизвестные приметы еще совсем новенького XX века. Тут и широко востребованные «средствами массовой информации» мировые новости, тут же, в одной куче, подробности, прибавленные «от себя лично». Они заключены в скобки, но мало чем отличаются от широко известных. На неосведомленный вкус – переизбыток информации; на осведомленный глаз – изысканный литературный прием. Российский его вариант изобрел некогда князь Вяземский Петр Андреевич. Он же и имя ему придумал: «пестрый мусор общежития». Иное у Есенина. В первой же строфе (той, где «зеленый огонь» «шевелится»), читателям предлагается заглянуть в есенинский трактат «Ключи Марии», чтобы вспомнить, что «все мы чада дерева», а убеждение, что «все от древа» – «религия мысли нашего народа». Это во-первых. Во-вторых: в самых скромных собраниях сочинений Есенина (по авторской воле) это, казалось бы, безмятежное стихотворение печатается заподряд, в смысловой связке с трагическими «Кобыльими кораблями». К тому же они еще и повязаны, то есть связны «струением» (любимое есенинское слово) и преображением образа луны. (По Есенину, согласно с изложенной в «Ключах Марии» поэтикой, лунные образы – «от плоти»; солнечные – «от разума».) В соответствии с такой установкой, в стихотворении «Душа грустит о небесах»…» луна, приземлившись на спину стреноженного коня и впившись, словно огромный овод, в его хребет, пьет лошадиную кровь… Раскручивая хвост, коняга пытается его стряхнуть. Но это ему не удается. Овод не комар, пока не насосется кровушки – сам не отвалится:
Так кони не стряхнут хвостами
В хребты их пьющую луну…
То же самое распределение «духа и знаков» и в маленькой поэме «Кобыльи корабли». Луна, вернее, еще не луна, а новорожденный месяц, словно щенок, «лакает облака», принимая их за небесное молоко («Небесного молока даждь нам днесь»), то есть уже и подросла, уже и олунилась, а ведет себя словно новорожденный месяц:
Не пора ль перестать луне
В небесах облака лакать…
Словом, Есенин настойчиво напоминает: воздушная, «грустящая о небесах» миниатюра возникла на одной волне с самыми «значными» произведениями самого взрывного русского года – 1919-го: «Пантократором», «Кобыльими кораблями» и «Сорокоустом». Три глыбы, вывернутые из самородных глубин «плугом бурь», сразу же связываются способом слагаемости. Вулканоподобие имажинистского устройства преображается в огнедышащее извержение новорожденных вулканов. И все-таки меж ними, для восполнения объема, – золотые лощины и взгорья:
То сучья золотых стволов,
Как свечи, теплятся пред тайной,
И расцветают звезды слов
На их листве первоначальной.
К ним-то автор-творец («се творю все заново») и обращается: «Стихи мои, спокойно расскажите про жизнь мою». Ну как тут не вспомнить сказанное Горьким о Есенине: не столько человек, сколько орган, созданный самой природой для любви ко всему живому в мире и милосердия? Оно же, милосердие, по Горькому, заслужено человеком. Но то Горький. Есенин, когда в «Кобыльих кораблях» «прорастает»-таки «глазами в глубину», видит хотя и сад… но какой сад? Вот какой: «Черепов златохвойный сад»! А прислушавшись, слышит и вовсе неслыханное:
Слышите ль? Слышите звонкий стук?
Это грабли зари по пущам.
Веслами отрубленных рук
Вы гребетесь в страну грядущего.
Больше того, чтобы и читатель стихов и успел, и сумел не просто заглянуть в глубину, но и прорасти в нее, поэт предлагает ему оглянуться. Сначала, разумеется, на Пушкина, всем нам сызмала предсказавшего: «Товарищ, верь! Взойдет она, / Звезда пленительного счастья. /Россия вспрянет ото сна / И на обломках самовластья / Напишут наши имена…» Правильно предсказал. От самовластья одни обломки. А что теперь? Теперь? «Бог волчице ребенка дал»? «Человек съел дитя волчицы»? Вопросительные (внутри себя) знаки не случайны. Есенин невидимо подключает к собеседованию еще и Блока. Знаменитая его поэма – у всех на памяти. Вот только приближаться к ней боязно: шибанет током. От множества прямо-таки наэлектризованных взрывных осколков…
В поисках «Ключей Марии» к одной из «простеньких» есенинских загадок, мы, кажется, уклонились, вроде как сбились с выбранного маршрута. По ходу дела, конечно, а все-таки вернемся хотя бы в жанр, то есть в юбилейный 1995-й.
Дипломатически узаконенное юбилеем неравновесие разновесных точек зрения на феномен Есенина длилось не долго. Время вдруг снова переломилось. Прилагательное Великий сделалось всего лишь Титульным, т. е. обязательным в процессе аккредитации при «Высшей власти» чемпионов по карабканью вверх. Тогда-то, и не только в интеллигентских слоях, но и в «простом народе» стали обнаруживаться оглядки на предыдущие «переломы исторического времени». Начиная с первого, почти на дедовских глазах надломившегося века. Правда, пробные те переломы ни роковыми, ни открытыми поначалу не воспринимались. И пяти лет после Дальневосточной войны не прошло, а Россия уже и успокоилась, и оклемалась, и даже осеребрилась. Вот только лет через десять опять нежданно-негаданное обнаружилось. И не во глубинах «потайственных», почти сверху лежало. Тогда-то и выяснилось, что и тот неожиданный «перелом времени» был онтологически «судьбоносным». «Отречемся от старого мира, отрясем его прах с наших ног…» Отрекались, кстати, поначалу и весело, и совместно, хором, а вот усомнившись, спрашивали уже по отдельности: с ног-то зачем отрясаем? Да еще и в прах обратив? Сами себя спрашивали, сами себе отвечали: «Мы ж новый мир желаем построить. Свой – для своих. «Кто был ничем, тот станет всем».
Среди порядком озабоченных массовым отречением от старья неожиданно для самого себя оказался и Александр Александрович Блок. Так растревожился, что попробовал доказывать вожакам «незнакомого племени», что выбрасывать за борт прошлое, да еще с верхней палубы прогулочных пароходиков, бесполезно. Немилое недавнее не «утопает», ибо тайно-подспудно продолжается в настоящем, а то и превращается в будущее. Но те, со смехом, открещивались. В сложно-системные доказательства не вникая. Недоказуемо, и все тут. Но когда и строители фарфоровых дворцов, спроектированных Игорем Северяниным для принцессы Мимозы, вскарабкавшись на корабль современности, стали рваться в передовики по сбрасыванию со своего судна устаревшую рухлядь, включая и Пушкина в обнимку с Державиным, Блок яриться не стал. Блок и нашел, и сформулировал, и обнародовал 100 %-но доказательную максиму, на все времена годную. И где? В необязательной – «проходной» – рецензии на бездарную книжку о Лермонтове. Вроде бы между делом, вроде бы апропо, разъяснил непонятливым, в чем же истинная причина бессмертной ВЕЛИКОСТИ:
«Лермонтов и Пушкин – образы предустановленные. Загадка русской жизни и литературы».
Блоку, кстати, первому из угадчиков (так уж сложилось) силою вещей выпала вероятность если и не угадать и в Есенине образ предустановленный, то хотя бы почуять, что в российском поэтическом космосе происходит нечто. То ли сгущение звездной пыли, то ли зарождение новой планеты. Ведь согласно легенде, 9 марта 1915 года Есенин не вошел, а прямо-таки ввалился в русскую литературу через отнюдь не открытый дом Александра Блока. Не скинув ни «сапоги бутылочками», ни старенький (не заячий!) тулупчик. Да и Стихо-Творения вручал бессловесно. Прямо в прихожей. Упакованными во что-то матерчатое. То ли в девичий полушалок, то ли во вдовий бабий платок. Ну чем не пришелец не из мира сего? Но это апокриф. На самом же деле по приезде в столицу (9 марта 1915 года) Есенин, как и полагалось, оставил в почтовом ящике записку, уведомлявшую, что намерен заявиться в четыре часа пополудни и по важному делу. Да и одет был обыкновенно. («Ладный городской костюм из магазина готового платья», то есть именно так, как по торжественным дням одевались в ту пору прилично зарабатывающие молодые рабочие.) Блок встретил московского гостя суховато-вежливо, стихи показались ему многословными, хотя и голосистыми. Вопросы, правда, задавал внимательные, вот только имя непрошенного гостя в Дневник в тот день не вписал. То ли не запомнил, то ли счел ненужным запоминать. А вот с нужным человеком связал. И не ошибся в выборе. Петербургское окружение Сергея Городецкого, поэта и художника-любителя, встретило рязанского парня как «дар небес». Ну чем не пришествие отрока Пантелеймона? Стык панславистских мечтаний с голосами русской деревни представлялся столичным эстетам праздником неонародничества. На неонародничество в Петербурге был спрос. Промышленный бум начала XX века выдвигал Россию в сообщество мировых держав. Этот неожиданный сдвиг, возбуждая национальное самосознание, реанимировал и стародавнюю распрю, распрю западников и славянофилов. Изменялась полегоньку и идеологическая география страны. Славянофильским центром, наперекор традиции, становится «аристократический» Петербург, купеческая же Москва разворачивается фасадом к Европе. Император коллекционирует старинные кокошники. Московский миллионщик Щукин покупает Матисса и Пикассо. В столь специфической (шиворот-навыворот) обстановке есенинские картинки «Про деревенскую Русь» были чуть ли не обречены на приумножаемый слухами интерес, а может, и на колыбельные руки. Ну разве не перекличка то ли с «Осенней волей» Блока, то ли с блистательной его эссеистикой хотя и недавних, но уже легендарных лет?
«Пляшет Россия под звуки длинной и унылой песни о безбытности… Где-то вдали заливается голос или колокольчик… Однообразны канавы, заборы, избы, казенные винные лавки, не знающий что делать со своим просторным весельем народ, будто запевало, выводящий из хоровода девушку в красном сарафане. Лицо девушки вместе смеется и плачет. И рябина машет рукавом…»
Словом, на взгляд, по верхам порхающий, Есенин неожиданно для себя оказался чуть ли не на балу удачи. Даже обычная для «рязаней» белокурость перекрашивалась здесь в златоглавость, а мечтательная вера провинциала в урожденное право на Великую Песнь чудилась чем-то загадочным. И не на пустом месте чудилось. В яблочко Есенин, конечно же, не попал, но если и «промазал» то все-таки по-Грибоедовски: «Шел в комнату, попал в другую». Изначально неточное Русское Время еще, конечно, не сделалось по-Маяковски «телеграфным», но длинно-былинным уже не было. Да и Блок той поры (1913–1915) не столько автор «Ямбов» и «Кармен», сколько тяжко угрюмого «Грешить бесстыдно, беспробудно, счет потерять ночам и дням». Догадался ли об этом Есенин при первом же очном контакте? Вряд ли. Скорее по наивности предположил, что петроградцы сильнее, чем москвичи, омрачены пока еще непонятной войной. Во всяком случае, на продолжение общения, не раздумывая, понадеялся и, выждав для приличия месяц, письменно «напросился» на новую встречу. И получил формальный, некрасиво равнодушный отказ. Дескать, даже думать о вашем трудно, такие мы разные. С есенинской точки зрения, это была отписка. От долгого думанья про свое он словно заболевал. Не понятое не свое, напротив, интриговало. Письма Клюева, например. Не те, руководящие, – все городецкое сообщество их совместно оспаривало. Озадачивали персональные послания, лично С. А. Есенину адресованные. Тут уж и получатель воспитывающих наставлений ежом растопыривался. И тем не менее: на опыте именно этой первой в жизни регулярной переписки сама собой объяснялась и еще одна непонятность. Пересказанная стихом жизнь почему-то прояснивалась. Рассказывая уже летом, по возвращении из Питера в Константиново, то подросшей сестре, то бывшим школьным друзьям про петербургское свое гостевание, Есенин запутывался в деталях, сбивался с мысли. Но стоило про то же заговорить стихами, выходило инако: ладно-складно и коротко. Всю-то белую ночь, напролет, в маленьком «ателье» Сергея и бранились, и сквернословили. А поутру ежели стихами заговорить? Что получалось? Вот что получалось:
Тогда в весёлом шуме
Игривых дум и сил
Апостол нежный Клюев
Нас на руках носил.
И ведь и впрямь носил. В столичной периодике, особенно в «Биржевке», его охотно печатали, но все старания Городецкого отыскать надежного издателя для есенинского сборника кончались ничем. Война, мол, не до поэзии… Все надежды теперь на Клюева. Но Клюева в Питере не было. И не будет, как говорят, до осени. Впрочем, Есенин уже и не торопился издаваться «абыкак», лишь бы издаться, не доведя до ума и ясности наброски новых стихов из дорогой и нарядной, купленной уже в столице, тетрадки. Книга, в уме приготовленная, еще по весне сложенная и слаженная в рукописное свое подобие, сама собой начала перераскладываться, наращивая смыслы, расширяясь и разнообразясь сюжетно. Не менялось лишь данное при рождении замысла имя: Радуница. Имя было редкостным и удачным. При сложении заложенных в него значений и прояснивался, и богател замысел уже не сборника, а открытой будущему КНИГИ. Ведь Радуница это и радость, и радушие, то есть готовность делать добро с радостью («рад и счастлив душу вынуть»), а еще и день поминовения усопших. По древнему, еще языческому обычаю, Радуницей назывались и «вещие поминки». Справлялись они прямо на кладбище, чтобы и усопшие могли разделить с живыми радость жизни. На Радуницу, и тоже по обычаю, правда, недавнему, устраивались и состязания частушечников. От одного такого состязания (в кругу литераторов) сохранилась частушка, автором которой считался Есенин: «Шел с Орехова туман. / Теперь идет из Зуева. / Я люблю стихи в лаптях Миколая Клюева». А почему бы ему и автора стихов в лаптях не полюбить? Ведь было за что! Во-первых, появившись наконец в Петербурге, «Миколай» моментально нашел издателя для «Радуницы». 1 февраля 1916 года она вышла в свет, и автор бросился одаривать своей радостью всех, кого уважал за талант. Горького, Репина, Алексея Толстого. Во-вторых, не без помощи Клюева (у апостола были связи в придворных кругах) удалось все-таки избежать немедленной отправки в действующую армию – рядовым необученным, то есть наисвежайшим пушечным мясом. Поначалу из-за «болезни глаз» продлили полученную еще весною в Рязани отсрочку от призыва. А вскоре, по второму разу переоформив призывные бумаги, приписали санитаром к разъездному Царскосельскому госпиталю. Его патронировала сама императрица. На «ужасы войны» он и там нагляделся, а прихвативший в дороге аппендицит оказался гнойным… И если бы не царскосельского класса хирурги… Впрочем, и полублатные хлеба сытыми не были, и выкарабкивался Есенин из своих хворей с натугой, и трудно, и долго. А по выписке отправлен был не на фронт, а в военное училище, в которое «по уважительной причине» не явился: Февраль 17-го самодержавие прекратил, и педагогический состав временно рассредоточился. Однако ж ни Большой войны, ни военных обязанностей и Временные не отменили. Вот и пришлось и Есенину, как и литературному его Двойнику из «Анны Снегиной», «спроворив» «липу», вернуться в свои «рязани». (Кстати и апропо: между Рязанью и Константиновым, ежели по прямой, всего около 40 км. По нынешнему, почти Подрязанье.)
По мнению Юрия Тынянова, Есенин, выстраивая отношения с читателями, сознательно стремится к тому, чтобы они бессознательно воспринимали его стихи буквально, словно письма, почтой полученные от Сергея Александровича. Увы, и Тынянов клюнул на простенькую эту наживку к хитроумной «удочке». Хитроумностей, как в «Анне Снегиной», так и в примкнувших к ней «Пугачеве» и «Черном человеке» с лихвой хватает. Связанные в романизированный триптих, они значительнее и объемней, нежели поврозь. Связь эта, хотя и не легкокасательная, но и не крепостная. В случае эстетически неизбежной экономии писчепригодного жизненного «материала» пусть беззаконно, но узаконенная. Первой же пришедшей на ум строчкой, ибо с нее-то все и начинается.
Стихи мои,
Спокойно расскажите
Про жизнь мою.
Фраза озвучена и интонационно, и грамматически как высказывание от первого лица. Обращенное к заинтересованному лицу. Не слишком, слегка, но заинтересованному. Не вздумайте, однако, вообразить этого анонимного (без лица и названья) собеседника, допустим, задушевным другом юности автора. Из тех, с кем разлучает не мистическая Судьба или политические убеждения, а просто годы, помноженные на обстоятельства. Думаю, что правильнее примерить на себя роль железнодорожного попутчика в вагоне международного класса, то есть в купе на двоих. О чем же вы с Есениным собеседуете? Скорее всего, о том, что происходило на малой вашей родине в самые первые годы новой власти. Когда «закон не отвердел», а страна расшумелась «как непогода». Ситуация «в общем и целом», по мысли пассажиров такого класса, типическая. Конечно, подробности разные, порою, правда, одинаково несообразные: хотя и задернуты тюлевой фабулой, стройно-логично выстраиваются в сюжет. Время действия – весна-лето 1917-го; на авансцене то ли Дублер автора, то ли его Тень. («Где-то в чистом поле у межи оторвал я тень свою от тела…») Имя, естественно, не анкетное – ретушированная копия имени автора, как и род занятий: свободная профессия, поэт.
И что в итоге? В итоге читатель перестает замечать разницу между правдой о жизни с подгонкой под нее. Что же в поэме не совпадает с реальностью? Романические и романтические отношения поэта Есенина с константиновской «барыней», что в ранней юности, что в дальнейшем. А вот девушка с тем же именем Анна, как и калитка, за которой буйство сирени, и впрямь существовали, как и ее ласковое, но твердое «нет». Иным это «Нет!», наверное, и быть не могло. Поскольку ухажер, во-первых, сопляк, а во-вторых неровня. Она же дочь учительницы и племянница константиновского «батюшки». А главное, чужая невеста… Мелькает в тексте и еще одна Анна. Мелькнула и исчезла. Забыв и перчатки свои, и шаль… Ей-то – живой, а не тени – Есенин и в самом деле предлагал прочесть только что изданные свои стихи про кабацкую Русь. И это, кстати, не предположение, а факт. 19 июля 1924 года С.А.Е. трезвый, прихватив для страховки непьющего Клюева, ездил по Питеру, раздаривая нужным и уважаемым людям только что вышедшую «Москву кабацкую». Узнав у друзей Ахматовой ее адрес, заехал и к ней с тем же подарком. Книга сначала потерялась, потом нашлась, и на ней рукой А.А. сделана такая надпись: «Эту книгу подарил мне Есенин, когда приходил летом 1924 года». Сохранилась и запись в дневнике Павла Лукницкого, приятеля Анны Андреевны, от 27 февраля 1925 года: «Говорили о С. Есенине приблизительно в таких выражениях: “Он был хорошенький мальчик раньше, а теперь его физиономия! Пошлость”». Как видим, слова Снегиной в поэме буквально повторяют слова Ахматовой: «Сергей, вы такой нехороший».
«Анна Снегина», как и библейский цикл, читательских восторгов не вызвала. Скользнули по верхам вяловатого сюжета и тут же причислили к старомодному жанру: «повесть в стихах». Повести в стихах, особенно длинные и невинные («И девушка в белой накидке сказала мне ласково “Нет!”») высмеивал еще Лермонтов почти сто лет назад: «Умчался век эпических поэм и повести в стихах пришли в упадок…» Есть ли момент истины в таком приговоре? Видимо, и впрямь не исключается, ежели читать каждую из частей как самостоятельную вещь. В ином контексте – в качестве второй части трехчастного романа в стихах, каким, по-моему является триптих. Часть первая: «Пугачев» (1921–1922). Часть вторая: «Анна Снегина» (1924–1925). Часть третья: «Черный человек»(1922–1925).
Считается, что Есенин начал думать о Пугачеве в 1920 году. Тогда же, по утверждению большинства современных комментаторов, стал и собирать, и изучать исторические материалы о Пугачевском бунте. На самом деле, у нас нет оснований не доверять Вячеславу Полонскому, влиятельному критику и главному (в ту пору) редактору «Нового мира». По его свидетельству, поэт задумал поэму о великом мятежнике раньше, в самом начале 1918-го, сразу после окончания «Инонии» (январь 1918), в тот «промежуток краткий», когда Революция еще виделась вулканическим выбросом мужицкой силы, а новая, рожденная в «сонме бурь» Россия – Великой Крестьянской республикой. Вот каким запомнил и описал Полонский чтение Есениным этой поэмы: «Ему было тесно и не по себе, он исходил песенной силой, кружась в творческом неугомоне. В нем развязались какие-то скрепы, спадали какие-то обручи – он уже тогда говорил о Пугачеве, из него ключом била мужицкая стихия…» Победительный и победивший, торжествующий Пугачев, задуманный, судя по дальнейшему, как оппозиция пушкинскому, так и не был написан. Оптимистический в замысле сюжет отменила История, предложив взамен новый: Пугачев Поверженный. «Матушка Екатерина», обезглавив «Емельку» да пятерых его ближайших сообщников и приговорив к каторжным работам десяток-полтора наиболее активных «злоумышленников», неразумный народ милостиво простила. Новая «народная» власть в ответ на голодные бунты объявила войну собственному народу. Столь неожиданный «ревповорот» политического курса ошеломил даже Петра Кропоткина, революционера пар экселянс и теоретика русского анархизма. Вот что писал бывший князь Кропоткин Ульянову-Ленину в ноябре 1920-го (в то самое время, когда Есенин, воспользовавшись удачным стечением бытовых обстоятельств, возвращается к думам о Пугачеве): «В “Известиях” и в “Правде” помещено было официальное заявление, извещавшее, что советской властью решено взять в заложники эсеров из группы Савинкова и Чернова, белогвардейцев Национального и Тактического центров и офицеров-врангелевцев; и что в случае покушения на вождей Советов решено “беспощадно истреблять” этих заложников. Неужели не нашлось среди вас никого, чтобы напомнить, что такие меры, – представляющие возврат к худшим временам Средневековья и религиозных войн, недостойны людей, взявшихся созидать будущее общество на коммунистических началах; и что на такие меры не может идти тот, кому дорого будущее коммунизма». Есенин в понимании сути происходящего опередил Кропоткина на три с половиной месяца. Я имею в виду его письмо молоденькой харьковчанке Женечке Лившиц от 11–12 августа 1920 года: «Мне очень грустно сейчас, что история переживает тяжелую эпоху умерщвления личности как живого, ведь идет совершенно не тот социализм, о котором я думал… Тесно в нем живому, тесно строящему мост в мир невидимый, ибо рубят и взрывают эти мосты из-под ног грядущих поколений… всегда ведь бывает жаль, если выстроен дом, а в нем не живут, челнок выдолблен, а в нем не плавают…» Внук Есенина Владимир Кутузов, старший сын Татьяны Сергеевны, при нашей совместной работе над ее мемуарами («Дом на Новинском бульваре», «Согласие», 1991, № 4), когда разговор зашел о Мейерхольде и о его планах поставить «Пугачева» в своем театре, неожиданно вспомнил, что в их семье, в связи с историей этого замысла, называли лермонтовское «Предсказание». Он даже процитировал, пусть и не совсем точно такие строки: «В тот день явится мощный человек / И ты его узнаешь и поймешь, / Зачем в его руке булатный нож…» Я, естественно, продолжила: «Настанет год, России черный год, когда с царей корона упадет. Забудет чернь к ним прежнюю любовь, и пища многих будет смерть и кровь…» Документально убедительных аргументов в пользу этой версии у нас, разумеется, не было. Потому согласились на нейтральную и осторожную формулировку: очень-очень возможно, что Есенин помнил эти лермонтовские стихи наизусть, хотя в общедоступные издания их не включали. Ни при царской власти. Ни при советской.









































