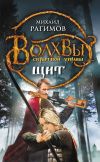Текст книги "Пророчество Предславы"

Автор книги: Сергей Фомичёв
Жанр: Героическая фантастика, Фантастика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Сергей Фомичёв
Пророчество Предславы
Ольге Николаевне Ляпаевой
Глава первая
Знамение
Городец Мещёрский[1]1
Городец Мещёрский – ныне город Касимов, Рязанской области
[Закрыть]. Апрель 6860[2]2
6860 г. соответствует 1352 году н.э. Все даты указаны «от сотворения мира», по принятому в то время мартовскому календарю, то есть год начинается 1 марта.
[Закрыть] года.
Стук в дверь. Пёс приподнял голову, насторожил уши, но не зарычал, и не залаял, – значит в дом пришли не враги. Сокол согласился с псом, он и сам не почуял ничего угрожающего, напротив, явно ощутил чужой страх пополам с неуверенностью. Боялись его, Сокола. Боялись, но всё же пришли. Из чего следовало, что пришли по важному делу.
Стук в дверь застал чародея за его любимым занятием. Лёжа на покрытой шкурами лавке, он разбирал аравийскую вязь трактата великого Авиценны, что полгода назад доставил ему ханьский купец Чунай. Бросать чтение не хотелось. Но делать нечего – вряд ли кто-то решился бы беспокоить известного чародея по пустякам.
– Видимо, нам предстоит работа, – сказал Сокол псу, отложив свиток и поднимаясь с лавки. Пёс не ответил, лишь обвёл взглядом комнату – всё ли в порядке – и улегся обратно. До чародейской работы ему не было никакого дела.
В одной рубашке, босиком, Сокол прошлёпал в сени и отворил дверь, даже не спросив, кто там.
Возле порога стояли, нерешительно переминаясь с ноги на ногу, два мужика. И без волшебства ясно, что они столь же опасались чародея, сколько и нуждались в его услугах.
В первом, что постарше и ниже ростом, Сокол угадал сельского старосту – рубаха богата вышивкой, не из обыденных, такие даже купцы достают лишь по праздникам. Второй рядом со старостой выглядел настоящим богатырём. Охотник, – решил Сокол, отметив, что новые, судя по свежести меха, сапоги, уже изрядно потёрты на боках от длительной ходьбы. Молодой, хотя плохо зажившие рубцы на лице делали его старше. Сокол подумал, что, пожалуй, смог бы помочь молодому человеку, составив подходящую мазь, однако вряд ли гости пришли за этим, а навязывать лечение было не в его привычках.
Лица обоих украшали густые чёрные бороды, какие не часто встретишь у лесного народа. На груди у старосты к тому же виднелся нательный крестик, что развеяло последние сомнения Сокола.
Православные неохотно обращаются за помощью к чародеям, подумал он, а если и обращаются, то к своим чудотворцам. Так что работа обещала быть необычной.
Сокол посторонился и молча указал рукой, приглашая гостей войти. Они вошли, почистив в сенях не слишком-то и грязную обувь, сняли шапки и, оглядев комнату, немного успокоились. Жильё колдуна выглядело обычным. Никаких черепов да костяков по стенам не висело и на столах не лежало; чёрных котов или воронов туда-сюда не шмыгало, пауков или жаб в котле не варилось. Лишь в углу висел пучок травы, но такая, отгоняющая днём мух, а вечерами комаров, встречалась почти в каждом доме. Пёс же – единственное помимо хозяина существо – смотрел на них даже доброжелательно.
– Что вам нужно, уважаемые? – спросил Сокол после обмена приветствиями и малозначащими, по крайней мере, для него, пожеланиями здоровья.
– Колдун у нас умирает, почтенный чародей, – бойко заговорил староста. – Страшное дело. Всё село второй день не спит, опасается, как бы худо не вышло, как бы не обернулся он упырём. Иные уж вещи собрали и подались в Мещёрск или к родичам в соседние сёла. Священник наш, Леонтий, носа из избы не кажет. Некому защитить мир.
Он вздохнул.
– Помоги, не гневайся, а мы в долгу не останемся – отблагодарим. Мы бы и не беспокоили тебя пустяками-то. Но тут такое дело, такое дело…
– Далеко ли село ваше? – осведомился Сокол, одеваясь и раздумывая, не взять ли чего с собой. Так, на всякий случай. Умирающий колдун дело действительно серьезное, староста вовсе не преувеличивал. В Мещере только два-три человека могли справиться с подобной напастью, не причинив при этом вреда себе и окружающим.
– Сельцо называется. Пути вёрст шесть. На возке-то быстро домчим – дорога хорошая, наезженная, – заулыбался староста, увидев, что чародей согласился.
Сокол оделся и, шепнув псу, чтобы тот сторожил дом (хотя не случалось ещё, чтобы воры лазили по таким домам), вышел вслед за мужиками на улицу.
Там поджидал возок, запряжённый парой низких заросших лошадок неопределенной масти. Пару в этих местах запрягали редко, главным образом на праздники и по торжественным случаям. Две лошади, пусть и не самые породистые, свидетельствовали не столько зажиточности хозяина, сколько об уважении, которое тот оказывал Соколу.
Староста взялся за вожжи, а охотник уселся позади рядом с Соколом.
Дорогой чародей заметил, что молодой селянин всё время озирается по сторонам, не выпуская из рук копьеца – в большом городе он чувствовал себя неловко.
Староста, впрочем, тоже город не жаловал. Вместо того, чтобы проехать коротким путём через крепость, он направил лошадок в обход, по дороге, что вела почти под самыми стенами между лесом и рвом. Всё время причмокивая и поддёргивая вожжами, староста заставил бежать своих лошадок довольно резво. Охотник, тем временем, исподлобья рассматривал городские стены, сложенные из сосновых, обмазанных глиной, срубов. Невысокие, они, тем не менее, с утра до вечера накрывали окружную дорогу тенью и от этого внушали проезжим почтение.
Оставив позади город и взяв от Напрасного Камня левее, они выскочили на идущую сквозь вековые леса и воспетую вместе с ними в сказаниях и былинах, знаменитую Муромскую дорогу. Дорогу настолько древнюю, что говорили, будто торили её великаны онары, что жили в этих краях задолго до людей.
– А что злой колдун? – спросил Сокол, как только они миновали Напрасный Камень.
– Да нет, добрый, вообще-то, – ответил, подумав, староста. – На людей и скот порчу не наводил. Откуп брал, правда, да на свадьбах угощался, во главе стола сидел. А так, знахарствовал, людям помогал, но главное других колдунов к нам не подпускал и ихнюю порчу снимал. Да только кто знает, что он после смерти вытворять начнёт.
К деревенским своим собратьям-самоучкам Сокол не испытывал неприязни, тем более ненависти. Ни к злым, ни к добрым. И те, и другие занимались нужным делом, оттягивая на себя всё тёмное, что скапливалось среди людей. А добрый колдун или нет, зависело лишь от присущего ему обычного человеческого естества. Что, впрочем, тоже имело значение.
* * *
Въехали в притихшее Сельцо, состоящее из двух десятков дворов. Оно и впрямь оказалось христианским – на горке возвышалась деревянная церквушка из побеленного сруба, покрытого небольшим куполом с маковкой и крестом. Это означало, что почтение чародею будет оказано больше из страха, чем из уважения. Улица пуста – народ собрался неподалёку от колдунского дома, на соседнем дворе, и тихо перешептывался, бросая в ту сторону косые взгляды. При виде подъехавшей повозки, в которой сидел мещёрский чародей, среди людей пронесся вздох облегчения – умирающего колдуна православные побаивались больше, нежели колдуна живого.
Сокол слез с возка и подошёл к людям. Прежде чем приступить к делу, он решил расспросить поподробнее местных, что за колдун, каков его нрав, кто и что за ним подмечал. Конечно, по дороге Сокол выжал из старосты всё, что мог, но в таком серьезном деле никакой разговор лишним не бывает. Однако, судя по рассказам селян, всё обстояло как обычно, не лучше и не хуже чем в других местах.
– А кто ходит за ним? – спросил чародей. Колдун там или не колдун, а всякий больной, тем более, умирающий человек требует ухода.
– Племянница ходит, Елена. Она и сейчас там, – ответившая баба махнула рукой. – В его доме.
Тоже в порядке вещей. Кто кроме родственника, притом близкого, станет ухаживать за колдуном на пороге его смерти?
– Пойдешь со мной, – сказал Сокол охотнику. – А ты оставайся здесь, – добавил он, обращаясь к старосте.
Воздух в тёмной комнате стоял затхлый и к тому же в нос било какой-то кислятиной. Пол оказался земляным, ничем не покрытым – христианские сёла в Мещере жили, как правило, небогато. На укрытой шкурами широкой лавке, дёргаясь и мыча, умирал колдун. Сокол увидел глубокого седого старика с высохшим, почти невесомым на вид телом; увидел лицо, испещренное морщинами и покрытое отвратительными синюшными пятнами.
Возле умирающего сидела племянница. Она оказалась молодой женщиной, красивой, но измученной двухдневным уходом за необычным больным. Бросив взгляд на вошедших, Елена встала со скамейки и поправила на голове платок.
– Брала у него что-нибудь? – на всякий случай спросил Сокол, хотя и так видел, что сила колдуна всё ещё оставалась при нём, иначе он давно уже упокоился бы.
– Что ж я, дура неграмотная? – ответила женщина, пожав плечами.
– Иди, – кивнул Сокол. – Теперь уже не долго осталось.
– Здесь постою, – возразила Елена. – Родня всё же. Может, захочет чего сказать перед смертью.
Чародей не ответил. Придвинув скамейку ближе, уселся перед постелью. Охотник встал в отдалении, поглядывая на больного с опаской.
– Если его будет корчить, поможешь мне, – сказал парню Сокол и занялся, наконец, хозяином.
Колдун умирал тяжело. Колдуны вообще очень тяжело умирают, уходящая сила крутит их перед смертью хуже церковных пыток. Нечеловеческая боль рвалась наружу, старик стонал, скрипел зубами, из его рта шла пена вперемешку с кровью от прикушенного языка. Сокол снял с пояса мешочек. Отщипнув немного от тестообразного вещества, скатал шарик и сунул колдуну в рот. Это был банг – вязкое варево из конопляных листьев, белены и прочих дурманящих трав, изготовлению которого, он научился у одного аравийского лекаря. Банг опасен для живых, если его употреблять без меры, но помогает тяжело больным и умирающим избавиться от страданий.
Колдун притих, его боль медленно отступала.
– Ну всё, дед, – обратился к хозяину чародей. – Мучений больше не будет.
Конечно, он имел в виду земные мучения. А что ждёт колдуна там, за порогом смерти, кто знает…
– Возьмешь у меня змеевик?[3]3
Змеевик – здесь амулет.
[Закрыть] – приоткрыв глаза, спросил вдруг умирающий старик.
– Возьму, – спокойно, не отводя взгляда, ответил Сокол.
Тот не без усилия протянул морщинистую руку с длинными, но ухоженными ногтями и вложил в ладонь Сокола амулет.
Сперва ничего не происходило – змеевик, сохранивший тепло хозяина, грел руку, и казалось, в нём нет ничего колдовского. Чародей даже подумал, что дело обойдётся без обычной в подобных случаях борьбы. Но вот ладонь слегка кольнуло. Сокол невольно сжал амулет и сразу же почувствовал, как на него обрушился мощный поток неведомой силы. Будь на его месте обычный человек, или даже чародей без достаточного в таких делах опыта, поток неизбежно захватил бы его, сокрушил, подчинил своей власти, превратил бы в живое орудие, способное продолжить дело умирающего. Но Сокол не зря считался сильнейшим среди собратьев по ремеслу, его собственная мощь значительно превосходила ту, что заключалась в змеевике. Поэтому он без страха раскрылся потоку, вбирая в себя каждую его частичку. Он впитывал чужую силу, как человек, одержимый жаждой, глотает воду; он растворял её и использовал для усиления собственной мощи.
И почти сразу почуял неладное. Нет, он ни на миг не потерял власть над потоком, тот по-прежнему легко покорялся, но странная чужеродность входящей силы насторожила. На своём веку Сокол многое изведал и до сих пор полагал, что столкнуться с чем-то совершенно новым ему не придётся. И вот столкнулся. Колдун служил кому-то настолько чуждому, что Сокол не смог даже отдалённо понять сущность этой силы. В другой обстановке он не преминул бы выяснить её природу, но сейчас его собственная неимоверная воля превратилась в помеху. Она успешно подавляла чужой поток, но вместе с тем и закрывала его от сознания чародея. Только подчинив себя чужой воле – как случилось бы со всяким принявшим от колдуна змеевик, кто не обладал могуществом соизмеримым с могуществом Сокола – можно понять хоть что-то. Но это стало бы слишком дорогой ценой за знание, а Сокол не готов был заплатить свободой и за более ценные сведения.
Выпытывать у православных селян, какой именно силе служил колдун, бесполезно – эти люди давно забыли своих прежних богов. В лучшем случае от них можно получить лишь смутный намёк. Сокол подумал, что на этот раз любопытство придётся оставить неудовлетворённым. А жаль…
– Как звали тебя? – спросил он. Именно так: «как звали», а не «как зовут».
– Вихрь, – ответил тот хриплым, но отнюдь не старческим голосом.
Чародей резко повернул руки ладонями к себе и оборвал призрачную нить неведомого потока, уже почти полностью иссякшего и растворившегося в нём. Те крохи, что остались в распоряжении колдуна, пригодятся ему в странствиях по загробному миру, каковые никогда не бывают лёгкими у представителей их племени.
– Я последний… – прохрипел Вихрь, как бы желая о чём-то предупредить чародея, но не договорил. Хрип оборвался. Старик медленно закрыл глаза и, сипло выдохнув в последний раз, спокойно умер.
Дело сделано. Теперь местные жители, несмотря на своё христианство, похоронят колдуна с соблюдением старых обрядов: подрежут, как водится, подколенные жилы; положат в гроб лицом вниз; вынесут головой вперёд, а в могилу вобьют непременный осиновый кол. Но всё это уже не будет иметь значения. Колдун перестал быть опасным. Перед самой своей смертью, он, собственно, перестал быть колдуном – стал обычным человеком. Но суеверных мужиков не переубедишь. Да и зачем? Так им будет спокойнее.
Чего нельзя сказать о самом чародее. Страха он по-прежнему не испытывал, но смутное беспокойство осталось. Ох, не прост был колдун, ох не проста сила.
Сокол вместе с Еленой и охотником вышел во двор.
Народ с прибытием чародея осмелел и толпился уже возле самых ворот, вполголоса обсуждая событие. Увидев выходящих, все устремились навстречу, спрашивая, что да как.
– Всё, отмучился, – сообщил охотник вздыхая.
Люди, перекрестившись, заметно повеселели. На лицах появились улыбки, и радость сдерживало только уважение к усопшему. Староста торжественно направился к Соколу, протягивая ему с поклоном тряпичный свёрток.
– Вот, прими от мира. Чем богаты, – промолвил староста.
Сокол развернул тряпицу. Сельцо расщедрилось на две серебряные гривны, что за такую работу явный перебор – видимо сильно напугался православный народ этой смерти. Чародей оставил у себя одну гривну, вторую же вернул старосте.
– Этого хватит, – сказал он. – А теперь отвезите меня обратно.
Провожал чародея только охотник. Староста остался в селе, немедленно занявшись устройством похорон. Суеверные жители решили похоронить колдуна ещё до захода солнца.
По дороге парень немного разговорился. Звали его Николай, но соседи чаще называли его Дымком, за тот запах, что шёл от него постоянно после долгих лесных скитаний. Он и в самом деле промышлял охотой, впрочем, как и многие из его села. А вот покойного колдуна, как оказалось, знал лучше прочих.
– Как-то раз попросил меня Вихрь волчонка добыть. Не молочного, понятно, но щенка. Зачем ему понадобился зверёк, колдун не сказал, а я, понятно, не спрашивал. Где тот волчонок теперь, не знаю. Верно подрос уже…
Во время неспешного разговора Сокол часто трогал пальцами змеевик, а то и вытаскивал, чтоб ещё раз взглянуть. Тот выглядел вполне обыкновенным – серебряный с вплавленным в серебро янтарём, с рисунком в виде солнца и месяца.
Вот еще одна странность – как такой амулет мог храниться у колдуна, если известно, что их брат не жалует ни серебро, ни янтарь. Вернее сказать, серебро и янтарь не жалуют колдунов. Впрочем, возможно это ещё одно суеверие, ждущее опровержения. Или же Вихрь был не простым колдуном, а кем-то сверх этого. Кем? «Я последний…» – сказал он. Последний кто?
Много в колдуне странного, слишком много. И в змеевике его тоже.
Только показался Мещёрск, охотник опять сник. Он не любил город.
Сельцо. Три дня спустя.
Отец Леонтий был человеком небольшого роста и средних лет. Его пузатое, словно бочонок, тело и лоснящееся, вечно красное лицо с жидкой бородой, делали его похожим на бога вина Бахуса, каким того изображали италийские живописцы. Это сравнение было тем более точным, что священник слыл любителем выпить. Каждый вечер он обходил паству будто бы с увещевательными речами. Иногда, ему приходилось долго слоняться от дома к дому, иногда обход заканчивался в первом же дворе. Так или иначе, но к себе он возвращался обычно заполночь. Пиво, медовуху, брагу готовили в каждом доме по-своему и любой прихожанин, оказавшийся утром в нескольких шагах от батюшки, по одному лишь его дыханию, мог легко определить, у кого из селян тот гостил накануне.
Будучи ещё монахом, он грешил чревоугодием и не любил работать. Большую часть времени проводил в своей келье или гулял по лесу, возлагая заботу о пропитании на двух расторопных слуг. До ухода в монастырь был Леонтий человеком обеспеченным, да и в обитель ушёл не по велению сердца, а скрываясь по осторожности природной от нелегкого и опасного времени. Тихая, размеренная жизнь вдали от мира ему пришлась по душе. В те годы общежительный устав ещё только обсуждался, и монастыри больше напоминали хорошо укрепленные постоялые дворы, чем строгие заведения затворников. Разве только церковь, да отсутствие явного блуда, отличали обитель от какого-нибудь дорожного приюта. Но зато божьих людей не трогали ни ордынцы, ни князья, да и не всякий разбойник решался нападать на монастыри. Находясь у Христа за пазухой, иноки жили при этом почти также как в миру; каждый вёл своё хозяйство, держал собственную казну. Что до общественных работ, то имеющие средства нанимали вместо себя тех, кто пришли в монастырь без гроша. Игумен же слыл человеком сговорчивым и прощал монахам мелкие прегрешения за воз репы или кадку зерна. Он радел за общее дело и потому с готовностью закрывал глаза на частности.
Так и прожил бы Леонтий иноком до конца своих дней, но жизнь резко изменилась, когда в монастырь пожаловал владимирский викарий и принялся наводить новый порядок. Подобно ангелу, что спустился в египетской пустыне к Пахомию Великому, викарий принёс с собой общежительный устав. Разжиревших от изобилия и лени монахов, коих вместе с Леонтием насчитывалось больше половины братии, он принудил заниматься трудом и продолжительными молитвами. Им приходилось соблюдать многочисленные посты, как канонические, так и те, что учреждал по ходу дела сам викарий. Такое выдерживал не каждый. Многие собирали добро (нередко даже возросшее за время монашества) и уходили. Леонтий же в по-прежнему неприветливый мир возвращаться отнюдь не жаждал. Он избрал другую стезю. Перестал роптать, претерпел всё насилие над плотью, и уже через год его рукоположили в священники.
Из несклонного к подвижничеству Леонтия вышел не самый лучший священник. И потому, после возведения в сан, его не послали в новые земли, а отправили в уже сложившийся приход, который накануне лишился своего основателя. С трудом добравшись до Сельца, которое и отыскалось-то не сразу, Леонтий с ужасом обнаружил, что прежний священник ввёл в приходе непонятный ему уклад. В избе нашлись книги и свитки, писанные латынью, которую новый батюшка не знал. И таковых неправильных трудов оказалось много больше, чем греческих или славянских. На сводах церкви он разглядел изображения мудрецов, про которых мало что знал, а иных и вовсе затруднился припомнить. Но самое ужасное, что посреди алтаря стояло вырезанное из дерева изображение Иисуса Христа, похожего ликом на какого-нибудь поганого Световита.
Леонтий, конечно, знал, что подвижники, расходясь по весям и продвигая влияние церкви, обустраивали приходы исходя из собственного разумения, или же пытаясь приспособить каноны к местным поверьям. Никаких чётких, обязательных для всех правил, не существовало. Но увиденное настолько отличалось от привычного Леонтию, что всё пришлось переиначивать. Первым делом он тайно сжёг оставшиеся от предшественника книги и списки, все, что не смог прочесть. Затем взялся за лики. Обнаруженного на стене Вергилия батюшка тронуть не решился, так как не имел представления каким образом сделать новую роспись. Но имя философа на всякий случай со стены сбил, и теперь в этом месте зияла внушительная дыра, сквозь которую виднелись бревна сруба. Имя Гомера, дабы не делать ещё одной дыры, он шкрябал ножом до тех пор, пока разобрать что-либо стало невозможно. Остальных мудрецов, вовсе ему не знакомых, не тронул, опасаясь, вдруг кто из них окажется святым или пророком. Не решился он тронуть и деревянную фигуру Иисуса, но, смущаясь и бормоча молитву, закрыл её платком. Преобразование в службах заключалось лишь в одном: Леонтий сократил их количество до одной в день, а продолжительность свёл к нескольким коротким молитвам. Взамен он ввёл вечерние обходы паствы, якобы с назиданием и увещеванием, из которых неизменно возвращался мертвецки пьяным.
Ничего удивительного, что прихожане отнеслись к новому батюшке с недоверием. Прежнего священника они уважали и нововведения, а особенно дыры на стенах им не понравились. Тем более что и вид Леонтия не шёл ни в какое сравнение с богатырским и мужественным обликом предшественника. Совсем не таким, как Леонтий, по мнению людей, надлежало быть пастырю.
Когда началась история с умирающим колдуном, батюшка забился в подклет прицерковной избы и несколько дней просидел там почти безвылазно, наблюдая украдкой за растущим в селе беспокойством, за сходом, на котором решили послать к чародею. Читая под нос молитву, он следил за приездом Сокола, за похоронами старого колдуна. Лишь раз в день перебегал в стоящую рядом церквушку, чтобы провести службу.
Как только колдуна схоронили, священник успокоился. Но на всякий случай не вылезал из дома еще день. Почуяв, что опасность миновала, он принялся размышлять о слабости человеческого духа. «Что есть страх? Суть ли это победа плоти над духом?» – вопрошал себя батюшка и сам же отвечал – «Но плоть не способна следовать за духом. Ибо плоть обречена на смерть, дух же бессмертен. Человек принимает пищу, защищается одеждой от мороза, а кровом от ненастья, он опасается зверя и другого человека. Таково устройство мира. Потому страх дан нам свыше, дабы не забывали мы заповедей господа нашего».
Эти размышления несколько успокоили его. Леонтий вылез в мир и начал восстанавливать свой пошатнувшийся среди паствы авторитет. Собрав селян как бы на молитву, он завел речь совсем о другом. И первым делом попытался возложить вину на самих прихожан.
– Забыли заступника своего, отвергли благодать Господа нашего? – прогремел он грозно. – К поганому обратились? Сами погаными будете. Закроются врата спасительные перед вами, закроются навсегда. Ибо сказано, что останутся вне – псы и чародеи, и любодеи и убийцы, и идолослужители…
– Чего брешешь? – возмутилась одна из женщин. – Ты сам-то где был, когда беда такая на селе приключилась?
– Нишкни! – закричал Леонтий и взмахнул рукой. – Ты, баба, не от разума сейчас говоришь, а от страха. Но не того бояться след, кого ты боишься, о Боге нашем подумай, его и бойся. А твоими устами Диавол говорит, душ наших погубитель…
Речь вышла запутанная и непонятная, но миряне, сбитые с толку упоминанием бога и дьявола, притихли на время. Вопрос, поднятый смелой женщиной, батюшке пришёлся не по душе, и он зашёл с другого бока, обвинив Сокола в шарлатанстве.
– Поганый чародей обманул вас, – возвестил Леонтий. – Не отобрал он силу бесовскую у колдуна, просто умертвил его, польстившись на серебро. И теперь Диавол восстанет. И не помогут никакие ваши лукавства против него.
На сей раз, собравшийся народ задумался, однако дальнейшим обвинениям вновь помешала та же женщина.
– Сокол уважаемый на Мещере чародей, – возразила она. – Мы сами к нему обратились, не он к нам. И польстился он только на половину того, что мы предложили…
– Да и к тому ж колдуна второй день как схоронили, и пока он нас не беспокоит, – добавил староста и поёжился от мысли, что вдруг окажется не прав.
Леонтий осенил крестом женщину, старосту, посмотрев на обоих, словно на заблудших овец.
– Вы, дети мои, слабы ещё духом и зло легко может обмануть вас. Ну, где вы видели, чтобы человек, перенявший тёмную силу от колдуна, вёл себя так спокойно, и ничего бы в нём не менялось? Обманул он вас. Сила при колдуне осталась или… – священник намеренно запнулся, —…или всё же передал он её, но не волхву поганому, а племяннице своей Елене. То-то она и в церковь вчера не пришла. Отступила от истины по дьявольскому наущению.
Хотя селяне и не питали к Елене особо добрых чувств, так как вела она после смерти мужа жизнь затворническую, тихую, но и обижать молодую вдову ни с того ни с сего никому не хотелось. Потому бабы вновь зароптали, хотя и не осмелились ещё раз задевать батюшку напрямую. Зато многие мужики и особенно те из них, кого Елена в своё время выталкивала взашей, когда попытались они полюбиться с оставшейся без хозяина женщиной, припомнив былую обиду, встали на сторону Леонтия.
– Верно, не приходила, – сказал кто-то из мужиков.
– Вот! – отец Леонтий вознес перст. – Дьяволица она.
– Мало ли кто в церкву не ходит? – не слишком уверено возразила давешняя женщина. – Разные на то причины бывают…
– Ой, ли, – прищурился Леонтий. – Кто из вас видел, что нездоровится ведьме? Ведьма она, и весь сказ. А ведьме в церковь идти, где Христа прославляют, мука смертная…
Дымок, которому Елена нравилась, но который по ночам к ней не лазил и потому по голове горшком или жердью не получал, понял, что дело для вдовы складывается не слишком благоприятно. Спорить с Леонтием он не мог. Отчасти по причине собственного косноязычия, отчасти понимая всю бессмысленность такого спора. Лишь пробурчал что-то насчёт княжьего суда и незаметно отступил из толпы назад. Бабы набросились на мужей с упреками и ехидными намёками, но те, имея поддержку Леонтия, потихоньку брали над жёнами верх.
Дымок тем временем завернул за угол церковной избы и, поняв, что до него никому нет дела, бросился со всех ног к дому Елены. Обернувшись на полпути, он понял, что всё сделал правильно и главное вовремя. Со стороны церкви уже неслись неприятные призывы:
– Изгнать ведьму. Крестом пытать, серебром…
– Сжечь ее надо. Огонь, он очищает.
– Скотину погубит, проклятая, урожай сгноит… Спешить надобно, до сева…
Дымку, человеку от природы доброму, вспышка ненависти пришлась не по нутру. «Ну и что с того, даже если она стала колдуньей, – размышлял он. – Вихрь вон, сколько лет жил по соседству с православными, и ничего. Никто его жечь не стремился. А тут будто озверел народ…» Эти мысли ещё больше подстёгивали молодого охотника. И скоро он уже барабанил в дверь Елениного дома.
Никто не отозвался. Дымок оглянулся – народ всё ещё толпился возле церкви. Он вновь принялся стучать и, наконец, услышал шаги. Дверь отворилась, и на пороге появилась заспанная женщина.
– Ну что ещё такое? – недовольно пробормотала она.
– Впусти в дом, – попросил парень.
– Это ещё зачем? – спросила Елена, загораживая проход.
– Впусти, дело есть, – шёпотом сказал Дымок, озираясь вокруг, хотя вряд ли кто-нибудь мог услышать его слова.
– Какое такое дело?
– Впусти, дура! – Дымок потерял терпение. – Тебя касательно.
Пытаясь сообразить, что ж такое стряслось, Елена отошла в сторону и пропустила нежданного гостя. Умаявшись от бессонного ухода за стариком и последующих затем хлопот с похоронами, она проспала весь день, даже не подозревая, что над её головой сгустились серьёзные неприятности. Елена жила одна, и лишь посестрица[4]4
Посестрица – подружка.
[Закрыть] навещала её время от времени, пытаясь принять участие в судьбе вдовы.
– Замуж бы тебе, – говорила посестрица. – Сколько можно без мужа-то жить?
– За худого не хочется, а доброго негде взять, – отговаривалась Елена.
Ей и самой уже тошно было от неустроенности. Судьба распорядилась так, что мужа Елена потеряла несколько лет назад и с тех пор жила совсем одна. Сватать её, правда, сватали, но как-то всё не сложилось. А потом кто-то пустил по селу премерзкий слушок, дескать, всякому голодному мужику, можно к Елене, случись что, обратиться, она, дескать, без ласки не оставит. Кто пустил слух и зачем, выяснить не удалось, но только зачастили к Елене женихи однодневные. Она уж всяко пыталась отвадить их – и орясиной охаживала, и кипятком поливала, всё без толку. Так уж устроены мужики, что чужой пример их не убеждает. Каждый сам норовил попробовать. Женщины же разделились на две части. Одни верили порочащему слуху, другие, напротив, считали Елену невиновной и охаживали своих мужиков по второму разу.
Зная всё это, Дымок к Елене не совался даже со сватовством. Поймёт не так – поди потом, доказывай, что хотел иного. Но теперь случай выпал особый, и он без сомнений шагнул во вдовий дом.
– Бежать тебе надо, – сказал он, самую малость задыхаясь от бега. – Леонтий народ баламутит. Убить тебя подбивает. Говорит ведьма ты, от дяденьки своего, от Вихря, силу переняла колдовскую…
У Елены при этих словах аж ноги подкосились. Как же так? Она села на стул и стала оглядывать зачем-то избу.
– Чего медлишь? – заорал на неё Дымок. – Беги, дура. Сейчас сюда придут, сожгут дом с тобой вместе.
Елена дернулась, но возразила по привычке:
– Небось, не сожгут. А не то всё село заняться может.
Однако слова охотника, наконец, проникли в сознание, согнали остатки сна. Елена вскочила, бросилась к кадке, затем к сундуку, вернулась, остановилась посреди комнаты, как бы соображая, что же взять с собой и, в конце концов, принялась суетливо собирать вещи. Оно всегда так. Когда спешки нет, всё на своих местах лежит, а как приходит нужда, и найти ничего нельзя сразу.
Кое-как собралась.
Дымок помог завязать узел и бросился открывать дверь, заранее глянув в окно, – не подошла ли безумная толпа. Толпа не подошла. Видимо у церкви вышла очередная заминка.
– Вон он лес рядом, – сказал Дымок, указав рукой на ближайшую к дому опушку. – Беги, что ли, пока не видит никто. А я уж здесь людей дождусь. Попробую отговорить от пакости.
Елена как-то тоскливо посмотрела на темную стену леса, от которого не исходило ни толики гостеприимства, потом повернулась к Дымку и сказала тихо:
– Спасибо тебе, парень, за заботу. Прощай.
Больше ничего не сказала. Подумала только – ему, охотнику, легко сказать «беги», он лес на десятки вёрст вокруг исходил. А ей, женщине, что кроме грибов и ягод ничего считай и не знает в лесу этом, ей каково? Однако делать нечего, Елена, пригибаясь, не столько под тяжестью узла, сколько стараясь быть неприметной, побежала к лесу. Оглянулась уже возле первых деревьев. Мужики, возглавляемые отцом Леонтием, шли по селу к её дому. Бабы отставали. Стало ясно, что нынче они верх не возьмут. Елена вздохнула и припустила дальше.
Она бежала по лесу пока совсем не выбилась из сил. Грудь горела, в боку кололо от быстрого бега. Елена присела, прислонясь к дереву, и задумалась. Только теперь она начала осознавать, в сколь жутком положении оказалась. Ночью одной в лесу не выжить. До первого вурда только и добежишь. Да и некуда бежать. Родственников у неё нет. Друзей тоже. А в село не вернёшься – сожгут.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?