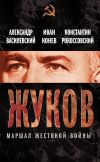Текст книги "Обреченность"

Автор книги: Сергей Герман
Жанр: Книги о войне, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Русская интеллигенция, всю жизнь сострадающая несчастному мужику, увидев, что тот в упоении пьяной бесноватой злобы крушит не только своих угнетателей, но и уже задрал подол матушке России, готовясь изнасиловать ее самым гнуснейшим способом, стала спешно паковать чемоданы, спеша покинуть пределы отчизны, страдания которой они так любили воспевать в своих стихах и одах».
Муренцов бросил писать, закрыл дневник.
– Шанцев, есть папиросы? – обратился он к проходившему мимо штабс-капитану.
– Есть… – приостановился тот и вытащил из кармана шинели черный кожаный портсигар. Протянул его Муренцову. – Закуривайте, поручик.
Раздался зычный голос полковника Гулыги:
– Штабс-капитан, всех офицеров ко мне.
Не успевший прикурить Муренцов чертыхнулся.
– Не судьба!
– Ну да! – серьезно подтвердил Шанцев. – Будет жаль, если погибнете не покуривши.
Прищурив от дыма глаза, он выбросил окурок. Крикнул:
– Господа офицеры! К полковнику!
Заревел паровозный гудок.
– У-у-ууу!
Казалось, что в тумане ревет громадный раненый зверь, требующий крови. Серо-зеленая туша бронепоезда выступала из тумана доисторическим исполином, толща брони, стволы пушек и пулеметов порождали ощущение силы и молчаливой угрозы. Несущий корпус мотоброневагона был склепан на швеллерах и установлен на поворотных пульмановских тележках. Толстая броня прикрывала пулеметные, орудийные и наблюдательные камеры, центральный каземат. Концевые пулеметные и наблюдательные камеры представляли собой коробку с граненым потолком. В ней размещались наблюдатель и пулеметчики. Наблюдение велось через люки со смотровыми щелями. Два пулемета были установлены на специальных станках и имели угол обстрела 90 градусов в горизонтальной плоскости и 15–20 градусов в вертикальной. Здесь же размещались ящики с патронами. Над тележками располагались орудийные камеры, при этом вся орудийная установка размещалась на шкворневой балке в центре тележки.
Команда состояла из 120 солдат и 20 офицеров.
Бронепоезд был грозным оружием. Но из-за своей громоздкости и неповоротливости слишком уязвим для артиллерии противника.
* * *
Тусклый свет ламп накаливания слабо струился из-под толстых стеклянных плафонов. Все офицеры, за исключением дежурной смены, собрались в штаб-вагоне.
Полковник Гулыга откашлялся, хрипло и надсадно объявил:
– Я только что от командующего, господа офицеры. Должен сказать, что дела наши дрянь. Красные прорвали фронт, сегодня-завтра их конница будет здесь. Наша задача – выдвигаться в район станции Широкая.
Полковник ткнул в карту огрызком карандаша:
– Мы должны максимально задержать продвижение красных войск. Выступаем через час, прошу вопросы.
Офицеры молчали, все уже было давно обговорено. Приказа выступать ждали еще несколько дней назад. Полковник Гулыга помолчал, вздохнул:
– Благодарю вас, господа офицеры!
Совсем неожиданно перекрестил офицеров широким размашистым крестом, после чего трубно высморкался в большой клетчатый платок.
– По местам, господа офицеры.
Ночью, не доезжая до станции Широкая, бронепоезд уткнулся в завал из шпал и камней. Рельсы впереди были разобраны и сброшены под откос. Раздались звуки винтовочных выстрелов. Послышались крики, громкие команды.
Ремонтная бригада бронепоезда, пытавшаяся восстановить железнодорожное полотно, сразу же легла под кинжальным пулеметным огнем.
Красные выкатили две батареи.
– Первое орудие, бронебойным, два патрона. Огонь! Второе орудие… Третье… Четвертое!
Артиллеристы красных работали как заводные. Заряжали, наводили, несколько секунд ожидания… Выстрел. Недолет. Второй. Перелет!.. Поправили прицел, задвинули затвор, вновь короткий миг ожидания. Выстрел! Взрыв почти под самым полотном, под колесами ведущего паровоза. Башни бронепоезда тоже ощетинились орудийными выстрелами и пулеметными очередями. В сторону красных ударили взрывы шрапнели. Крики раненых, ржание лошадей. Бронепоезд дал задний ход. Но снаряды красных уже разорвали железнодорожное полотно. Взрывом разметало мосточек, расшвыряло шпалы на пятьдесят саженей вокруг, вырвало длинные стальные рельсы и загнуло их к небу. Следующие снаряды задели бронеплощадку. Огонь, удар, дым, радостные крики красных. Вздымались вверх доски, какие-то бочки, тележные колеса, летели куски человеческих тел.
Уже несколько часов длилась дуэль между бронепоездом и красной артиллерией. Была разбита средняя площадка. Сорвало головную башню. На бронепоезде начался пожар. К железнодорожному полотну двигались пехотные колонны, разворачивались в атакующие цепи. Бронепоезд начал дымиться. Его пушки замолчали.
Муренцов сбросил офицерский китель и, оставшись в белой бязевой рубашке, засел за пулемет, выцеливая на мушку мелькающие тени, разрезая длинными очередями поднимающиеся серые цепи. Красные залегли вокруг бронепоезда, поливая серо-зеленую броню струями свинца.
Штабс-капитан Шанцев окровавленным лицом уткнулся в смотровую щель, Вилесов, бледнея и покрываясь последней, холодной испариной, пускал ртом пузыри крови. Какой-то бородатый казак, совершенно неузнаваемый в темноте, неуклюже завалился на спину и со смертельным ужасом в глазах таращился на темное пятно крови, расползающееся по его гимнастерке.
Муренцов слился с пулеметом и стрелял, стрелял, едва успевая вытирать мокрое от пота лицо серым от копоти и грязи рукавом нательной рубашки. Грохот орудий сливался с пулеметными очередями, звоном падающих в кожаный мешок стреляных гильз, визгом отскакивающих от бронекорпуса пуль и осколков. Дым, пороховая гарь. Раскаленный пулемет выплюнул последнюю ленту и сердито замолк. Оглохший от грохота поручик увидел, что оставшиеся в живых разбирают винтовки и гранаты.
Молоденький прапорщик закричал ему в ухо:
– Полковник приказал покинуть бронепоезд, будем прорываться в темноте!
Муренцов схватил винтовку, лязгнул затвором, досылая патрон в патронник. Несколько десятков оставшихся в живых выскользнули в приоткрытые двери на холодную осеннюю землю. Темнело. Впереди, у линии горизонта, там, где кончается степь, розовела половинка мутного от пыли и дыма солнца. Далекий гул, запах пороха, тротила и страха.
Красные цепи молчали. Муренцов полз, вжимаясь всем телом в жесткую мокрую траву, слыша рядом хриплое дыхание. По цепи передали:
– Изготовьсь!
Муренцов подтянул поближе винтовку.
Впереди, в темноте виднелся земляной бруствер траншеи. За ним прятались красноармейцы.
Приготовились к рывку вперед.
– Ура-аааа!..
В это время раздался оглушительный взрыв, полковник Гулыга взорвал бронепоезд. Муренцов не услышал удара и не почувствовал боли. Ночь окрасилась яркой вспышкой, ноги его подломились, и он упал лицом в холодную мокрую землю.
* * *
Утром следующего дня путевые рабочие и красноармейцы восстанавливали железнодорожное полотно. Шустрый чумазый паровозик утащил на станцию останки бронепоезда. От взрыва пострадали всего лишь три платформы, покореженные и обожженные, они валялись под откосом железнодорожного полотна. Пленных не было. Раненых и оставшихся в живых бойцы интернациональной бригады добили штыками и шашками.
Ближе к вечеру казаки с окрестных хуторов на подводах направились к месту боя в надежде разжиться тем, что не успели подобрать красные, и по христианскому обычаю похоронить убитых. Над холодной степью кружилось воронье. Окровавленные тела без сапог и обмундирования лежали перед насыпью железнодорожного полотна. Около десяти человек лежали друг на друге, как порубленные деревья. Их постреляли из винтовок, перекололи штыками. С простреленной головой лежал безусый прапорщик.
Прохор Косоногов походя успел заметить тускло блеснувший на солнце четырехгранный штык. Вырвал клок сухой пожухлой травы, присыпанной снегом, вытер штык и сунул его в телегу, под дерюжку. Бросив подводу, Прохор переходил от тела к телу, истово крестился, глядя на лица убитых, на каркающее воронье. Какая-то неведомая сила притягивала его взор и заставляла с каким-то болезненным любопытством всматриваться в искореженные смертельной мукой лица, ища на них какие-то неведомые знаки.
Запряженная в телегу лошадь, чуя запах свежей крови, беспокойно прядала ушами и фыркала ноздрями.
Восьмилетний Мишутка держал ее под уздцы, уткнувшись головой в бархатные лошадиные ноздри. На его ресницах дрожала прозрачная слеза. Внезапно Прохор упал на колени и заросшим седым волосом ухом припал к серой от пыли и грязи груди лежащего человека. Легкий ветерок слегка шевелил грязные лохмотья бязевой рубашки, и под кровавым пятном на рубашке старик услышал слабые удары сердца:
– Тук-тук… тук-тук-тук.
– Внучек, внучек!
Старик замахал руками.
– Скорее, давай сюда подводу, один, кажись, еще живой!
Лошадь не шла. Закусив от напряжения губу, мальчик вместе с дедом на руках перетащили обмякшее безвольное тело в телегу, подложив под голову смятую тряпку.
– Но-о-оооо! – закричал старик.
Всхрапывая и кося испуганным взглядом, лошадь понеслась к станице, прочь от запаха смерти и мертвых тел.
* * *
Пришла весна 1919 года. На Верхнем Дону в степи дружно таял снег, обнажая проплешины сухих проталин. В воздухе стоял пьянящий аромат талого снега, конского навоза, горьковатый запах дыма из кузнечного горна. Муренцов почти поправился, но на баз старался выходить затемно, чтобы не встречаться с чужаками. Ждал случая, чтобы вернуться домой, в Москву. Поздним вечером он накинул на плечи тулуп из овчины и вышел во двор раздышаться. Облокотившись на приклеток амбара, он курил, вслушиваясь в собачий брех, и не заметил, как у плетня появилось усмешливое лицо соседа Степана Чекунова.
– Здорово вечерел, ваше благородие.
– Слава Богу, Степан Алексеевич. И тебе не хворать. Что нового в большом мире?
Сосед остановился рядом, сильно затянулся ядреным самосадом, закашлялся и с ненавистью выговорил по складам:
– Граж-ду-пра!
Муренцов поперхнулся:
– Алексеич, ты где слово такое услышал?
– Сегодня утром ревкомовцев возил в город, ну и по дороге слышал гутор ихний. Гутарили, что большевики на Дону создали эту самую, граж-ду-пру. А она новый декрет объявила, что, дескать, прежнее правление на Дону отменяется. Станишникам теперь лампасы запретят, бабы будут общие, а станицы наши в честь большевиков переименуют. Назовут их Ленинская да Троцкая. Не будет теперь станиц и хуторов. Села и деревни теперича будут.
Помолчали. Муренцов мысленно переваривал услышанное.
– Твой старик-то дома? Ты ему передай, что ревкомовцы грозились по ночи всех ахвицеров заарестовать, так что вы с Прохором поостереглись бы.
Муренцов затоптал окурок.
– Ну, прощевай, сосед, благодарю за новости.
Вбежал в хату.
– Дедуня, беда. Уходить мне надо. Ночью ревкомовцы придут. Если меня найдут, и тебя со старухой и внуком по головке не погладят.
Старуха с внуком лежали на печи. Старик ковырял шилом старое седло, протягивая дратву через кожу.
– Погодь трохи, вашбродь. Не шебурши. Куда ты по ночи, зимой да пеши? Коня я тебе не дам. Где я потом коника искать буду? А он мне самому нужен, через пару месяцев сеять. Дай покумекать. А ты збирайся пока. Старуха, ну-ка собери нам харчей в дорогу.
Пока жена укладывала в котомку сало, кусок вареного мяса, старик убрал седло. Вздохнув, достал из сундука шаровары с лампасами, натянул на себя тулупчик.
– Вот что, Сергеич, давненько я у односума своего, Петра Шныченкова, на хуторе не был. Нехорошо это – старых товарищев забывать, сейчас жеребчика запрягу, да поедем.
Уже одетый и подпоясанный Муренцов впился в него взглядом, нервно подергивая ногой.
Они вышли на баз. Неожиданно пошел снег. Крупные снежинки падали на застарелый потемневший снег, таяли на изгороди и крышах. Стояла тишина. Черная ночь вороным крылом накрыла станицу, мерцали лишь одинокие холодные звезды, да обкусанный по краям месяц бодливо показывал рожки. Крыши куреней и сараев были покрыты снегом, плетни и деревья стояли в белой опуши инея. Хрустко поскрипывал под ногами снег.
Прохор вывел жеребца из денника и надел на него сбрую. Хомут лег ему на плечи свинцовым грузом, и Буян заржал недовольно, горестно задирая вверх свою голову.
Прохор замахнулся на него кнутом.
– Тише ты, аспид чертов, коммуняк разбудишь.
Жеребец перебирал копытами, недовольно всхрапывая.
Прохор принялся затягивать супонь. Потом сходил в сарай, принес укороченный карабин, завернутый в мешковину. Положил в розвальни. Притрусил его соломкой. На молчаливый вопрос Муренцова бормотнул:
– Так мягшее… да и ружьишко не повредит в дороге, вдруг волки… Но-ооо! Пошел родимый.
Вожжи хлестанули коня по спине. Жеребец рванул вперед. Легкие сани летели по насту, почти не касаясь земли. Муренцов лежал пластом, ухватившись руками за облучок. В степи было тихо и морозно. Тишину нарушал лишь скрип полозьев да перестук лошадиных копыт. Одинокие стебли полыни раскосмаченно кланялись путникам в зыбком лунном свете. В низине, где снега навалило поболе, конь начинал задышливо хекать, сани вязли в снегу. Трещал сухой кустарник под копытами.
Прохор размахивал вожжами, кричал:
– Но-оооо, милай! Вывози, родимый!
Конь напрягался, фыркал гневно и, вытянув сани, самостоятельно переходил на легкий бег. Тень от саней, хомута, несущегося вперед коня с клубами вырывающегося из его ноздрей убаюкивала Муренцова, гнала прочь мысли о войне и смерти.
Прямо на берегу Дона расположилось несколько саманных куреней, покрытых камышом. Чуть поодаль располагался дом, построенный из сосновых брусьев, с крышей, покрытой железом. Именно к нему Прохор и направил коня. Муренцову был виден застывший Дон, подвывал ветер. Буян сам остановился у знакомых ворот. Залаяли собаки.
Через несколько минут из ворот, накинув на плечи полушубок, вышел чубатый казак, односум Прохора. Зорко вглядываясь в сидевших людей, он подошел к саням, обнял Прохора, протянул Муренцову сухую, провонявшую лошадиным потом и ружейным маслом ладонь.
– Никак вашбродь с тобой, Прохор?
– Ну да, Петро, это тот самый, кого я от краснюков спас, а старуха моя выходила отварами. Не бросать же его большакам на расправу!
– Оно, конешно, бросать негоже. Сюда они не сунутся, а если и сунутся, то укорот враз получат. Ну, пойдем с нами. У нас тесновато, но в тесноте, не в обиде, даст Бог, разместимся. – И пошел открыть ворота.
В просторном дворе располагалось несколько строений – саманная конюшня, загон для свиней, несколько сараев, амбар. Привязанные к коновязи стояли кони. В углу двора снег алел красными пятнами. Валялись ошметки обгоревшей соломы. Пахло паленой щетиной.
Прохор крякнул:
– Вовремя поспели. Кабанчика забили.
Муренцов вслед за Прохором и хозяином вошел в натопленную комнату. На стенах висели зеркало, семейные фотографии, портреты царей, репродукции из журналов. Топилась печь. Хозяйка жарила мясо на огромной сковородке.
На полу вповалку лежали и сидели казаки. Кто-то чистил оружие, ведя меж собой неспешный разговор, несколько человек спали, с головой укрывшись шинелями и тулупчиками.
– Доброго здоровьица, станишники. Хлеб-соль!
При виде гостей все замолчали, нестройно и коротко ответив на приветствие.
Прохор крякнул:
– Эх, Петро, Петро, что же ты службу плохо правишь? Мало я тебя под шашку ставил. Разве ж можно без охранения? А если бы ревкомовцы с ружьями и пулеметами нагрянули?
Петр захохотал:
– Хватился старик! Уже четверть часа, как соседский хлопчик верхи прибежал. Говорит, едет дядька Прохор и с ним чужой, городского обличья, вроде как из ахвицеров.
– Ну и слава богу, – подобрел Прохор. – Ты распорядись, Петро, нехай моего жеребчика распрягут да сенца ему положуть!
Шныченков вышел.
Хозяйка, метя по полу юбками, принесла с кухни шкворчащую сковородку с мясом. Поставила на чисто вымытые доски кухонного стола. Казаки, крестясь, потянулись к столу.
На крыльце затопали сапоги, заскрипела дверь, и в прихожую вошли еще несколько человек. Все они молча развязывали окоченевшими пальцами башлыки, снимали шинели и полушубки.
Хозяйка, недовольная было непрошеными гостями, хотела что-то сказать, зыркнула глазами, но тут же осеклась, спустилась в погреб и принесла оттуда большую миску квашеной хрустящей капусты, огурчики, моченые арбузы. Пока все здоровались да крутили цигарки, покрошила в капусту лучок, полила постным маслом. Придвинули еще один стол, на крайние табуретки положили доски. Слава Богу, разместились все. Оголодавшие казаки навалились на картошку со свежей убоиной в семейной сковородище, размерами схожей с ушатом. И пока хозяйка хлопотала с самоваром, завели неспешные разговоры о прошлой службе, о войне да предстоящем севе.
Слегка разморенный теплом и сытным ужином Муренцов смотрел на казаков растроганными глазами, думая о своем: «Вот на таких и держится Россия. Жива будет Отчизна, пока живы казаки».
Прохор засобирался домой. Расставаясь, сунул Муренцову свой карабин.
– Прощевай, Сергеич! Даст Бог, свидимся.
Муренцову на полу в горнице, возле лежанки, постелили шубу. Он скинул сапоги и, не раздеваясь, рухнул спать. Уснул сразу, едва лишь щека коснулась прохладной, пахнущей свежестью наволочки.
Ночью Муренцов проснулся от сильного храпа. В комнате пахло мокрой овчиной, табаком и жарко натопленной печью. Внезапно храп оборвался. Человек зачмокал губами, забормотал и начал кашлять. Откашлявшись, плюнул и снова захрапел.
В едва забрезжившем утреннем свете, сквозь длинное и узкое окошко с частым переплетом, Муренцов видел молодой месяц с рожками. И захолонуло, сжалось от внезапной тревоги сердце. Что с нами со всеми будет завтра?
Утром Петр дал ему каурого жеребчика вместе с седлом. Сказал:
– Звиняй, Сергеич, шашки лишней нема. В бою добудешь. Думаю, что уже скоро. Не сегодня, завтра схлестнемся с краснюками!
* * *
11 марта 1919 года на Верхнем Дону началось восстание казачества против большевиков.
Ровно в полдень на хутор прискакал верховой. Где-то вдалеке сухо трещали выстрелы, ухало орудие. Все казаки, находящиеся в доме, высыпали во двор. Верховой, перегнувшись через луку седла, что-то бросил Петру. Тот побледнел, выплюнул папироску, закричал, багровея лицом:
– Седла-а-ааать! Выступаем!
По двору забегали люди. Петр Чекунов уже сидел в седле, конь под ним прядал ушами, нервно перебирал копытами. Хищно щерясь щербатым ртом, Петр бросил Муренцову:
– Пойдем на соседний хутор. Там зазноба Мишки Парамонова, главного ревкомовца, проживает. Наверняка и он там. Пошшупаем его за кадык!
Отряд строился на улице, человек пятнадцать верховых, неполный взвод. Колонной, на рысях, двинулись на спуск к Дону.
Казаки проскакали по улице хутора. Муренцов и Петр спешились, привязали лошадей к стоящему дереву. Пригибаясь, направились вдоль плетня во двор к Парамоновым. Шедший впереди Петр первый вошел на парамоновский баз. Дзынькнуло оконное стекло, негромко хлопнул револьверный выстрел. Пуля попала Шныченкову в правую руку. Он выронил винтовку и, перекосившись на правый бок, отскочил к амбару.
– Сергеич, в сенях он. Я отвлеку его зараз, а ты сзади зайди, со стороны сада! – закричал он громким шепотом, неловко шаря левой рукой по поясу и пытаясь расстегнуть кобуру нагана.
Муренцов, задержавшийся за воротами, пробежал вдоль плетня и перемахнул в сад. Темнели окна дома. Во дворе трещали револьверные и винтовочные выстрелы. Прикладом карабина выбил стекло, опасаясь порезать лицо, поднял воротник полушубка и бросился в окно. Ему показалось, что в комнате кто-то есть, мелькнула и осталась в памяти разобранная кровать, скомканное ватное одеяло.
Парамонов встретил его в коридоре в расхристанной, мокрой от пота рубахе. Револьвера в руках уже не было, кончились патроны, понял Муренцов.
В руках у Мишки была обнаженная шашка. Ее жало смотрело в пол и походило на змею, готовую ужалить смертельно.
Распаленный страхом смерти Парамонов заревел:
– Убью! – И занес шашку.
– Стреляй! – крикнул мелькнувший в дверном проеме Шныченков.
Грохнул выстрел. В комнате кисло запахло сгоревшим порохом. Мишка подломил колени и рухнул лицом вниз. На его спине расплылось кровавое пятно.
– Везунчик ты, Сергей Сергеич. Думал, убьет он тебя…
Петр поднял с пола шашку.
– Ну вот, господин поручик, тебе и сабелька. Добрая шашка.
На улице уже ржали кони, раздавались громкие голоса, бряцало оружие. То подоспели казаки. Петр, глядя на окровавленное тело, распластавшееся в комнате, распорядился:
– Это дерьмо вытащить на баз, пусть его собаки гложут.
Кто-то из казаков, разорвав на полосы чистую простыню, уже бинтовал ему руку. Морщась от боли, Петр приказал:
– Пошукайте по комнатам, хлопцы, где-то тут его волчица ховается.
Через несколько минут раздался плач, крики. Казаки за волосы приволокли рыдающую женщину из спальни. Муренцов успел охватить взглядом ее фигуру, крепкую грудь, задницу, обтянутую ночной сорочкой.
– А что, хлопцы, может быть, отхарим эту ревкомовскую проблядь со всей нашей казачьей удалью? – обрадованно закричал Петр. – А?.. Чего молчите?
Муренцов понял, что Петро не шутит. Понял и то, что мысль пришлась всем по душе. Сжав в руке рукоять шашки, он рванулся навстречу и наткнулся на волчий тяжелый взгляд Петра. Ствол револьвера смотрел ему в живот. Тяжело роняя слова, словно кидая в прибрежную воду камни, Шныченков выдавил:
– Ты погодь, вашбродь… соваться не в свое… дело. Погодь… трохи.
Беспричинно свирепея и кривя рот, закричал:
– А они нас жалкуют? Детишков да баб наших, которые после власти их безбожной без кормильцев остались?
Рванул рукой ворот ее ночнушки так, что разорвал рубашку до самого подола, и Муренцов увидел, как курчавятся ее сухие и жесткие волосы под мышкой.
Петро повернулся к казакам и, недобро улыбаясь, попросил:
– Вы, хлопцы, загните ее раком и придержите слегка, чтобы раненую руку мне не задела, а то брыкаться еще начнет. Так мне приятнее будет, а ей, гниде, обиднее переживать свое падение.
Побагровев лицом, Муренцов сгорбился и, подняв воротник полушубка, вышел во двор, в сердцах хлопнув дверью.
Наутро конный отряд двинулся в станицу Вешенскую, где располагался штаб восстания. Казаки спешили.
Лошади, от которых валил пар, безостановочно шли крупной рысью. По дороге встречали казаков. Попалось несколько небольших вооруженных отрядов, двигавшихся в ту же сторону.
* * *
Выступление казаков Верхнего Дона совпало с выступлением Добровольческой армии генерала Деникина на Кубани и успехами армии Колчака, продвинувшегося с Урала до средней Волги.
В первой декаде июня 1919 года конница генерала Секретева, усиленная пятью десятками станковых пулеметов Максима и таща за собой конные орудия, сокрушительным ударом прорвала линию обороны красных вблизи станицы Усть-Белокалитвенской, двинулась в сторону станицы Казанской.
Офицерский разъезд 8-й Донской конной бригады двинулся к Дону. Пересмеиваясь и переговариваясь, офицеры шли рысью. За их спинами у линии горизонта медленно оседало солнце. Терпко пахло полынью, горьким конским потом.
Командовавший разъездом штабс-ротмистр Половков, оглянувшись, заметил в стороне стоящего на задних лапках сурка. Тот, вытягивая шею, поглядывал на конных, жалостливо посвистывая.
Уже темнело, когда разъезд наткнулся на вооруженных людей. Завидя конный отряд, те прыснули в разные стороны, но Половков, сорвав с плеча винтовку и изготовившись для стрельбы, зычно крикнул:
– Стоять, канальи!
Люди остановились, стали возвращаться, опасливо поглядывая на верховых. Офицеры спешились, с любопытством посматривали на оборванных небритых казаков. Штабс-ротмистр достал из кармана френча серебряный портсигар. Неторопливо размял папиросу, продул мундштук. Спросил хрипло:
– Кто такие?
Молодые казаки оробело смотрели на чисто выбритых офицеров, ладно пригнанное обмундирование. Ответил стоявший ближе всех урядник, в накинутой на плечи старой прожженной шинели, разбитых сапогах.
– Разрешите доложить, вашбродь. Полевой караул хутора Варваринский.
Половков чиркнул спичкой. Спросил с ехидным вызовом:
– Ну-с, станичники! И чего же побежали, как зайцы?
– Молодежь, вашбродь. Необстрелянные ишшо. Думали, красные.
Штаб-ротмистр продолжал издевательски отчитывать:
– Ну а сам-то? Ты-то стреляный заяц!
Урядник вздохнул виновато.
– В том-то дело, господин ротмистр, что стрелянный. Потому и помирать неохота.
Половков затоптал папироску, сплюнул, косолапо загребая, пошел к лошадям. Вскочив на коня, перегнулся через луку седла к уряднику.
– Ваш караул снимаю. Через час здесь будут уже наши части. Предупредите своих командиров, пусть готовятся к встрече, и не дай бог, кто сдуру выстрелит. Все. Исполняйте. Бегом марш!
Ударил коня каблуками, тот зло оскалился, прыгнул вперед. Следом наметом рванули другие.
Казаки нестройной толпой двинулись к хутору. Один из них, постарше, сказал огорченно:
– Хоть бы закурить предложил вашбродь. Папиросы-то какие были духовитые!
Урядник сплюнул.
– С какого хрена он с тобой курить будет? Ты ему кто? Ровня? Насмотрелся я на них, на позициях. Белая кость. Правильно делают большаки, что к стенке их ставят.
Помолчал. Потом выругался зло.
– Хотя какая нам разница, белые… красные!.. Х…р на х…р менять – только время терять!
* * *
Ставка Деникина размещалась в Таганроге. Генерал Краснов, к тому времени разругавшись с командованием Добровольческой армии, подал в отставку и отбыл с Дона в Эстонию к Юденичу, а позднее – в Германию. Обстановка складывалась в пользу Добровольческой армии, которая на тот момент составляла 100 тысяч штыков и сабель.
В июле 1919 года генерал Антон Иванович Деникин издал директиву о наступлении на Москву. Однако сил для развития успеха у него не хватило, и совместный поход «добровольцев» и казаков на Москву в 1919 году закончился провалом. Большевики собрали все силы на юге и нанесли удар.
Добровольческая армия, лишенная какой-либо поддержки, не имеющая ни тыла, ни флангов, с тянущимся за собой хвостом обоза и свирепо ненавидимая мужицким населением, как гонимый охотничьими собаками дикий зверь, тяжело отходила на юг.
К концу декабря 1919 года части Добровольческой армии подошли к Дону. Зима выдалась холодная, и Дон к этому времени крепко замерз. Перейдя реку, потрепанные остатки дивизий заняли фронт от Азовского моря до Ростова и Нахичевани. Конная бригада генерала Барбовича подошла к Ростову последней. Город и мост были уже заняты красными. Отбив несколько атак, бригада к вечеру со всей своей артиллерией перешла Дон прямо по льду. За два дня до этого из Ростова ушел в Азовское море ледокол, проломавший открытую полосу в середине реки, но через несколько часов она вновь замерзла.
Бывший полковник Генерального штаба Василий Иванович Шорин, командовавший у красных Юго-Восточным фронтом, отдал приказ командарму Первой конной армии Буденному немедленно форсировать Дон. Красные части должны были захватить Батайск и ударить встык между добровольцами и казаками.
Условия местности и погода благоприятствовали красным. Красная лава налетела на еще не успевшие развернуться резервные порядки армии Деникина, разметала их, и вся эта масса перемешавшихся всадников, пулеметных тачанок и орудий неудержимо понеслась, коля и рубя друг друга.
Двинувшаяся на перехват красным частям донская конница попала в метель. Под Торговой множество людей обморозилось, донцы были разбиты и разметаны по степи.
За ночь метель улеглась, и 6 января с утра стояла тихая, морозная и ясная погода. Главные силы Буденного, 4-я и 11-я кавалерийская дивизии и части 6-й, начали с рассветом переход по Нахичеванской переправе. Первые сведения об этом поступили в 7 часов утра от конных разведчиков.
Атакующим полкам представилась незабываемая картина: совершенно ровная, гладкая как стол и покрытая девственно белым снегом широкая, искрящаяся на солнце степь с торчащими невысокими курганами. Отступающие редкие цепи донцов и кубанцев, а у них на плечах густая серо-зеленая лава красных с плюющимися огнем пулеметными тачанками. За лавой двигались несколько квадратов резервных бригад. Между ними и на флангах – снимающиеся с передков на открытой позиции. Основную массу белой конницы составляли казаки-донцы и кубанцы.
Были терские казаки, немного лучше сохранившиеся, под командой генерала Агоева. Но их было немного, примерно 2000–2500 шашек. Были вполне стойкие калмыки, но их было совсем мало, всего лишь несколько сотен. Всего было собрано от 15 до 18 тысяч клинков.
Грозная сила, если бы казаки были прежние. Но казаки уже не хотели драться. Они были в плохом состоянии, многие обморожены. Донцы деморализованы потерей своей территории и были небоеспособны. Они потеряли дисциплину, бросали пики и винтовки, чтобы их не посылали в бой. Исполняли приказы нехотя и фактически уже закончили воевать.
Кубанцы были сплочены, собирали кинутое донцами оружие. У каждого за плечами были две, иногда три винтовки. Но и они не желали драться с красными. Они тоже стремились домой и были настроены далеко не воинственно. Кони изнурены большими переходами и еле шли.
Белая армия, теряя силы и возможность к сопротивлению, отступала на Кубань, ища рубеж, где можно было произвести перегруппировку, привести себя в порядок и подготовиться к новым операциям. Но не было больше никаких операций…
* * *
В одном из последних боев под Новороссийском Муренцов был ранен в грудь.
Раненые сидели и лежали на полу, на лестнице в помещении женской гимназии. Тут же лежали умирающие. Санитары спотыкались о людские тела, их ноги скользили на мокром от крови полу. В воздухе стоял тяжелый запах лекарств, крови, пота. Муренцов метался в бреду, и рука его ощущала позывную, тягучую тяжесть занесенного над головой клинка. Перехваченное горло хрипело, конь стлался в бешеном намете. Приходя в сознание, Муренцов застонал. И тут же почувствовал у себя на лбу прохладную ладонь.
– Лежите… Лежите, господин поручик. Вам нельзя шевелиться.
Он открыл глаза.
– Кто вы?
– Я – сестра милосердия. Мария Ивановна Шехматова. Маша.
На косынке проходившей мимо молодой женщины вышит красный крест.
– Маша…
И снова потерял сознание.
А потом было выздоровление, почти месяц счастливой жизни с Машей и отступление с полком.
Донская и Кубанская армии, почти полностью деморализованные, отходили в беспорядке. Оборону держали только остатки Добровольческой армии, к тому моменту сведенные в Добровольческий корпус, но и они с трудом сдерживали натиск РККА.
У Муренцова было мрачно и душно на душе, словно в могиле. Болело сердце. С тоской он думал о том, что от полутора тысяч человек, с кем вместе вышли из Ростова, едва осталась рота. Все было кончено. Россия погибала. Населенные пункты обезлюдели. В деревнях и станицах стояла кладбищенская тишина. Зияли выбитыми стеклами обветшалые хаты. Чернели пятна забитых досками дверей. И только кресты, словно умоляя, тянули вслед отступающим полкам деревянные перекладины рук.