Текст книги "Исаак Левитан"
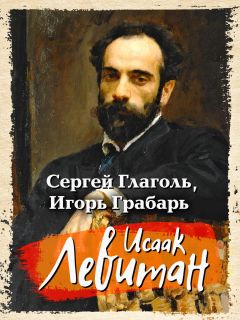
Автор книги: Сергей Глаголь
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
«Невольно заговорил Левитан об этой красоте, о том, что ей можно молиться как Богу, и просить у нее вдохновения, веры в себя, и долго волновала нас эта тема. В Левитане точно произошел какой-то перелом, и когда мы вернулись к себе, он был уже другим человеком. Еще раз обернулся он к серевшему в сумерках монастырю и задумчиво сказал: «Да, я верю, что это даст мне когда-нибудь большую картину».
«Ничего подобного, однако, он тогда не начал, а мы со Степановым не хотели об этом заговаривать и не напоминали Левитану об его мрачных думах»…
Прошло два года. Левитан поехал из Плеса в Юрьевец, в надежде найти там новые мотивы и, бродя по окрестностям, вдруг наткнулся на находящийся в рощице монастырек. Он был некрасив и даже неприятен по краскам, но был такой же вечер, как тогда в Саввине; утлые лавы, перекинутые через речку, соединяли тихую обитель с бурным морем жизни, и в голове Левитана вдруг создалась одна из лучших его картин, в которой слились воедино и Саввинские переживания, и вновь увиденное, и сотни других воспоминаний. Сам Левитан очень любил эту дивную картину и вскоре даже написал ее повторение. Эта последняя картина называлась «Вечерний звон».
«Другая картина – «Золотой Плес» была написана примерно тогда же при довольно необычайных условиях. Судьбе угодно было впутать нас в семейную драму одной симпатичной женщины-старообрядки. Мятущаяся ее душа изнывала под гнетом тяжелой семейной жизни и, случайно, познакомившись с нами, она нашла в нас отклик многому из того, что бередило ее душу. Невольно мы очень сдружились и, когда у этой женщины созрело решение уйти из семьи, нам пришлось целыми часами обсуждать с ней разные подробности, как это сделать. Видеться приходилось тайком, по вечерам, и вот, бывало, я брожу с ней в подгородной рощице, а Левитан стережет нас на пригорке, и в то же время любуется тихой зарей, догорающей над городком. Здесь подметил он и мотив «Золотого Плеса», который потом каждое утро стал писать, пополняя запас впечатлений своими наблюдениями по вечерам.
«Расскажу еще кое-что, относящееся к другим картинам Левитана: «Владимирке», «Омуту» и «Вечному покою».
«Владимирка» была написана уже не в Плесе, а близ городка Владимирской губернии и имения Болдино, где мы с Левитаном тоже провели одно лето.
«Однажды, возвращаясь с охоты, мы с Левитаном, вышли на старое Владимирское шоссе. Картина была полна удивительной тихой прелести. Длинное полотно дороги белеющею полосой убегало среди перелесков в синюю даль. Вдали на ней виднелись две фигурки богомолок, а старый покосившийся голубец со стертою дождями иконкой говорил о давно забытой старине. Все выглядело таким ласковым, уютным. И вдруг Левитан, вспомнил, что это за дорога…
Постойте. Да ведь это Владимирка, та самая Владимирка, по которой когда-то, звеня кандалами, прошло в Сибирь столько несчастного люда.
Спускается солнце за степи,
Вдали золотится ковыль
Колодников звонкие цепи
Взметают дорожную пыль…
И в тишине поэтичной картины стала чудиться нам глубокая затаенная грусть. Грустными стали казаться дремлющие перелески, грустным казалось и серое небо. Присев у подножья голубца, мы заговорили о том, какие тяжелые картины развертывались на этой дороге, как много скорбного передумано было здесь. На другой же день Левитан с большим холстом был на этом мосте, и в несколько сеансов написал всю картину прямо с натуры.
«Омут» был написан тоже в Тверской губернии в имении Панафидиных близ Затишья, в котором мы жили после Плеса. Этюд для этой картины Левитан сделал в Бернове, имении баронессы Вульф, на мельнице, куда мы ездили на пикник. Увидев Левитана за работой, баронесса подошла к нему и спросила:
– А знаете, какое интересное пишете вы место? Это оно вдохновило Пушкина на его «Русалку».
И затем она рассказала трагедию, связанную с этим омутом. У прадеда баронессы, человека крутого нрава, был молодой конюший. Юноша влюбился в дочь мельника, она от него забеременела, и об этом доложили барину. Барин разгневался и забрил конюшего в солдаты, а девушка утопилась в этом самом омуте. По словам баронессы, Пушкин не раз гостил в Бернове и соседнем имении, Малиннике, бывал на мельнице, здесь ему рассказали предание, связанное с омутом, и он написал «Русалку»…
Сделав маленький набросок, Левитан решил писать большой этюд с натуры, и целую неделю по утрам мы усаживались в тележку, Левитан на козлы, я на заднее сидение и везли огромный этюд, точно икону, на мельницу, а потом так же обратно. Затем, с моим отъездом в Москву, Панафидины предложили Левитану перебраться к ним в Покровское, и тут, в отведенном ему под мастерскую большом зале, он и написал свою картину…
«Картину «Над вечным покоем» Левитан написал уже позже, в лето, проведенное нами под Вышним Волочком, близ озера Удомли. Местность и вообще весь мотив целиком были взяты с натуры во время одной из наших поездок верхом. Только церковь была в натуре другая, некрасивая, и Левитан заменил ее уютной церквушкой из Плеса. Сделав небольшой набросок с натуры, Левитан сейчас же принялся за большую картину. Писал он ее с большим увлечением, всегда настаивал, чтобы я играла ему Бетховена и чаще всего Marche funebre. Вообще Левитан страстно любил музыку, чутко понимал ее красоту, и не раз проводили мы целые вечера за музыкой. Я играла, а он сидел на террасе, смотря на звезды и отдаваясь своим думам и мечтам. Особенно много провели мы таких вечеров в Покровском у Панафидиных (в Тверской губернии). Здесь иногда эти вечера окрашивались даже особым, каким-то мистическим тоном. В том же имении гостила Наталия Б., оригинальная в своих фантазиях молодая женщина. Когда я начинала играть, она, распустив свои пышные и длинные белокурые волосы, выходила на террасу, начинала кричать по совиному и делала это с таким совершенством, что через несколько минут настоящие совы начинали ей откликаться, слетались к дому и, рассевшись по деревьям у террасы, вторили музыке своим, криком, а Наташа, как ведунья, время от времени поддерживала их энергию своим криком. Получалось что-то совсем необычайное, и Левитан был в восторге, тем более, что к Наташе он был как будто не совсем равнодушен. Вообще много-много было пережито нами и переживалось все так поэтично, весело, под пение, музыку и ночные беседы, и споры об искусстве. Семья Панафидиных очень привязала к себе Левитана той бережностью и уважением, с которыми она относилась к художнику, и ко всему, его касавшемуся. За Левитаном ухаживал и заботился весь дом, куда летом съезжалось более 23-х человек родни. Все располагали свое время соответственно занятиям Левитана. Когда он работал, никого даже не было видно в нашем «Затишье». К вечеру же все оживало, все шло к нам, за нами. Зато праздники, наоборот, Левитан отдавал уже им целиком, посвящая их поездкам в соседние уголки и на поиск грибов, до чего Левитан тоже был страстный охотник. В благодарность за такое отношение, Левитан оставил Панафидным хорошую о себе память, написал отличный портрет во весь рост с Николая Павловича Панафидина, последнего из могикан, в смысле типа старого, благородного помещика, патриарха дворянского гнезда. Этот портрет всегда хотелось показать на выставках, но почему-то так и не удалось, а жаль, потому что у Левитана нередко появлялось стремление к портретам, и они иногда выходили интересно…
VI. Поездка в Финляндию и за границу
В период между 1890–1897 годами Левитан предпринял поездку в Финляндию и дважды съездил за границу, но как тут, так и там он почувствовал себя совершенно чужим. Из Финляндии он привез несколько этюдов. С одного из них написал «Остатки былого», а с других две или три марины, но ни этюды эти, ни картины ничего не прибавили к славе Левитана. Тоскливая природа Финляндии не только не разбудила в Левитане вдохновения, а наоборот, действовала на него удручающе.
«Видишь, дорогой Антон Павлович, – писал он Чехову, – куда занесла меня нелегкая. Вот уже три недели, как шляюсь по этой Чухляндии, меняя места в поисках сильных мотивов, и в результате – ничего, кроме тоски в кубе. Бог его знает, отчего это. Или моя восприимчивость художественная иссякла, или природа здесь не того. Охотно верю в последнее, ибо, поверив в первое, ничего не остается или остается одно – убрать себя, выйти в тираж. Итак, природа виновата. И в самом деле, здесь нет природы, а какая-то импотенция. Тоскую я несказанно, тоскую до черта. Этакое несчастье; всюду берешь с собой себя же. Хоть бы один день пробыть в одиночестве. Хотя знаешь, смертельно скучно все. Все до гнусности одно и то же…»
Из-за границы Левитан привез несколько прекрасных этюдов. Это были вещи, очень характерные для Левитана, которого и в вечных снегах Альпийских высот пленяла не чарующая игра солнца и не красота Alpenglühen'a и огни вечернего заката, а мрачная торжественность угрюмого облачного дня, одевающего седых великанов серым покровом туманов. Даже из Венеции Левитан привез только этюды тихих, задумчивых каналов, отражающих, грустное, серое небо. Под синим небом Ривьеры, среди впечатлений Италии, Левитан сначала как будто воскрес, но и то ненадолго. И эти повышенные настроения заканчиваются у него сознанием человеческого ничтожества. «Черт возьми, как хорошо здесь, – пишет он в одном из писем. Представьте себе теперь яркую зелень, голубое небо, да еще какое небо. Вчера вечером я взобрался на скалу и с вершины взглянул на море и, знаете ли, что, я заплакал и заплакал навзрыд. Вот где вечная красота, и вот где человек чувствует свое ничтожество…
Талант, Левитана был в это время на высоте своего развития, масса новых живописных впечатлений давала пищу для ряда новых очаровательных картин, а в настроении Левитана все тот же мрак, и письма его пестрят все теми же полными отчаяния строками. «Вновь я захандрил и захандрил без меры и границ, захандрил до одури и ужаса, – находим снова в его письме. – Если бы ты знал, как скверно теперь на душе! Тоска и уныние пронизали меня. Что делать? С каждым днем у меня все меньше и меньше воли сопротивляться мрачному настроению. Несмотря на свое состояние, я все время наблюдаю себя, и ясно вижу, что я разваливаюсь в конец. И надоел же я себе и как надоел!»
Искусство, с которым Левитан столкнулся в Европе, в галереях и на выставках, тоже не оказало на него заметного влияния. С Левитаном произошло то же, что было с целым рядом передвижников, начиная с Перова и кончая Репиным. Как они просмотрели зарождавшийся в то время во Франции импрессионизм и увлеклись академизмом Поля Делароша, так и Левитан даже не заинтересовался новыми течениями, которые в то время уже громко заставляли о себе говорить. Вот одно, очень характерное в этом смысле, письмо Левитана к Чехову из Парижа.
«Впечатлений чертова куча. Чудесного масса в искусстве и здесь, но также и масса крайне патологического, что, несомненно, должно было воплотиться от этой крайней пресыщенности, что чувствуется во всем. Отсюда и происходит, что французы восхищаются тем, что для здорового человека со здоровой головой и здоровым мышлением представляется безумием. Например, здесь есть художник Пювис де Шаванн, которому поклоняются и кого боготворят, а это такая мерзость, что трудно себе даже представить. Старые мастера трогательны до слез. Вот где величие духа. Сам Париж крайне красив, но черт его знает, к нему надо привыкнуть, а то как-то дико все»…
Левитан так же был отравлен со школьной скамьи узким натурализмом передвижничества, как и все тогдашнее русское искусство. Когда на одной из иностранных выставок, устроенных в Москве, появились известные «Стога сена» Клода Моне. Левитан с таким же враждебным недоумением встретил их, как и все старшее поколение русских реалистов, и Левитану нужно было пережить многое, прежде чем он смог взглянуть на искания импрессионизма и стоявшие рядом с ним течения настоящими глазами. Нужно было очень приучить глаз к непривычной живописи, знакомясь с ней по иностранным журналам, заезжавшим в Россию выставкам и завозимым в Москву картинам тогдашних новаторов живописи. И только десять лет спустя, в 1899 г., т. е. незадолго до смерти, Левитан, снова попав в Париж, пишет оттуда художнику Средину уже иное.
«Быть среди стоящих людей, да еще в Париже, городе, живущем сильной художественной жизнью – все. Тут то и есть центр тяжести всего блага работать в Париже. Заснуть нельзя здесь: мысль постоянно бодрствует, и художник растет. Одно то, что видите много прекрасного, уже рост понимания. Вы наслаждаетесь: Monet, Cazin, Besnard и т. п., а у нас: Маковский, Волков, Дубовской и т. п. Нет. Жить в Париже – благо для художника[8]8
Алекс. Ник. Бенуа, как в своей «Истории русской живописи», так и в позднее вышедшей «Русской школе живописи» ставит развитие таланта Левитана в зависимость от его поездки за границу и впечатлений всемирной выставки 1889 г., а 1891 год считает почти эпохой в развитии творчества художника. Только от этого года, по словам Бенуа, и с появления «Тихой обители» на передвижной выставке стало казаться точно сняли ставни с окон, точно раскрыли их настежь и струя свежего, душистого воздуха хлынула в спертый выставочный зал. Раньше же Левитан не отличался от других наших пейзажистов, от их общей серой и вялой массы. Едва ли все это так. В Третьяковской галерее выставлен «Туман», «На Волге» и «Осень» (мельница), отмеченные 1887 и 1888 годами, а к этим вещам едва ли можно отнести упрек в вялости и серости. Затем, представленные там же, два превосходных пейзажа: «После дождя» и «Вечер» были написаны в 1889 году и выставлены в 1890 г. на передвижной выставке. Следовательно, 1891 г. никакого перелома в творчестве Левитана не произвел. Да и вообще это творчество развивалось так постепенно и стройно, что никаких переломов в нем указать нельзя. Для тех, кто внимательно следил за развитием таланта Левитана, напротив было ясно, что поездка за границу очень мало на него повлияла. Правда влияние на Левитана Коро, Добиньи и других французских художников было очень велико, но познакомился с ними художник гораздо раньше своей поездки за границу по образцам, имевшимся в собрании Боткина и Третьякова в Москве.
[Закрыть]».
VII. Последние годы и смерть
В последние годы жизни Левитана автору этих строк не суждено было встречаться с близким ему некогда художником. Вот как рисуется эта эпоха в записках Василия Васильевич Переплетчикова.
«Последние три-четыре года жизнь Левитана протекала обычным порядком. Работал он аккуратно каждый день, часа два-три – не больше, завтракал, потом шел гулять на Кузнецкий мост или заходил к знакомым. Последний портрет, написанный Серовым по памяти после смерти Левитана, изображают его на прогулке именно в этот период жизни. В нем необыкновенно схвачена фигура Левитана, его движение и манера ходить. Иногда, когда он чувствовал себя плохо он садился у крыльца своей квартиры, во дворе, погреться на солнышке и поглядеть, как, играют дети. В это время он жил в Трехсвятительском переулке близ Мясницкой части, в доме Марии Федоровны Морозовой, в отдельном флигеле в глубине двора. Внизу были теплые комнаты, а наверху удобная мастерская, которую ему выстроил Сергей Тимофеевич Морозов, очень ценивший дарование Левитана. Квартира была тихая, очень уютная. В мастерской стояли фисгармония и пианино. В предпоследнее лето Левитан жил в Звенигородском уезде в имении того же Сергея Тимофеевича Морозова. Чувствовал он себя очень плохо и его часто преследовала мысль о скорой смерти. Как-то приехал я к нему. Пошли гулять. "He могу убивать теперь дичь, – сказал он вдруг. – Не хожу на охоту, видно смерть моя близка". Он упал на землю и долго-долго рыдал. Смертельный недуг, – болезнь сердца, подтачивала остатки его хрупкого организма. Иногда внезапно пробуждалась надежда на жизнь, и тогда он весь преображался и становился неузнаваем. Но надежда вскоре исчезала – снова вставала мысль о смерти, и минутная радость сменялась долгими днями уныния, тоски и отчаяния. Это было странное заболевание сердца, развившееся незаметно и для окружающих, и для самого художника, скорее всего, от какой-либо инфекции, на которую никто не обратил во время внимания. Припадки одышки и мучительных болей в области сердца с трудом поддавались лечению, как дома, так и за границей, заставляя художника очень страдать. Он чувствовал себя еще в расцвете художественных сил, понимал свое значение, а между тем, работать было все труднее и труднее. Это тем более тяготило его, что в 1895 г. он взял на себя пейзажный класс в училище Живописи в Москве и с увлечением отдался новому делу. «Сегодня буду в Питере, – пишет он, в одном из писем к Чехову, волнуюсь, как… (неразборчиво). Мои ученики дебютируют на передвижной. Больше чем за себя трепещу. Хоть и презираю мнение большинства, а жутко…»
Зимой 1899 г. врачи отправили Левитана в Ялту, и вот как передает свои впечатления от этой поездки Левитана Мария Павловна Чехова.
«Зимой, незадолго до смерти, Левитан был у нас в Крыму, в Ялте. Это была его последняя зима. Стояло Рождество, но было так тепло, что мы даже ходили без пальто. Солнце ярко сияло, и вся природа была такая странная, ликующая какой-то особой красотой. Левитану было очень плохо. Он задыхался. С трудом передвигаясь и опираясь на палку, он все-таки хотел непременно подняться в горы. «Мне так хочется туда, выше, где воздух легче, где легче можно дышать».
Но приходилось поминутно останавливаться, и Левитан сейчас же заговаривал о смерти.
«Maрия! Как не хочется умирать! Как страшно умирать и как болит сердце!».
Через несколько месяцев Левитана уже не стало. Он умер в Москве 22 июля 1900 г. В тишине поздних летних сумерек неподвижно лежало на кровати его исхудавшее тело. Вокруг дома, в котором была мастерская, во дворе росла густая сирень. Она была еще вся в цвету и удивительно благоухала, наполняя ароматом и мастерскую и комнату рядом, где лежал Левитан. Пышные груды лиловых цветов неподвижно смотрели в окно и безмолвно посылали художнику свое последнее прости… Простой красивый памятник из черного мрамора стоит под деревом на еврейском Дорогомиловском кладбище и указывает место, где Левитан похоронен.
VIII. Положение Левитана в современном ему искусстве и характер живописи Левитана
Левитан, как видно из фактов, приведенных выше, еще на школьной скамье занял среди своих товарищей очень выдающееся положение. Вещи его очень рано стали обращать на себя общее внимание на ученических выставках и скоро Левитан сталь желанным гостем и на единственной в то время в Москве Периодической выставке Общества любителей Художеств, которое, кроме того, несколько раз выдавало Левитану премии на своем ежегодном конкурсе картин. Тут же, в Обществе Любителей, на аукционе картин, перед Рождеством и Пасхой, стали появляться ежегодно и его превосходные этюды, и небольшие картинки Левитана, которые спускались за ничтожную сумму мелким московским коллекционерам и многочисленным поклонникам Левитана, едва доставляя ему возможность сводить концы с концами. В 1881 г., т. е. в год окончательного ухода из училища, Левитан послал первые свои вещи на ХII Передвижную выставку, но приняли молодого художника не особенно радушно, и только одна из картин «Вечер на пашне», попала на выставку. Она была очень оригинальна по мотиву. Картина изображала перспективу свежевспаханного поля, с поднимающимися из-за горизонта вечерними облаками. На их ярко горящих пятнах выделялся силуэт пахаря с его ночными спутниками – грачами. Холодный прием, оказанный передвижниками, несколько разочаровал Левитана. За последующие четыре года он послал, на Передвижную выставку лишь одну свою «Весну», и только с 1885 года становится постоянным участником Передвижных выставок, на которых и появляется затем длинный ряд превосходнейших его картин. Став членом товарищества, Левитан остался ему верным даже и тогда, когда возникла выставка «Мира Искусства», и к ней потянулось все, что было в русской живописи пишущего и молодого. Примкнув к кружку «Мира Искусства» и принимая деятельное участие в его выставках, Левитан в то же время не порывал связи с Товариществом и дал несколько картин на его выставку 1900 г. Неизвестно на чьей стороне остался бы Левитан в дальнейшем, но неожиданная смерть отняла его как у той, так и у другой выставки.
Одновременное участие на выставках двух враждебных художественных лагерей вызывало у товарищей Левитана чувство недовольства и даже обвинение в бесхарактерности и недостатке решительности там, где она была особенно нужна. Едва ли, однако, одной бесхарактерностью объясняется такое колебание Левитана в разрыве с Товариществом Передвижников.
Вполне сочувствуя миру Искусства, искренний художник не мог, однако, не видеть с одной стороны своей органической связи с передвижниками, а с другой – совершенно чуждого ему элемента модернизма, который все-таки очень ярко оттенил первую же выставку молодого течения.
Как никак, а Левитан не мог не сознавать себя прямым наследником Саврасова и Васильева. Между Левитаном и ими была такая же преемственная связь, как и между этими двумя художниками и Шишкиным, а затем между Шишкиным и теми наивными пейзажами, которые появлялись на фоне многих Венециановских картин. Ведь никто иной, как Венецианови осмелился впервые бесхитростно написать русский деревенский пейзаж. За ним еще смелее написал его Морозов в своем «Летнем дне» и, наконец, развернули его во всю ширь Шишкин и Клодт. Однако, и у них этот пейзаж был русским только по формам. В картинах Клодта была даже доля поэзии, но все-таки и тот и другой смотрели на русскую природу еще сквозь немецкие очки своих академических учителей. Недаром Дюссельдорфская академия с таким удовольствием повесила рисунки Шишкина рядом с лучшими работами своих учеников. Саврасов и отчасти Федор Васильев сумел взглянуть на родную природу мимо этих очков, но Васильев умер на 23 году жизни, не успев даже выразиться во всю свою величину, a Саврасов написал только «Грачей», после них не создал ничего выдающегося, и скоро совершенно погиб для искусства. Ближайшие товарищи Саврасова и другие передвижники благоговели перед его картиной, но идти за ним все-таки не смогли и шли за Шишкиным и Клодтом.
В конце семидесятых годов появляются намеки на возвращение к Саврасову. Появляется «Московский дворик» Поленова и его «Бабушкин сад», но только в Левитане у Саврасова находится настоящий преемник. Я говорю: преемник и подчеркиваю это слово, потому что опять-таки, повторяю, подражателем его Левитана никоим образом назвать нельзя. И продолжая начатое Шишкиным и Саврасовым Левитан так полно договорил все на этом пути, что его именем уже заканчивается течение реального русского пейзажа. На его пути уже трудно создать что-либо новое и такое, чтобы в нем не чувствовалось Левитана.
Что же, однако, отличало картины Левитана от произведений его сверстников, и что создавало ему среди них такое выдающееся положение? Определение этого очень трудно поддается словам. Прежде всего это была глубокая поэзия его картин, без малейшего оттенка той серости к которой так быстро свелись поэтичные мотивы у передвижников, в роде Ефима Волкова и некоторых других. Кроме того, это была чисто русская поэзия, прочувствованная настоящим русским сердцем, Левитан чутко схватывал ее и передавал в самых простых, заурядных мотивах, мимо которых раньше художник проходил совершенно равнодушно. Левитан точно сдергивал со всей русской природы пелену, скрывавшую от нас ее красоту и, отраженная в магическом зеркале его творчества, эта природа вставала перед нами как что-то новое и вместе с тем очень близкое нам, дорогое и родное. Задворки заурядной деревушки, группа кустов у ручья, две барки у берега широкой реки или группа пожелтевших осенних берез, – все превращалось под его кистью в полные поэтичные настроения картины и, смотря на них, мы чувствовали, что именно это все мы и видели всегда, но как-то не замечали. Увидав эти картины, мы узнавали в них те образы, которые неясно носились перед взором, когда поэт рисовал родную картину и говорил:
Вон вдали – соломой крытые избушки,
И бегут над ними тучи вперегонку
Из родного края в дальнюю сторонку.
Белые березы, жидкие осины,
Пашни да овраги – грустные картины;
Не пройдешь без думы без тяжелой мимо.
Что же к ним всё тянет так неодолимо?
Другая картина, и вы видите:
Как печально, как скоро померкла
На закате заря! Погляди:
Уж за ближней межою по жнивью
Ничего не видать впереди.
И ни звука! И сердце томится,
Непонятною грустью полно…
Оттого ль, что ночлег мой далеко,
Оттого ли, что в поле темно?
Оттого ли, что близкая осень
Веет чем-то знакомым, родным —
Молчаливою грустью деревни
И безлюдьем своим…
А рядом еще картина и
Теперь уж тишина другая:
Прислушайся – она растет,
А с нею, бледностью пугая,
И месяц медленно встает.
Все тени сделал он короче,
Прозрачный дым навел на лес
И вот уж смотрит прямо в очи
С туманной высоты небес.
И перебирая в памяти одну за другой картины Левитана, можно исписать стихами сотни страниц. Эту поэзию, эту красоту простого деревенского пейзажа Левитан чувствовал удивительно и, несмотря на еврейское происхождение Левитана, его по праву можно назвать одним из самых настоящих русских художников, настоящим поэтом русского пейзажа[9]9
Любопытно, что этот удивительный поэт русского пейзажа, даже достигнув большой известности все-таки постоянно терпел всевозможные неприятности из-за своей национальности. Однажды, в 1892 году во время гонения против евреев в Москве, Левитана чуть было не выселили из Москвы в 24 часа. Это было в сентябре. Левитан вернулся из Болдина полный самых радужных надежд, как вдруг д-р Кувшинников получает от знакомого пристава извещение, что Левитана приказано выселить. Волей-неволей пришлось спасаться бегством. В несколько часов Левитан собрался и уехал опять в Болдино. Кувшнниковы подняли на ноги всех, кого могли. Один из членов городской управы – Ногорнов устроил Левитану что-то с припиской его к Москве, заинтересован был в его участи правитель Канцелярии Великого князя Истомин, пущены были в ход все связи в СПб, но, несмотря на все то, до января Левитан все-таки не смел приехать в Москву, и друзья его с часу на час ждали что получится на все отказ и придется разорять мастерскую, упаковывать картины и вывозить неизвестно куда.
[Закрыть]. Поэзию этого пейзажа он чувствовал во много раз сильнее и ярче целых десятков других художников с самыми русскими фамилиями. Известно, что многие даже искренне сомневались в его еврействе: так много было в нем чутья к этому русскому пейзажу. Удивительно чувствовал он и всю грусть этого пейзажа, его тоскующую поэзию».
В душе Левитана жила какая-то особая восприимчивость именно к этим грустным аккордам, и, быть может, сама русская природа так влекла его к себе именно потому, что в ее грусти Левитан находил нечто очень близкое себе и родное. Эта грусть, как leitmotiv, проходит через все творчество Левитана, и трудно указать хотя бы два или три его произведения, где не звучала бы эта грустная нота. Ни солнце, ни весна никогда не были радостными на картинах Левитана. Даже в весеннем пейзаже Левитан чувствовал какую-то грусть, гораздо более свойственную осени.
Он осени любил задумчивые дни
Он его душе всегда была сродни
Не вешней нежности, не жаркой летней неги
Он был художником мечтательных элегий.
Даже Крым и Ривьера с их ликующими красками не увлекли художника, и даже отсюда он привозил то виды Яйлы с хмурыми небесами, то элегию татарского кладбища в горах, то татарскую деревушку, прилепившуюся к склону выжженных солнцем гор, то грустную задумчивую весну Бордигеры… Поэзия Левитана, но всех его картинах – поэзия элегии, потому что и в самой душе его преобладающим настроением была всегда и всюду та же тихая грусть[10]10
Один из восторженных поклонников Левитана, И. Вермель говорил, что Левитан был до мозга костей еврей, любил свой народ, болел его горем и радовался его радостям. Едва ли это так, Левитан никогда не скрывал своего еврейства, но относился очень равнодушно к национальному вопросу. Ссылаться на то, что однажды Левитан нарисовал символическую виньетку к какому-то вечеру Сионистов, или вообще устроенному евреями, значит делать большую натяжку. Такую же виньетку мог нарисовать и любой русский или немец. Помимо же этой виньетки среди массы картин, эскизов и рисунков Левитана нет буквально ни одного намека на какой-либо из еврейских мотивов, хотя бы даже с изображением еврейского городка и т. п. Единственное, чего нельзя отрицать – это влияния национальной угнетенности и созданной ею грусти на творчество художника. Возможно, что в этом очень определенно сказалось еврейство Левитана, но и этот минорный аккорд всех картин Левитана оказался в очень близком родстве и с заунывностью русской песни, и с грустью самого русского пейзажа. Не вина евреев, что им так часто приходится вспоминать свою национальность, но выросшие среди русской природы, в русской жизни, они часто совершенно такие же настоящие русские люди, как самые коренные великороссы. В Левитане это именно и чувствовалось.
[Закрыть]. Нельзя, однако, при этом не отметить, что поэзия Левитана все-таки по преимуществу поэзия мотива. Эта поэзия гораздо ближе к грустному сонету, нежели к музыкальной элегии. Недаром она и навевает так легко воспоминание о том в другом стихотворении. Поэзию эту слово передает ближе нежели музыкальный аккорд, и это сближает Левитана с тем литературным искусством, среди которого он вырос. Многие даже считают Левитана всецело принадлежащим этому периоду, и видят в нем только эпигона, спевшего лебединую песнь реального пейзажа. Ведь лебединая песнь всегда грустна. Едва ли, однако, такое отношение к Левитану верно. Эпигоны всякого направления неизбежно носят на себе черты вырождения, измельчания, а про Левитана этого никак сказать нельзя. К тому же вещи Левитана, особенно вещи последних лет, всегда так хорошо уживались на выставке и рядом с Врубелем, и подле Малявина или Сомова, а это было бы невозможно если бы в них не было чего-то, объединяющего его с этими художниками. И это объединяющее, действительно, было в поэзии жизни, которую так чутко ощущал Левитан. Он чувствовал жизнь каждого момента в природе, ярко ощущал красоту этой жизни, и от того картины его, несмотря на то, что на них, обыкновенно, нет ни одного живого существа, всегда так интенсивно живут. Левитан, как это верно выразил Бенуа, «чувствовал в природе то, что живет и хвалит Создателя; слышал своим чутким ухом, как бьется сердце самой природы; он угадывал таинственную жизнь, и это-то проникновение сближало главным образом Левитана с исканиями всего русского молодого искусства. Поэтому гораздо вернее выделить. Левитана и некоторых других художников его времени в особую группу переходного момента, момента перелома, который так незаметно произошел в русском искусстве в восьмидесятых годах. И здесь, на этой промежуточной ступени, Левитану принадлежит очень видное место, так как вокруг него группируется целая школа, частью его сверстников, частью учеников и вообще художников, так или иначе отразивших на себе его влияние. В творчестве Левитана, во многом еще литературном и по своим приемам старом, были уже заложены ростки того, что расцвело и начинает приносить плоды у других, вышедших на сцену позже.
Как живописец, Левитан имеет меньше значения, но и в этом отношении он не прошел для русского искусства без следа. Серая серебристая Коровинская гамма получила под его кистью новые оттенки, а «грустная праздничность русской осени» и загадочный соблазн русской весны отразились в его картинах в такие стройные и красивые аккорды, что трудно теперь художнику вернуться к этим мотивам и не повторить Левитана.
Многое делал Левитан на пути обобщения и упрощения живописи, что тоже сближает его с художниками последующих течений. Это обобщение и стремление к широкому письму иногда вызывало искреннее негодование публики, которая упрекала художника за дерзость выставлять грубую мазню и неоконченные эскизы. Публика не могла понять, что законченность картины для Левитана часто была не в введении новых деталей, а наоборот, в возможном их уничтожении и в приведении картины к нескольким смело и верно брошенным пятнам.
Большая часть всего, написанного Левитаном была исполнена им маслом. В 1890-х годах его увлекла пастель, но с таким же успехом работал Левитан иногда и акварелью и рисовал карандашом или углем. Подобно другим своим сверстникам, он был уже очень далек от той архаической рутины, согласно которой художник сначала набрасывал эскиз, затем готовил этюды, делал набросок углем и уже затем принимался за самую картину. Большая часть картин Левитана ничто иное, как увеличенный и разработанный этюд с натуры, какого-нибудь заинтересовавшего его мотива, иногда же картина, была просто целиком написанный с натуры большой этюд. В Плесе Левитан стал особенно много писать по впечатлению и на память. День за днем ходил он изучать и запоминать какой-нибудь мотив, а затем в несколько часов заканчивал по памяти целую картину. Так именно были написаны имеющиеся в Третьяковской галерее «Вечер» («Золотой Плес») и «После дождя». Последнюю картину Левитан написал, например, в течение всего пяти часов.
Само собою разумеется, что это было возможно лишь при наличии у Левитана сильно развитой зрительной памяти, и действительно, эта способность поражала в Левитане. Все виденное и тем более написанное с натуры он мог в любой момент с удивительной верностью восстановить в своей памяти и перенести на бумагу или холст картины, так что многие сделанные им на память наброски кажутся настоящими этюдами с натуры.
Случалось, однако, иногда, что эта зрительная память изменила Левитану. Тогда начатая, а порою почти уже законченная картина месяцами стояла у стены, ожидая того момента, когда затеянное на ней вдруг вставало в воображении Левитана во всей своей яркости и силе. Так именно было с прекрасной типичной картиной Волги, названной Левитаном «Свежий ветер». Несколько лет стояла она в мастерского Левитана, пока однажды он снова не увидел тот же мотив в натуре и не переписал в два или три часа весь холст, приведя его в тот вид, котором теперь мы любуемся. Благодаря такому характеру работы, почти ни одна из картин Левитана не имеет своей истории, которая оставалась бы в ряде эскизов, рисунков, этюдов. Единственное, что дополняет ту или иную картину-это небольшой этюд того же мотива с натуры, да иногда два-три рисунка, на которых Левитан повторял тот же интересующий его мотив, набрасывая его где-нибудь на клочке бумаги, сидя за стаканом чая в товарищеской беседе. Приятели Левитана нередко пользовались этой привычкой художника, готовя для него карандаши, акварель, papier pelle и т. п. и, благодаря этому, у многих уцелели такие наброски и рисунки Левитана, то повторяющие мотив какой-либо из его картин, то воспроизводящие вариации этого мотива. Наброски и рисунки эти не всегда одинаково удавались Левитану, но никогда не были они банальными, что так часто в конец губит подобные работы[11]11
Образчики этих рисунков можно найти воспроизведенными в моем очерке в «Новом Слове». Особенно много было их в руках московского коллекционера В.Е. Шмаронина, у которого по средам бывали собрания художников, и Левитан долгое время был желанным гостем.
[Закрыть].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































