Текст книги "День матери. Роман"
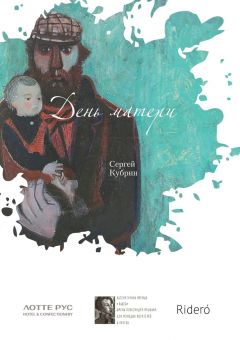
Автор книги: Сергей Кубрин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
– Разумеется, – соглашаюсь, – все знаю. Думаешь, я ничего не вижу и ничего не понимаю? Да все мне понятно, – уже в голос кричу я. – Это же я виноват, мне же наплевать на Гришу. Подумаешь, Гриша. Я лучше с колдырями повожусь на работе, чем схожу с сыном в зоопарк!
– Помолчи!
– Не помолчу! Хочешь сказать, мне это нравится? Думаешь, я не устал?
– Я тебе говорю, замолчи.
– Это ты устала, что здесь непонятного? Мама, помоги. Мама, посиди с Гришей. Мама – одно, мама – другое.
Она швыряет тряпку в мусорное ведро и повторяет раз за разом:
– Воспитала, кого я воспитала, Господи. Кого я воспитала…
Закуриваю прямо в кухне. У меня припрятана пачка за хлебницей. Мать выключает свет, осторожно прикрывает дверь, которую давно пора смазать, потому что хрипит и скрипит и вот-вот развалится, как вся моя жизнь.
– Дурак, – добавляет она.
Курю в форточку. Зрелая ночь никак не пройдет. Вся тянет и тянет смоляной тоской, и звезды на этом густом полотнище блещут совсем не к месту, почти как редкие слезы на щетинистом лице взрослого мужика.
3
Я докладываю, что в ходе ночных отработок проверялись ранее судимые, а также лица, ведущие антиобщественный образ жизни. В подтверждение сую восемь рапортов и несколько объяснений от жульбанов местного разлива.
Бумаги аккуратно подшиты белой канцелярской ниткой в четыре дырки, сквозь которые пробивают редкие осенние лучи, преломляясь, сверлят отражением мясистое лицо начальника, поглаживая мохнатую опушку усов и разрешенную по статусу густую бородку.
Полковник долго вчитывается, хмурясь, почесывая переносицу – никак не разберет мой угловатый почерк. Выгнет шею, прошепчет, выдергивая знакомые слова из контекста выдуманной истории, в вот уже рвет первый рапорт, второе объяснение, весь материал, собранный за полчаса перед утренней планеркой.
Сегодня я бледный, а предвкушение от скорой прокачки вовсе желтит и зеленит, пошатываюсь, повторяя движение часового маятника, прикованного к стене.
Начальник спокоен, и кричать начинает не сразу – с нарастанием, переходом на низкие и высокие ноты, чтобы звуковой прессинг казался ощутимее, так, чтобы запомнился на некоторое время после выхода из кабинета.
– Я еще раз повторяю – мне нужен результат! Результат! Мне нужен результат, – говорит он механически точно и сдержано. – Я понятно объясняю?
– Так точн…, тарищ полков…, – бурчу, сглатывая окончания, спаянные слюной трепета и страха.
– Сколько ты служишь? Скажи мне, сколько ты служишь? – повторяет, словно с первого раза бывалый опер не поймет.
– Почти десять лет.
– Почти десять лет. Очень хорошо.
И молчит, и кажется, что действительно очень хорошо, что сейчас, преклонившись перед заслуженным опытом и почетной выслугой, начальник скажет: «Свободен. Занимайся».
Но если кто и мог подарить мне свободу, то, скорее всего, пришлось бы ее вернуть, потому что подарки на службе запрещены, и вне зависимости от стоимости приравнены ко взятке.
– За что ты получаешь деньги? Не нравится – иди на рынок, торгуй обувью или рыбой. Да мне все равно, чем ты будешь заниматься.
– Товарищ полковник, – выговаривая до последней интонационной крошки, включается Гнусов. – Разрешите, товарищ полковник? – уверенно бьется в косяк здоровым кулаком и, не дождавшись одобрительного кивка, вступает в пространство почти интимного офицерского кача.
– Еще один, – хмыкает полковник.
– Товарищ (видимо, просто товарищ,), есть результат, – и заявляет, что установил возможных подозреваемых.
– Сколько?
– Двое или трое. Скорее, трое.
– Скорее трое, чем двое?
– Скорее трое, чем четверо.
– Так, двое, трое или четверо?
– Трое.
– Трое. Угу. Ну, и что дальше?
– Работаем, товарищ полковник.
– Дети где? Где дети?
– Дети…, – вздыхает Гнусов, – дети…, – вздыхает опять, – детей мы тоже найдем.
– Что значит – тоже? Сейчас же – тычет в меня, – объясни сейчас же, что значит его тоже?
Киваю Гнусову. Гнусов кивает мне.
– Дети! – гремит полковник, – де-ти!
И здесь начинается та физическая близость, о которой не принято говорить за стенами типичного отдела полиции. Я – опер с десятилетнем стажем, Гнус – отличник боевой и служебной подготовки, терпим до возможного, как альбомный лист терпит порой выдуманные показания несуществующих очевидцев.
– Вот у тебя есть дети? – кричит он Гнусову.
– Никак нет, – с непонятной гордостью и одновременной радостью отвечает Леха.
– Плохо, Гнусов! Стыдно!
– А у тебя есть дети?
Киваю спокойно, потому что за последние двадцать минут это единственный положительный ответ, который я мог дать руководству.
– И что ты думаешь?
– Я думаю, мы справимся.
Мы должны справиться, товарищ полковник. Мы обязательно справимся, потому что не бывает таких пропастей, откуда мы не выбрались бы с Гришей. Хотите, расскажу о сыне – мой сын вам всем покажет. Вот как полетит в космос, как помашет рукой в прямом эфире, как передаст привет – уроду и дегенерату (что вы там говорили еще, товарищ полковник) и скажет: «Папа, папа, папа…», вот посмотрим тогда, вот тогда посмотрим.
Клочья бумаги кружат над нашими седыми головами. Я представляю, что падает снег или звезды с неба. Но полковник грозит, что скоро звезды посыплются с наших плеч, и я возвращаюсь в прежний боевой порядок.
– Только попробуйте не найти.
Получив блаженную дрожь, курим в подсобке. Гнус что-то рассказывает про цыганский поселок, накидывает план совместных действий, где первым пунктом – осмотры, а во главе спецгруппа. Он кому-то звонит, кажется, операм из УВД, нужна будет помощь, и все в этом роде.
– Одни-то мы не справимся.
Надо вооружаться, идти к следакам за неотложным обыском, начинать работать – получать этот самый важный в нашей жизни результат, который позволит забыть о возможной судьбе продавца обуви.
– Я тебе говорю, мы их накроем.
– Угу, – киваю, – накроем.
– Главное, чтобы дети… ну, ты понимаешь.
– Понимаю, – говорю, – главное, чтобы дети.
Гнус привык, что я работаю без нужной оперской пылкости, но все равно психует. Мне якобы все равно, а в таком случае ничего у нас не получится.
– Леха, – говорю, – слышишь. У нас все получится. Я тебе отвечаю.
Гнусову кто-то звонит, и я понимаю, что нужно собираться.
– Подожди внизу, я сейчас.
– Ну, куда ты? Время, – все кидается Гнусов, – время в обрез.
– Выходи, догоню.
Стучу в дверь. Товарищ полковник. Можно?
– Можно, если не сложно, – бросает полковник. – Чего тебе? – спрашивает как всегда глаз не поднимая от новой порции бесполезных бумаг.
– Я по личному.
И тот все-таки оставляет писанину.
Мнусь, как малолетка, так и сяк, нужно место в детском саду. Ходит слух, что сотрудникам положено вне очереди, не могли бы оказать содействие.
– Ты как вообще? – спрашивает он, будто не было никакой предшествующей разминки с зарядом бодрости на весь день.
– Да нормально.
– Нормально? Ты мне брось! Думаешь, один такой? Сколько я повидал в этой жизни. Столько и не бывает, сколько повидал.
Упав на спинку зачетного командирского кресла, прокручиваясь на месте туда-сюда, продолжает:
– Всякое в жизни бывает… Но ты знай, мы тебя всегда поддержим.
Ночную отработку пришлось отменить, и мы решили с Гнусом посидеть в нашем баре. Ну, как в нашем – Гнусов на пенсии мечтает открыть подобную забегаловку и продавать дешманское пиво под видом фирменных поставок из Богемии, поэтому, выпив, каждый раз представляет, развалившись на диванчике, что вьющийся повсюду хмельной мир принадлежит только ему.
– Будешь моим замом?
– Буду.
Следаки сказали, что разрешение на обыск подготовят через сутки, а неотложку проводить нет смысла – указание прокуратуры.
Мне на самом деле все равно, а вот Гнус бесится.
Ну, как так, говорит. Что значит, через сутки. Какое нафиг судебное решение – речь идет о детях. Вдруг их там – того. Гнусов тычет пальцем в ямочку у горла, закатывает глаза.
Успокойся, думаю. Все будет нормально. Надо бы позвонить в дежурку, наверняка дети пришли домой. Никуда не денутся. Большой город, большие возможности.
Заказываем водку. Гнусов любит, конечно, нефильтрованное пивко, но каждый раз догоняется холодной водкой. Пиво, оно, как жена, любит причитать – куражит, а водка – любовница: голову сносит.
– Ершишься?
– Отвлекаюсь.
Хорошее занятие, на самом деле.
Жалуется, что опять ушла баба.
– Что им нужно, не пойму. Я и так, – говорит, – и эдак. Нет, ты не подумай. У меня в том плане-то все зашибись. Я долго могу, и много. Но вот знаешь, что мне последняя сказала. Ты, говорит, банальный. Так прямо и сказала, представляешь? Банальный. Я посмотрел, что это значит. Типа самый обычный, ничем не примечательный. А я-то думал, она опупенная, а она сама – банальная.
– А ты ей что?
– Сказал, чтоб выметывалась.
– И что?
– Ну и все.
– Так, получается – ты выгнал. А не она ушла.
– Так-то да, выходит, что – я.
И, кажется, Леха приободрился.
Приносят водку. Мы пьем, не закусывая. Леха на выходе балуется остатками пивной пены. Я тяну сигарету. В этом баре разрешают курить. По крайней мере, нам с Гнусом.
– У тебя что? – спрашивает Гнус.
– Что?
– Ну, не нашел никого?
– Нет, – говорю, – а что, надо?
– Ну, как надо? Не знаю, надо, наверное. Как ты теперь один-то будешь?
– А хрен его знает, – отвечаю и думаю, как перевести разговор, сменить, что называется, тему.
Рассказываю, что хочу поменять машину. Не хочу, на самом деле – деньги нужны. И хоть деньги есть, ведь деньги я зарабатывать умею, не очень люблю их тратить.
– Нет, без бабы никак. Я бы вот не смог, – трещит уже захмелевший Леха.
Да что ты знаешь про это «никак». Что ты вообще знаешь, Гнусов. Ни хрена ты еще не знаешь. И водку пить не умеешь.
Но я все равно сижу с ним, потому что хочется убиться в хлам.
Обычно держу планку и, может, не так часто гашусь под градусный плинтус, но сегодня поставил цель. Такую же цель ставил, когда закончилась история с Катей, когда Катя сама закончилась, и мне тоже хотелось прекратить, щелкнуть пальцем и выключить нахрен главный канал этой прекрасной жизни, но не хватило сил, чтобы угнать вслед и пришлось – пусть не жить – но выживать, хмелясь и опохмеляясь, пока смерть не разлучит нас окончательно.
– Баба тебе нужна, баба, – все режет Гнусов.
Я не выдерживаю, потому что терпения никакого не осталось, а нервы давно уже вымотаны работой и жизнью, одним и тем же по большему счету.
– Слышь, Гнусов, давай не учи меня. Сам разберусь.
– Ага, понял. Чего ты сразу?
Леха пьет скоро, с резкими выпадами, вроде предварительного выдоха и последующей тяги в рукав. Я тоже пью быстро, но спокойно. Вдумчиво, я бы сказал. Есть большая разница между пить, не задумываясь и пить, осознавая, как пьешь. В первом случае ты рядовой гуляка. Во втором – заслуженный алкоголик.
– Но все равно, кто тебе еще скажет правду? Только я. Согласен?
– Чего ты хочешь?
– Я хочу, чтобы не страдал по ней. Нет. Так нельзя говорить. Ну, то есть, пострадал и хватит. Как там в песне – не надо печалиться…
Он в самом деле поет, и на удивление слушаю до победного, как вот-вот пройдут дожди и все станет зашибись.
– Я бы тебе сказал, – шепчет Гнусов и, затыкая ладонью рот, на время затихает, пытаясь собрать нетрезвые мысли в пятерню. – Я бы сказал кое-что, но ты обидишься. Хочешь я тебе скажу?
– Говори.
– Говори, – ухмыляется, – не так легко мне говорить. А я скажу, – тычет пальцем Гнус, – я скажу, и не останавливай.
Он хохочет, блаженный Леха, и говорит… неправду, конечно, говорит, пьяную ложь – так бывает, разве. Кажется, пьяной бывает одна правда, но я все равно не верю.
– Так вот я скажу. Я твою Катю, знаешь, что я с твоей Катей…
– Чего ты? Чего? – сжимаю кулаки до верной боли. – Ну?
– Драл я твою Катю. И не раз! И не надо мне тут закатывать. Я знаю – так нельзя. Но драл я все твои нельзя, потому что драл я все и всех, и тебя, и Катю.
Он молчит и сторонится в стену, справляясь с противной икотой. Воздух наберет – держится до багровых пятен и выдыхает, выдыхает…
– Я тоже, может, грущу. Не ты один. А не надо…
И не успевает он продолжить, что не нужно грустить, со странным, взявшимся из ниоткуда, не моим совсем чувством достойного пофигизма, я говорю:
– Хочешь, Гнусов, морду тебе набью?
– Бей! – не сдается Гнус. – Бей! Это еще не все. Я тебе столько могу рассказать.
– Вот знаешь, сижу я понимаю, как сильно хочу тебе дать по морде. По твоей этой свинячьей харе. Ты такая потому что мразь, Гнусов.
Я разливаю, пью, а Гнусов не пьет – слушает.
– Так вот слушай. Знал бы ты, как давно я хочу начистить твое лицо. Да только работаем вместе. Ты настолько мерзкий, что даже фамилия у тебя какая-то гнусавая! Так вот, Гнусеныш, ты меня извини, но прямо сейчас я буду с тобой драться.
Я выпиваю еще. Следом снова накидываю для окончательной свободы.
Гнусов до конца не понимает, серьезен ли я: то полыбится, то нахмурится. Но я серьезен, насколько может мне это позволить алкоголь.
– Бей! Давай! Заслужил!
Я не верю Гнусову, ни одному слову, но хватануть по роже он обязан. Какой бы ни была моя Катя, никто не может обидеть ее. Тем более сейчас.
– Думаешь, я тебе поверю? – встаю из-за стола. – Думаешь, я бы ничего не знал, – прокидываю контрольную. – Хочешь сказать, ты такой охрененный, – и вот уже готов кинуться в драку.
Но тут Гнусов сам толкает меня в грудь – даже не толкает, а как-то трогает что ли с напором. Я теряю равновесие, держусь за край стола, приседаю.
– Не быкуй, братуха, загнался что-то.
Он кидает деньги на стол, смотрит долго-долго и молчит. Как на дерьмо паршивое смотрит, даже щурится, носом пошмыгивает, словно и впрямь чем-то воняю. А молчит, будто говорить не умеет вовсе.
– Пшел отсюда.
Целехонький, уходит он, оставляя меня на растерзание всесильной водки. Странная темнота густится у потолка, заполняя слабый без того свет натиском графитовой вуали, и так страшно, что лучше сдохнуть, чем ждать, ну, когда уже, в самом деле, проступит вечный космос.
4
Гриша все-таки спросил о матери. Промолчать бы, вроде не услышал, но сын повторил:
– Мама ведь прилетит?
Он смотрел на меня, выпучив глаза (ее глаза), карие-карие, с едва прозревающими пузырьками слез – попробуй сказать правду, как лопнет пленка и прорвется, наконец, уже не детская, а настоящая мужская слабость.
Откуда ей прилетать. Если бы я знал, сынок, где сейчас мама, разве стоял здесь, да бросил бы все – и тебя бы бросил – лишь хватануть и утащить обратно.
Что мне оставалось делать, зачем-то я ответил: «Обязательно».
Гриша кивнул, сглотнув непосильную тяжесть, застрявшую в горле. Скажи ему, попробуй, и жизнь вдруг остановится: рухнет внутри та самая сила, что держит и ведет, как спиленное дерево громыхнет о землю глухим безразличным стуком, переломав засохшие ветки. Останется холодная пустота, жить с которой можно, знать бы только как.
Поэтому я повторил: «Обязательно, Гриша. Даже не сомневайся. Наша мама обязательно прилетит».
В какой-то момент я потерял контроль, опьянел этой детской надеждой и тоской и, впав в известное безумство, буквально прокричал: «Она прилетит, честное слово, вот увидишь».
Я хватил Гришу за плечо, тот испуганно уставился – что ты, папа, а я кричу, как дурак, сам пытаясь поверить в невозможное:
– Гриша, слышишь! Мама тебя любит! Помни об этом! Она прилетит!
Я не знаю, верит ли мне Гриша. А может, делает вид, поскольку привык, что мои обещания так себе: щелкни пальцем – просто звук.
Вот так стоим и ждем то ли маму, то ли утро, потому что утром всегда становится легче. Разуешь глаза, поймешь, что жив, ощутишь, как бывает, что ничего нельзя изменить и остается только вставать и как-то справляться и плестись, как прежде, куда-то.
До того, как Гриша сдался, я решил показать ему комету с огненным хвостом и блестящим тельцем. Передавали в новостях, должна пройти сегодня над Землей в такой близи, что даже невооруженным глазом удастся рассмотреть.
– А как это, невооруженным? – спросил он, так и не выговорив непонятное слово.
– Значит, глаз не вооружили, – ответил я хрен знает что, подумав, сдал ли в оружейку служебный ПМ.
Мать сказала – прождал весь день и спрашивал, что такое комета.
– А ты?
– А я что? Как всегда, – и понял, что рассказала, как нужно, в мельчайших подробностях, строгим непростительным учительским тоном.
Я смог не задержаться и ровно в семь перешагнул порог родного отдела полиции. Гнусов промолчал, потому что мы теперь не разговариваем.
Но как-то без разницы.
Главное, у меня есть сын, ради которого я готов на все. Как минимум, хоть раз уйти с работы вовремя.
Так вот я не просто пришел в обещанный вечерний час, а смог достать настоящий бинокль. «Бледный, – сказал я одному шинкарю, – давай сюда свои окуляры, хватить заглядывать в окна».
– Гриша, – говорю, надевай куртку, холодно.
– Ну, можно без куртки? – уговаривает Гриша, хотя сам уже кружит в прихожей возле шкафа.
– И шапку не забудь.
– Ну, папа.
Он говорит мне это «ну» и «папа», и я понимаю, как же люблю Гришу. Господи, знал бы ты, как я люблю его. И нет предела этой любви, потому наматываю вдобавок шарф. Гриша недовольно жмет губы, но все равно невозможно не увидеть, как светится мой Гриша, как торопится он в ночь на встречу с кометой.
Неживая холодища бродит на балконе. Миндалем светит луна и, наливаясь, голубым сиянием, дышит и растет на глазах.
– А почему ты без куртки?
И ответить нечего – накидываю капюшон толстовки, и Гриша замечает:
– Ну, ты хитрый, папа.
Он еще не знает про бинокль. Я протягиваю, на, смотри, но сын не знает, что делать. «Это зачем?» – хохочет. Но стоит объяснить и показать, в общем сделать то, что должен нормальный родитель, как Гришу не оторвать уже от бинокля.
Весь мир перед ним и кажется, благодаря тебе. Словно ты и впрямь тот самый человек, кто способен сделать ребенка счастливым. Гриша ухает, вроде «охо-хо» и тут же издает протяжное «блии-ии-н», звонкое и настоящее.
– Папа-папа, смотри, – визжит он, – папа, ты видишь?
– Вижу, – говорю, конечно, вижу.
Что он там рассмотрел, понятие не имею. – На луну посмотри обязательно.
– Ага…, – тянет сын, – папа, видишь, какая луна?
И туда посмотрит, и в сторону, и вот уже оставил небо и бросился выслеживать кого-то из людей, как настоящий шпион, не денешь никуда оперскую кровь, и снова затянулся вверх.
– Смотри-смотри.
Он вдруг убирает бинокль, чтобы посмотреть, вижу ли я. Но вместо того, чтобы разделять с Гришей радость свидания с ночной свободой, я залипаю в телефоне.
– Папа! Ты что, не смотришь?
– Смотрю-смотрю, сынок, отвлекся тут, пряча телефон.
Гриша таращится, будто проверяет, правду ли я говорю. Он следит за каждым моим движением, вот я засунул руку в карман, потому что телефон опять прожужжал, вот почесал затылок – нервничаю что ли. Увожу взгляд, но чувствую, что Гриша смотрит и смотрит. Представить могу, кто вырастит из него, не спрячешься, не проведешь. Убедившись, что готов к появлению кометы (стою себе, смотрю в небо), Гриша протянул бинокль и как-то, извиняясь, пояснил:
– Ты бы сразу сказал, что не видно. Прости меня.
Господи, какой же я все-таки ужасный отец.
Говорю, что ты, Гриша, я все вижу, не думай даже. Прошу взять бинокль обратно, но Гриша упертый, ни в какую, нет и все. Смотри, папа, расскажешь, какая там луна. А я проверю.
Желтое пятно непонятным образом держится в темноте. Я думаю, вот бы и мне продержаться. Взял бы кто, подвесил за невидимые нити, водил бы туда-сюда по кругу. Что с меня взять: пятно и пятно, никаких претензий, никаких забот. А когда настанет утро, я совсем исчезну, и не будет никому до меня дела.
– Сынок, я увидел. Давай, теперь ты.
– Точно?
– Сто процентов.
– Двести процентов?
– Триста, честное слово.
Дальше трехсот мы считать не умеем.
Гриша принимает бинокль, но теперь то косится, проверяя, смотрю ли в небо, то без конца интересуясь, не хочу ли взглянуть.
Твоя очередь, папа.
Да ничего, сынок, я потом посмотрю.
Мы ждем комету, и уже до того стемнело, что непривычная тишина глубже, чем сама ночь.
Уже поздно, и завтра мне заступать на дежурство. Утром придет мать и потащит Гришу в детский сад на собеседование. Какое-такое собеседование, что они хотят проверить. Сомневаются, все ли в порядке с моим ребенком, так что ли. Мать говорит, это нормальная процедура, что сейчас везде одни подготовительные беседы, якобы новая атмосфера, к ней нужно готовить. Я же думаю, что воспитатели, не видя еще Гришу ни разу, считают того неполноценным.
– Гриша, – говорю, – ты хочешь в детский садик?
– Наверное, – отвечает сын, – бабушка сказала, там интересно.
– Ты расскажи завтра в саду как мы с тобой здесь…, хорошо?
– Я расскажу, – обещает Гриша, а сам все ждет и ждет, когда обещанная мной комета изволит показать свой огненный хвост.
Мне начинает казаться, что комета не прилетит, что меня обманули (и вообще, где я прочитал эту новость), вслед обманул Гришу, и теперь окончательно стану конченным болтуном. Что за отец, который не держит слов – папаша.
– А что мне рассказать?
– Ну, про комету расскажи, про бинокль.
– А про луну?
– И про луну расскажи.
– Вот они с ума сойдут.
Телефон никак не успокоится. Оксана зовет на ужин, ей хочется, чтобы сегодня все получилось. А мне хочется, чтобы, наконец, появилась, комета, потому что небо чистое и высокое, и комету мы должно разглядеть. У меня в планах еще смотаться на любельку, расслабиться и улететь.
Да неужели…
– Смотри, – кричит Гриша, – папа, смотри.
Я рыскаю по всему полотнищу, от звезды к звезде и между, но ничего не вижу.
– Папа, – продолжает голосить Гриша, – ты видел, падала звезда? Ты видел? Папа, ты правда видел?
– Конечно, видел.
– Нет, ты не видел, бинокль же у меня.
– И что, – пытаюсь выкрутиться, как жулик на допросе, – я хорошо вижу. Когда ты вырастишь… Но Гришу не проведешь.
– Папа, – смотрит на меня сын. – Не расстраивайся, я тебе расскажу.
И тут он говорит, что звезда долго-долго летела, а потом погасла.
– Она спряталась, папа. Давай, найдем ее. Такая яркая звезда, давай найдем.
– Давай, – говорю.
Мы ищем ту самую звезду. Я предлагаю Грише, может, вон блестит или вон – тускнеет. Никак нет – звезда спряталась, и все. Гриша водит биноклем в разные стороны, и я зачем-то спрашиваю:
– Ты успел загадать желание?
Гриша убирает бинокль, глядит растерянно.
– Какое желание?
Мне бы промолчать или выкрутиться, как умею, в лучших традициях никудышного отца, но я добиваю своей глупостью и черствым тоном:
– Когда падает звезда, нужно загадывать желание. Тогда оно обязательно сбудется. Разве ты не знал?
Но Гриша, кажется, действительно не знал. Да и откуда знать ему, если с одной стороны кружит дебильный папаша, а с другой бабушка, которая не может рассказать все.
Сын стоит и не знает, что делать. Я думаю, он бы заплакал, если жил в нормальной семье и вообще плакал бы гораздо чаще, если кто-то мог видеть его слезы. Но даже сейчас, когда я был рядом, Гриша, скорее всего, понимал, что плакать бесполезно. В любой момент я могу неожиданно исчезнуть, как та звезда. Сколько ни загадывай желаний, ничего не изменится.
– А если я сейчас загадаю, – спрашивает Гриша, – не сбудется?
– Сбудется, конечно, – радуюсь я детской находчивости.
При этом думаю, вполне возможно, что Гриша сам решил спасти ситуацию. Меня выручить, глупого и безнадежного. Честное слово, Гриша – особенный.
Кажется, про комету мы совсем забыли. Где она, кто же знает. И никто не ответит. Зачем я вообще придумал эту историю, поверив в очередную новостную байку.
– Ты не замерз? Может, погреемся?
– Нет, не замерз. А ты?
Качаю головой. На свежем воздухе мне хочется курить, но достать при сыне сигарету все равно, что совершить преступление на глазах толпы, тогда ты не сможешь доказать, что невиновен. А сейчас я хотя бы делаю попытки выглядеть нормальным отцом.
– Если ты замерз, ты иди, папа.
– Нет, давай постоим.
Молчим и ждем комету. Ночь уже с головой окунулась куда-то внутрь и, кажется, в самого меня проникла, растворившись и поглотив окончательно до самой последней черноты. Не выдерживаю, достаю телефон, но в этот раз объясняю Грише, что нужно позвонить.
Оксана молчит, скорее всего, уже легла спать. Думаю, к лучшему, но при этом понимаю, что должен разбудить ее. Как же так, разве может она не говорить со мной, разве способна вот так не взять трубку. Кто она вообще такая, чтобы… но тут приходит сообщение: «я легла спать, если хочешь – приезжай, жду тебя в любое время». Отвечаю, не выйдет, давай попробуем завтра.
Спокойный, что хоть кому-то нужен, продолжаю упрашивать ночь на встречу с кометой. Нет, и все.
Я выдумываю сказку, которую мог бы рассказать Грише перед сном. Мог бы, если Гриша хоть иногда просил почитать ему. Но, скорее всего, он думает, что сказок я не знаю, потому что сказки может знать только мама.
Но все равно я что-то сочиняю. Вот жила-была комета и летела она из тридевять земель на нашу единственную землю. Летела она долго-долго, сквозь миллионы световых лет, через небесные пустыни и космические леса, звездные поля и галактические озера. И гнал эту комету самый злой из всех чародеев, и звали его (в общем, как-то его звали). И неслась комета от чародея так быстро, что сумела вырваться из далекой вселенной и пробраться на млечный путь. Каждый знал, как страшно бедной комете – единственной в нашей вселенной – как хочется ей быть замеченной, как хочется найти приют и родного брата. И каждый стоял на своем балконе и думал, что сможет протянуть небесной гостье руку и помочь чужестранке. Но когда комета узнала, как много людей жаждут встречи, что каждый норовит хватануть ее за дышащий лавой хвост, так стало страшно этой крохотке, что решила она исчезнуть. Так и спряталась под небесным одеялом, и никто ее не дождался.
– Что ты там, папа?
– Да я просто… ничего.
Тогда он и спросил о матери. Точнее, сказал, что мама, наверное, летит сейчас на той самой комете, которую мы ждем. Но, видимо, что-то случилось, может, пришлось приземлиться на луну, и сегодня встретиться не получится. Гриша снова стал рассматривать бездушный холодный диск и, вздохнув, протянул мне бинокль, покачав головой.
– Она прилетит, правда?
Прижался ко мне. Крохотный, бедный мальчик, обнял мою ногу, опустил голову. Я присел, чтобы видеть его лицо. Да, он заплакал бы обязательно, но я сказал:
– Сынок, ты просто не представляешь, как я люблю тебя.
– Я тебя тоже, папа, – говорит Гриша, а голос дрожит, и вот-вот прорвется.
– Хочешь, мы купим телескоп? Самый настоящий, как у астрономов.
– Астро-гномов?
– Да, самый настоящий телескоп.
– Не знаю, – жмет он плечами, – наверное, хочу.
– Я тебе обещаю, мы обязательно дождемся маму.
– Да. Обязательно.
– Ты мне веришь?
Гриша молчит и не верит.
Уже после, когда комету перестали ждать, а Гриша возмужал еще больше, я совсем случайно наткнулся на заметку в сети.
«Указанная комета, – писали там, – носит название Хаякутакэ (С/1996 В2), названная в честь ее первооткрывателя, который незадолго до появления улицезрел ее в телескоп. Комета проходила сравнительно близко от Земли, была очень яркой и легко наблюдалась невооруженным глазом в ночном небе. Научные расчеты показали, что в последний раз комета была в Солнечной системе 17 000 лет назад».
Что такое эти семнадцать тысяч. Подумаешь, просто цифры.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































