Текст книги "Титан"
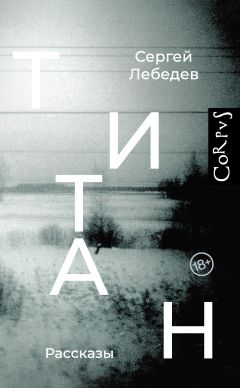
Автор книги: Сергей Лебедев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Бармас
Калюжный был сосед по даче. Да как сказать сосед – через участок. Мареев с ранних лет выделял его среди взрослых, хотя в детстве старик Калюжный с ним едва ли и словом обмолвился. Он вообще не замечал детей. Другие мужчины, бывало, брали мальчишек ловить раков в заиленном, заросшем осокой и хвощами пруду, или черпать в нем же старым, чиненым бреднем мелких окушков. Не считали зазорным похвалить новый велосипед или погонять с пацанвой мяч на дальней лесной поляне, где росли друг напротив друга две пары берез, готовые ворота, вот только одни были на полметра шире, и потому защищающей их команде прощалось по давнему уговору дачных поколений больше фолов, чем соперникам.
Их, простецких, свойских, снисходительных старших, Мареев помнил, но расплывчато и скопом. Калюжного же, чуравшегося младших, – отъединенно и ясно. Особенно же запечатлелись в памяти два случая, которые Мареев и во взрослом возрасте не мог до конца объяснить. Чертовщина не чертовщина. Волшебство не волшебство. Проступает что-то, как водяной знак на купюре. Ни доброе, ни злое. Иное, чего в обычных людях нет.
Ребенком оно его привораживало. Взрослого – теребило, подгрызало, заставляя сожалеть о разумной, основательной жизни мастера и профессионала, которую он выбрал. Ведь если я был способен распознать это в Калюжном, думал он, значит, я и сам был причастен, ведь другие-то ни черта не замечали. И что, спрашивал он себя, что? Ты чокнутый, ты думаешь о какой-то ерунде, о миражах, мало ли что тебе в детстве примерещилось, психиатр ржать будет.
И все же глубоко внутри, культяпками отнявшихся способностей, он чувствовал: нет, не выдумка, не блажь.
То, что он помнит, – истинно.
В те давние годы на дачах обходились без мусорных контейнеров. Был только дощатый короб около сторожки и выезда на шоссе, впритык к гудящей трансформаторной будке с шахматными фигурками изоляторов на ржавых рожках.
Трава и объедки шли в компостные кучи. Ветки, падалица, выкорчеванные кусты – в старые окопы в лесу. Выбрасывали-то вообще мало. Изношенную одежду пускали на тряпки. Тряпки истирали до клочков. Стеклянные банки берегли для варений и солений. Хранили в сараях железячки и дощечки, какие-нибудь совсем непонятные штуковины – всяко ж вещь, пусть и неведомая, полежит, опамятуется, расскажет, кто она и зачем.
Но мусор все ж заводился. Рассыпалась стародавняя мебель. Билась усталая посуда. Дожди и вьюги дырявили рубероид. Дряхлел, крошился поросший лишайником шифер. Копились консервные банки, дырявые сумки. Вылинявшие, встопорщенные, как подбитая ворона, зонты с деревянными ручками. Лопнувшие резиновые сапоги, на которых уже не держится заплата. Распустившиеся, разъехавшиеся корзины. Дырявые бидоны, прогрызенные ржой сквозь облупившуюся эмаль. Рябые змеиные шкурки истершихся велосипедных шин. Распадающиеся по швам дедовы пальто тяжелого, негнущегося сукна. Осколки оконных стекол. Натрудившиеся лопаты и грабли с лопнувшими полотнами и тулейками. Прохудившиеся, страдающие старческим недержанием водопроводные шланги. Продранные, исхоженные мухами тряпичные плафоны. Ломкий, выжелтелый старый целлофан парников. Протертые на сгибах обесцветившиеся клеенки. Древние лари, рассохшиеся кадки, проржавевшие бочки.
Мусор заводился, и глава семейства нагружал в выходной день тачку, вез к сторожке, останавливаясь перекурить со знакомыми, и сваливал рухлядь в помойку, в короб.
Год за годом куча увеличивалась, превращаясь в гору. Мусор спекался, слеживался, будто ерзал ночами, стараясь сцепиться, стакнуться покрепче, паз в паз. Дощатые борта треснули, расселись, мусор перебрался через них и за несколько лет скрыл целиком.
Мальчик Мареев почему-то очень внимательно относился к мусорной горе.
Она высилась у сторожки, у всех на виду, на пути из города или в город, как знак рубежа. Каждая дачная семья что-то прибавила к ней, и гора росла как их общее прошлое, изнанка дачной жизни, вывернутая тут, выставленная на всеобщее обозрение, кисло и гадко пахнущая, привлекающая покрытых репьями бродячих собак.
Весной, в первый приезд на дачу, Мареев примечал какую-нибудь вещь, выброшенную только что, скажем, железную спинку кровати или бочку. И наблюдал за лето, как ее проглатывает, накрывает разрастающаяся гора: к осени уже ни кусочка не торчит снаружи.
Марееву казалось, что, попав в гору, вещи не умирают, а меняются, становятся ее частью, забывая о своем былом предназначении инструмента, сосуда, мебели, но мстительно помня беззаветную службу предавшим их людям.
В поздние летние сумерки, после десяти, родители, прежде чем увести его в дом и запереть калитку, отпускали иногда прокатиться в последний раз – до сторожки.
Он медленно подъезжал к горе, кажущейся во тьме единым существом, состоящим из отверженности и обиды. Он останавливался, держа ногу на педали. И ему чудилось, что гора поднимется сейчас на ножках стульев и столов, протянет руки – шланги, руки – трубы, руки – грабли, вырвет из-под ног велосипед… Он уносился прочь, глотая бодрящие холодки ночи, шепотки листьев, чувствуя, как смотрит вослед, вздыхает разочарованно, поблескивает бутылочными донышками, россыпью зеленоватых ночных глаз, Гора.
Марееву было двенадцать, когда на внеочередном собрании постановили помойку вычистить. Накануне прикатила неожиданно новенькая санинспекторша и выкатила предписание: мусор убрать в две недели, иначе товариществу штраф в пятьдесят шесть рублей. Поцапались, помозговали, назначили следующую субботу для субботника, для мужчин явка обязательна, договорились за две десятки с деревенским Савкой, у которого самосвал, на два рейса до большой поселковой свалки в дальнем карьере; дорого взял, жмот, а больше просить некого.
Отец, конечно, сказал Марееву, что на субботник его не возьмет. Грязное это дело, опасное. Битого стекла уйма, железа с острыми краями, покалечиться раз плюнуть, да еще инфекцию подхватить. Мареев заранее знал, что отец так скажет. Но предчувствовал, что запрет отменится, что он увидит, как потечет обратный отсчет времени, как явятся из недр Горы вещи, которые он отмечал когда-то взглядом, вскроется ее брюхо, отлетит сумрачный дух.
День был солнечный, но не очень жаркий, в самый раз для такого дела. Отец пришел с городской электрички, переоделся в брезентовые брюки и куртку, обул кирзовые сапоги, взял двойные рукавицы, тряпицу, если понадобится прикрыть рот и нос от пыли и смрада, аптечку с пластырем и йодом. Мареев напросился проводить его на велосипеде до сторожки. Нарочно надел только шорты и футболку, чтобы отец не думал, что он хочет остаться. Но дома приготовил свое рабочее. Мареев подметил уже, что с электричек идет мало народу, больше должно быть, и в основном женщины, несут набитые сумки, тянут тележки, переговариваются, – а мужских голосов не слышно.
Сбор был назначен на десять. Они оказались у сторожки в девять сорок девять. Отец всегда являлся на субботники заранее, это давало условное право организовывать и командовать или, во всяком случае, самому выбирать участок работ.
Никого не было. Отец посмотрел на часы, сказал нарочито уверенно:
– Ну все. Поезжай. Сейчас соберутся.
Мареев уже понимал, что никто не соберется. Он умел, пролетая тут и там на велосипеде, ухватить сказанное у колодцев, в очереди у поселкового магазина.
Председательшу недолюбливали. На ее место метил электрик Портнов, у которого половина товарищества ходила в должниках: кому провод оборвавшийся бесплатно починит, кому розетку поменяет. Вот Портнов и подговорил проволынить, чтобы боком председательше вышло. Только честняга-отец мог этого не замечать: вместе же решали на собрании, голосовали…
Мареев медленно катил к дому. И вдруг понял, что и отец все знает. Но это ниже его достоинства – не явиться, раз был уговор. И он будет стоять там, как последний солдат разбежавшегося войска, не решаясь уйти – стыдно, и не умея плюнуть на остальных и взяться за дело одному: договаривались вместе – значит, только вместе.
Мареев крутанул педали, домчался, бросил велосипед у калитки, переоделся и понесся обратно к помойке.
Там стоял понурый отец, нелепый в своей тщательно подобранной рабочей одежде. И Калюжный, которого уж точно никто не ждал. Он и на собрания-то не ходил. Маленький, крепкий, одетый в широкие залатанные брюки и байковую грязную рубаху, в клоунские какие-то галоши, заросший седым козлиным волосом. Он что-то говорил отцу, балагуря, будто они были приятели и собутыльники, а отец морозился, не зная, как отвязаться, пережидал, надеясь, что Калюжный перебесится и уйдет.
– А вот и Миша приехал, – сказал Калюжный ласково, словно это он так все устроил. – Нас уже трое. Давайте начинать. К обеду авось управимся.
Отец скорбно оглядел спекшуюся гору, связанную странной, насмешливой силой, что повелевает мусором, заставляет его сцепляться между собой самым неудобным для разбора способом. Гору в полтора человеческих роста высотой. Втроем они могли бы в лучшем случае надкусить ее бок, и потом над ними потешались бы все непришедшие, надсмехался бы Савка-шофер.
Отец еще хотел возразить, урезонить, а Калюжный по-обезьяньи ловко вскарабкался, не потеряв болтающихся галош, на самый верх горы. Отец страдальчески отвернулся. И не видел, как Калюжный, утвердившись на вершине, чуть подпрыгнул, топнул калошами в макушку мусорной громады, хлопнул в ладоши. И Макеев, похолодев в жаркий день, ощутил, как расселась, расцепилась внутри гора, как оставила ее скрепляющая вещь с вещью сила, про которую говорят: прикипело, не оторвешь. Она больше не была горой, стала нестрашной кучей. И даже, казалось, присела, убавилась в объеме.
Калюжный швырнул вниз старое велосипедное колесо. Блеснули на солнце спицы, закрутился обод, прыснул солнечными зайчиками. И отец вздрогнул, будто осалил его Калюжный, как-то неуверенно поднял колесо, посмотрел, узнавая и не узнавая, что это за предмет, положил на дорогу и шагнул к куче…
Никогда – ни до, ни после – Мареев не видел, чтобы трудное дело делалось так легко, словно оно делает само себя. А они трое – лишь передатчики, проводники.
В одиннадцать приехал Савка, подогнал задом самосвал. И, чего с ним отродясь не бывало – шофер же, белая кость, да и деревенский к тому же, не его ж мусор, дачников, – сам себе удивляясь, взялся помогать, разошелся, рукава гимнастерки закатал.
Потом тетка Мотылиха, что у сторожки жила, тоже деревенская, но дачи так землю раскроили и дом ее охватили, что стала она вроде дачная, враждовавшая с дачниками всю жизнь как раз из-за этой помойки, что ей под окна подсунули, вынесла из погреба бутылку свежего, постреливающего кваса и стаканы, налила всем четверым.
А там и другие прибились, кто проходил мимо. С участков подтянулись, будто примагнитило. Взялись споро – и к обеду закончили, выскребли черную подошву горы совковыми лопатами, засыпали чистым песком. Никто не поранился, не оцарапался, не порвал ни одежды, ни рукавиц.
Мужчины загуторили, послали гонца в магазин за пивом. И забылось, что никто не хотел помойку разбирать. Что начал все нелюдимый Калюжный.
Мареев присмотрелся – а Калюжного и нет, будто и не приходил он вовсе. Даже отец, обычно неуступчивый, по-аптекарски скрупулезный при дележке славы, почета, наград, сплоховал, не заметил, пива холодного опростал поллитровку, – набили ведро бутылками, опустили в колодезную стынь. И только дома, за обедом, вдруг сказал рассеянно и смущенно:
– Калюжного-то забыли уважить, растяпы.
А Марееву ночью снился ловкий, поседелый, как мудрая обезьяна, старик. Притоп его дивный, прихлоп – раз, и рассупонилась, распустилась изнутри мусорная гора.
Он хотел уметь так же.
С той поры он стал присматриваться к Калюжному. Прислушиваться к разговорам старших, если упоминалось его имя.
Был Калюжный инженером. Никто, впрочем, не понимал, какой точно специальности: что-то со строительством связанное, с котлованами, с фундаментами. А может, с бурением или с укладкой подземных кабелей. С землей, значит. Жена его умерла, а дочь-аптекарша, старая дева, на дачу не ездит. Мареев втайне обрадовался, узнав, что нет у Калюжного ни друзей, ни детей; значит, можно попробовать попасть в ученики, в наследники.
Участок Калюжный содержал в порядке. Только овощей не растил, даже картошки или свежей зелени на летний стол. Всю свою землю засадил раскидистыми яблонями, вроде бы потому, что солнце опасно для его кожи. Но Мареев чуял, что древесная тень не кожу стариковскую укрывает. Что-то другое. Что не на поверхности.
Однажды поздней осенью они с отцом приехали закрывать дом на зиму. Все боялись воров, заколачивали окна, прятали ценные вещи в подполы, хотя на их участках никогда не воровали, не то что у соседей за лесом, там каждую весну три-четыре дачи находили вскрытыми, крупа да консервы вынесены.
Но отец в середине дня сильно затемпературил. Мареев уговорил его вернуться в город: мелкие дела он сам доделает и возвратится вечерней электричкой.
Управился Мареев к половине пятого, к сумеркам. А электричка уходила в семь двенадцать. Выпил чаю, похрустел сушкой. Прошелся по скрипучим половицам замершего дома. И вдруг понял, что рядом, через участок, стоит такой же опустелый, осиротевший до весны дом – дом Калюжного.
Мареев вышел через заднюю калитку в лес. Все соседские дачи пустовали, только издали тянуло печным дымком, кто-то собирался еще ночевать. Раздвинул пожухлую крапиву, перебрался через канаву к забору Калюжного.
Конечно, Марееву не впервой было лазить на чужие участки. Таскали клубнику, яблоки, всегда можно сказать, что, мол, играли, мяч залетел, ищем. Но то летом, когда листва густая, спрятаться есть где. И сами садоводы понимают, зачем малолетки залезли.
А вот так, осенью, когда ветви голы, урожай собран… Мареев смутился. Границы участка теперь значили что-то другое. Да и что скажешь, если кто-то заметит? Какой такой мяч придумаешь?
Он стал себя отговаривать: ну зачем лезть-то? Внутрь построек подсмотреть не получится, окна ставнями закрыты. И понял, что хочет просто ступить на землю участка. Ее почувствовать.
Мареев протиснулся под забором. Прошел осторожно мимо кухни к дому. Никто его не видел, только ныла вдали усталая цепь пилы. Но ему все же казалось, что кто-то смотрит. Он оглядел дом и кухню, яблони, туалет, поленницу. И ощутил странное касание; будто он разбудил землю, схваченную уже ночными заморозками, и земля не отпускает подошвы, втягивает в себя.
Он рванулся прочь, и ему казалось, что он выдирает ноги, а почва хватает, тащит ледяными ладонями.
Приехав вечером домой, он свалился с жесточайшей температурой. Мать, конечно, решила, что он заразился от отца. Но Мареев-то знал, что́ его выстудило: текучий хлад чужой земли.
Зимой он решил, что все это проверка, экзамен. Ему нравилось, что тайна не дается просто так, защищает себя, заставляет разум и чувства изощряться, бодрствовать, вводит его в следующий возраст. Ему и учиться стало легче, будто тайна помогала ему, давала способности справляться с жизнью, и отец с матерью стали легче, доверительней относиться, видя, как он успевает в школе, – взялся наконец-то за ум, говорили они друг другу, думая, что он не слышит.
Бабушка сильно сдала за зиму, но на дачу летом просилась. Еще год назад Мареева бы с ней на даче не поселили. А теперь, посовещавшись, решили: можно. Повзрослел, глупостей, дай бог, не наделает.
А сверстников, товарищей по играм, разослали в первую смену по пионерским лагерям, старикам не оставили. Наступила жара, и бабушка лежала в своей комнате, задернув тяжелые занавески, обживаясь в нездоровье, в тягости тела, выходя только утром и вечером в сад и на кухню готовить; Мареев впервые в жизни остался наедине с долгим летним временем.
У него всегда была страсть подглядывать. Тяга к полуприкрытым дверям, замочным скважинам. Малышом он любил воображать, как живут под снегом мыши, – входы в их норки ему показывал отец на прогулках в парке. Его манили бинокли, подзорные трубы, телескопы, микроскопы, фотоаппараты, лупы, очки, любые оптические приборы, играющие с пространством. Теперь же эта тяга преобразилась в способность наблюдения, умение распознавать то, что вроде бы на виду, но на самом деле не то, чем кажется.
Мареев научился видеть дачи как единое целое. Подмечать привычки взрослых, держать в памяти день каждого из соседей: развесить белье, пойти за водой, полить огурцы, отправиться в магазин. Женщины, мужчины – все были предсказуемы. Только Калюжный, оказалось, умеет быть незаметным. Возникать и пропадать на участке, будто раздвигает пространство или пользуется подземными ходами.
Потом Мареев заметил, что старик играет в эту игру и далеко за пределами дач. Может обнаружиться, например, на станции в длиннющей, обалдевшей от жары очереди за яйцами, да еще в самой ее середке, куда злющие поселковые тетки никого просто так не впустят: не уговоришь, не разжалобишь. А Мареев, посланный бабушкой купить яиц, десять минут назад проезжал на велосипеде мимо его участка и вроде бы видел Калюжного в саду, тельняшка его мелькала. Но безусловных доказательств чуда Мареев не находил; тельняшка могла и на веревке сушиться, спутал.
Явилась небывалая засуха. Листья деревьев омертвели, и редкий продых воздуха рождал лишь слюдяной шелест.
Сады еще зеленели, влагу из водопровода всю разбирали на полив, напор в шлангах появлялся лишь поздно ночью. Издалека, от больших лесов, потянуло дымом пожаров, небо помутнело, солнце садилось в сизую дымку. Мужчины, прикуривая, суеверно плевали на затухающую спичку.
В понедельник, когда взрослые уехали в город на работу, полыхнуло на широком пустыре за околицей дач, куда железнодорожники весной свалили груды ольшаника, вырубленного при очистке путей.
Горела пока только трава. Но поднявшийся ветер гнал змеящуюся полоску огня к высохшим веткам ольшаника. Если бы они занялись, пламя набрало бы силу, перекинулось на сады и дачи.
Звонили из сторожки пожарным – все машины в разгоне. Пробовали набирать воду из кранов, носить ведрами, но куда там! Краны только плевались или пускали, как младенец, желтоватую слабую струйку. Собрались в основном женщины, подростки, пытались сбить пламя хворостиной, закидать землей с лопаты, и все вразнобой, неумело. А пламя будто чувствовало бестолковщину, кидалось злей, поспешало, целило искрами в глаза, цепляло за рукава, дурманило дымом.
В пересохшем рту Мареева стало кисло от страха. Он ясно подумал, что пора бежать домой, уводить бабушку в сторону шоссе. Вот-вот перебегающие огоньки, которым хватило бы одного точного залпа из брандспойта, дотянутся до ольшаника, встанут огненной стеной, потянутся языками к домам…
Тут и выскочил откуда-то сбоку Калюжный, бесстрашный и боевитый, как бывают боевиты яростные маленькие зверьки: ласки, хори, куницы. Он бежал, нацепив на каждую руку по десятку ведер, и ведра ухали, громыхали, прогоняя оторопь, призывая огонь отступить.
Калюжный вроде ничего не говорил, только руками махал, – но толпа ожила, словно у нее возник общий разум. Люди задвигались, выстраиваясь в длинную и потому редкую цепочку к деревенскому пожарному пруду, давно полувысохшему, заросшему ряской и загаженному гусями. Конечно, о нем вспомнили и раньше. Но казалось, что он слишком далеко, не натаскаешься. И воды там, особенно в засуху, только на дне. Да и не вода это, а гнилая жижа.
Но и цепочка вытянулась как надо, и воды хватило. Залили, загасили, когда ольшаник стал уже заниматься. Разбрелись, угоревшие, смотрят друг на друга – откуда сноровка-то взялась?
А Калюжного и нет уже. И ведер нет. И никто о нем вроде не помнит, не говорит – как здорово, мол, управился. Мареев, потный, обалдевший, приглядывается, прикидывает – и понимает, что кто-то другой, отец например, тоже мог бы сообразить, что и как нужно делать. Мог бы народ организовать. Ан нет, чего-то бы да не хватило: секунд, метров, лишней пары рук, последнего ведра воды. Не сдержали бы пламя.
Откуда-то брал, вынимал Калюжный, как фокусник, эти необходимые секунды и литры. Возникал то тут, то там, замыкая собой опасно растянувшуюся цепочку водоносов. Плескал на огонь метко, экономно, предугадывая, куда рванется пламя.
Ночью зарокотала гроза. Ударился, разбился водяным пластом о крышу ливень. А Марееву в полусне чудилось, что это Калюжный ходит по небу. Громыхает ведрами, скликает тучи на дойку.
На следующий год Мареев уже не наблюдал за Калюжным. С первых же дней лето наполнилось мельканием девичьих ног, коленок, локтей, будто толкающих его на расстоянии. Он пропадал на пруду, колесил по дорожкам товарищества, высматривая, где они собираются, куда идут гулять, и лишь изредка, проезжая мимо участка Калюжного, недоумевал: неужели он действительно следил сутки напролет за скучным стариканом? Теперь ему казалось, что как раз это отречение и есть настоящее взросление.
Потом он окончил школу и поступил на строительный, не видя в том ничьей направляющей руки. Выпустился, стал пропадать в командировках по северам, ставить дома и промышленные здания на коварные тамошние грунты, воевать с вечной мерзлотой, крушащей стены и фундаменты. Все реже появлялся на даче: только помочь родителям, привезти-увезти. Однако ж, словно от близости к земле, от каждодневных размышлений о ней, о ее плывучем, темном характере, что ставит иногда в тупик строителей, Мареев в краткие свои визиты стал снова замечать Калюжного.
Тот жил ныне круглый год на даче: дочь нашла запоздалого мужа, вытеснила отца из городской квартиры. А у дачников деньги появились, строиться стали чаще. И Калюжный, хоть и старик, стал первый землекоп, копал что угодно – канавы, колодцы, выгребные ямы, выемки под бетонную заливку. Ловко, споро, словно всю жизнь учился мастерству лопаты, хотя дело это не наживное, за год не выучишь. Мускулистый был, крепкий, дряхлость трудами согнал. Вдовы дачные, что мужей своих после шестидесяти схоронили, чуть ли не охоту на него устроили, ведь непьющий же, некурящий, работник денежный. Но Калюжный дамочек отшил. Добрый десяток на него обиду затаил, стали мстить, сплетничать, что, мол, нечист на руку, вещички тибрит, пока копает, или может инструмент хозяйский зажилить, – хотя Калюжный всегда со своим инструментом приходил. Но разве переспоришь? Так Калюжный свою клиентуру потерял, да и новые появились землекопы, что брали дешевле, восточные люди, приезжие.
Участок его теперь дичал, захламлялся, пошли в дикий рост оставшиеся без ухода яблони, ветшали дом и кухня. А Калюжный, по-прежнему бодрый, разъезжал на тарахтящем мотороллере с прицепом, тащил домой со свалок рухлядь, диваны, телевизоры. Возил тачками глину в овражек в лесу, копал, значит, что-то.
И снова казалось Марееву, что лишь он один замечает странные занятия отвергнутого старика. Он бы тоже не обращал внимания, если б не память детства, не та картинка: взобрался Калюжный на мусорную гору, топ, хлоп – и разомкнулась связь вещей.
В нынешнее лето Марееву предложили пятилетний контракт в Африке. Немецкая контора, строительство ГЭС, проектирование вскрышных работ. Другие деньги. Другая жизнь. Сложные там почвы, илистые, напитанные рекой, но, если он справится, можно переезжать в Германию, войти в инженерную элиту, что нарасхват на всем шарике.
Здешние дела устроились быстрее, чем Мареев ожидал. И он поехал на пару-тройку дней на дачу: привести в порядок, пока родители отдыхают в Средиземноморье по путевке, заказанной еще зимой, до открывшейся вакансии. В общем-то, он мог этого не делать. Дачу содержали хорошо, денег он не жалел. Правда, привязанности к ней он не испытывал. Мала она была ему, тесна – и страшна неизменным укладом, силой взаимного притяжения вещей, переживших свой век, не используемых по назначению, но сохраняемых отцом и матерью ради неизменности их жизней.
Мареев говорил себе, что нужно все еще раз проверить: из Африки не налетаешься. Родители стали тревожные, ждут, что Мареев выкажет заботу. Они бы, конечно, предпочли, чтобы он не уезжал, завел здесь семью, родил детей…
Но, уже подъезжая к даче, он подумал: едет-то на самом деле затем, чтобы увидеть старика Калюжного и попрощаться с ним. Мысль была нелепа и потому точна нездешней, высшей точностью.
Калюжный был на даче, но в саду не показывался. Вечером загоралось окно в доме и гасло к полуночи. Хворает, что ли? Однажды Мареев встал рано утром, не спалось, и заметил с веранды, что свет-то у Калюжного еще горит. Тоже проснулся? Или свет вообще не выключался с вечера?
Он почему-то сразу представил, как старик лежит там, полуживой, не в силах дотянуться до выключателя, и надеется, что кто-то обратит внимание, догадается, почему свет не погашен. Конечно, скорее всего, старик просто заснул и забыл про горящую лампочку. Дождь моросит, погода дремотная, серая.
Но все же Мареев надел непромокаемую куртку и пошел проверить. Калитка у Калюжного была не заперта, и он спросил громко:
– Добрый день! Есть кто дома?
Голос рассеялся, впитанный моросью. Мареев открыл калитку и пошел по дорожке к кухне. Он вспомнил, как много лет назад здешняя почва схватила его за ступни, ужалила холодом. Но земля оставалась спокойной, будто долгий дождь усыпил ее.
И выдуманное наполовину намерение помочь старику вдруг обнаружило истинную суть. Он пришел вызнать, выпытать тайну. Ему больше не жить здесь, и незачем соблюдать приличия.
Мареев поднялся по ступенькам в кухню. Свет в кухне не горел, ему незачем было туда идти, если он явился спасать Калюжного. Это уже походило на обыск. Но Мареев отворил дверь и включил фонарик.
Кухня у Калюжного была огромная, пять на пять, целый второй дом. Раньше Мареев, глядя со стороны, удивлялся: зачем старику столько места? Что он там готовит, что ест один среди пустоты?
Но кухня оказалась забита под потолок. Ее заполняли спинки кроватей, тазы, кастрюли, бочки, оконные рамы, трубы, остовы велосипедов, грабли, вилы, жестяные лейки, короба, корзины, ульи, сита, доски, стулья; мусор. Мареев узнал прохудившийся, шелушащийся ржавчиной титан, что он сам вывез в мусорный контейнер два года назад. Тут были вещи с каждого участка, от каждой семьи. Та давняя мусорная Гора, собранная наново, словно тогда они явились вторгнуться в истинный дом Калюжного и он сам разобрал свое укрывище, чтобы потом восстановить его тут.
Это его силой и сцеплялись вещи в Горе, догадался Мареев. Поэтому он и мог так легко распустить ее: топ да хлоп. Он жил там, у сторожки, вторым, незримым сторожем, охранял участки, потому что они были – его, с каждого он взял пошлину рухлядью, к каждому имел ключик. И пожар примчался гасить, чтобы вотчина, которую он взялся беречь, не пострадала. Потому и не обворовывали наши дачи никогда, подумал Мареев: Калюжный стерег. Сила его стерегла, даже когда он сам в город уезжал зимовать.
Мареев закрыл дверь кухни. Он был уверен, что сейчас никакой силы здесь нет. Ни в земле, ни в вещах, которыми набита кухня. С Калюжным что-то случилось. И он не сумеет охранить свою тайну.
Мареев ступил на крыльцо дома – ступеньки грязные, старик обтирал глину с подошв, – и потянул за дверную ручку. Дверь приоткрылась.
– Есть кто? – спросил он.
Тишина.
Он ожидал, что внутри будет тот же хлам. Но нет: просторно, мебели немного. И тут уже несколько лет, не меньше, не живут. Не спят на кровати, не садятся на стулья, не трогают вещей; пыль выдавала это безусловно. Будто Калюжный умер и дом стоит без хозяина.
Мареев прошелся по комнатам. Охватил дом объемным взглядом инженера. Вспомнил глину на ступеньках. Сдвинул в сторону ногой вытертый половик – и различил швы люка.
Дачники в домах подвалов не делали. Только неглубокие подполы в кухнях. Мелькнула и погасла мысль про маньяков. В дачном детстве ходили толки про одного, по кличке Удав, что имел ямину под гаражом и заманивал мальчишек помочь ремонтировать машину.
Но Мареев, строитель, видал худые места, знавал недобрые дома. Тут было иначе.
На столе, под газетами, лежал крюк из металлического прутка. Мареев подцепил люк за проушину, поднял медленно, стараясь, чтобы не скрипнули петли.
Снизу пахнуло землей, спертым, выдышанным воздухом. И еще каким-то запахом, ни человечьим, ни звериным. Запах был не уличный, не лесной, а все ж и не домашний, хотя Мареев встречал его. Встречал в старых домах, назначенных под снос, откуда съехали жильцы, и осталась только разруха, голые стены, вырванные батареи, вопиющая пустота на месте обжитого.
Вниз вела земляная лестница. Мареев осветил ступеньки фонариком телефона: нет ли следов крови? Нет, чисто.
Он протиснулся в лаз и стал спускаться. Ему стало душно и смешно, он увидел себя со стороны, и мороки рассеялись. Господи, подумал он, да старик же чокнулся! Зубрил ведь, поди, в молодости наставления по гражданской обороне. Вот ядерная война и догнала, каждый день по телику про ракеты НАТО твердят. Это просто любительский бункер. Там, внизу, наверное, нары, ружье, харчи. Глупый бункер без вытяжной вентиляции, в котором не просидишь и двух суток. Калюжный-то, инженерный человек, должен был бы понимать. А раз не понимает, значит, точно тронулся умом.
Это ясное объяснение успокоило Мареева. Он спустился в подземную комнатушку. Так и есть: бетонированные стены обставлены самодельными стеллажами, на них трехлитровки с крупами, макаронами, мукой, сахаром. На дощатом столике горит керосинка. Что ж электричество-то не провел? Думает, что после апокалипсиса электростанции вырубятся? Приготовился, значит?
Потолок низкий, Марееву нужно нагибаться, будто дети себе землянку выкопали. В дальнем, темном углу сетчатая кровать, на ней куча тряпья, ватников, одеял.
Он приподнял эту слежавшуюся ветошь. В продавленном углублении, как в ямке или норке, свернувшись, лежал и еле слышно дышал Калюжный, уменьшившийся, будто потратившийся, пока копал; заросший седым курчавым волосом, грязный, какой-то не людской, что ли, ставший как крот, чье тело создано для подземных узостей. От него и пахло тем запахом, напомнившим Марееву заброшенные дома.
Мареев взял слабую руку старика. Разглядел ногти Калюжного, желтые, каменные, заострившиеся. Пульс едва прощупывался. Но Калюжный вдруг очнулся, вскинулся, намертво перехватил его правую руку и прижал к ладонь к ладони внутренней стороной, расчерченной линиями судьбы.
Мареев не мог вырваться, а ладони становились одно, прикипали друг к другу, и чужие линии судьбы переходили к нему. Впечатывались, обжигая, в плоть.
Он провалился в чужую-уже-не-чужую память. В подвальную квартиру, где в грязные окна под потолком, залепленные листьями, видны только ноги прохожих. И ты живешь в подземелье, проходящие мимо трамваи гонят земляные волны, сотрясающие посуду в шкафу. А через дорогу – стародавнее кладбище, и ты на одной глубине с гробами, в близком соседстве с мертвецами.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































