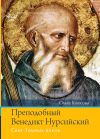Текст книги "Бродячая Русь Христа ради"
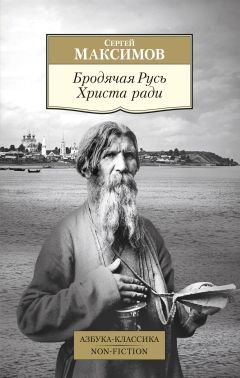
Автор книги: Сергей Максимов
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Все это было вчера, а не то ли же и сегодня, когда в торжественном молчании начался Божий день. Заходили ноги тотчас, как только были спущены с постели на пол, и засуетились руки, лишь только удалось всполоснуть их холодной колодезной водой. Злоба дневи довлеет: вон и под окошком заныли зяблые детские голоса. Истово и настойчиво выпрашивают они подаяние Христа ради.
– Чьи детки?
– Солдаткины. Солдатка у нас тут на задах живет, Христовым именем бродит.
Опять стук с улицы в подоконницу, на этот раз молчаливый, без приговоров.
– Матренушка, надо быть.
– Она и есть! – отвечает хозяйка, подавая в волоковое окно кусочек обглоданного хлебца.
– Вдова суседская. На краю живет. После мужа в сиротах занищала. Убило его в лесу лесиной, так и не раздышался – помер.
Новый стук, и опять без приговоров.
– Старик Мартын: этот к нам с чужины пришел. У нас на деревне пристал. Живет который уж год!
И этому подали.
– Сами-то вот собирать не выходим, так к нам идут, – объяснял старик-дед мудреную истину простым, немудрым и охотливым словом для нас лично.
Больше стуку мы не слыхали: значит, все прошли и всех оделили.
– У нас их всего трое, – объяснил дед своим хладнокровным, спокойным тоном. – В соседней деревне их пятеро: тем тяжелее нашего. В богатых селах десятками убогие водятся.
И стал рассуждать: отчего это так?
– Богателей ли там завелось много, и много они едят, и все они пожирают, ничего другим не остается. Как судить? Думал я и так: на богатого, мол, бедность веру кладет и к нему подселяется, и выходит: чем больше – тем хуже. Промеж себя бедность не сговорится, наберется ее много: со всеми-то и не сладят, всех-то их и не прокормить.
Думал я, вот видишь, и на хорошее, а никак в разум свой взять не могу, отчего это в больших селах и городах всякой нищей братии много? Каких хочешь, тех там и просишь: и слепых, и зрячих, и хромых, и безногих. Одного парнишечка за руку водит, иного товарищ возит на тележке – такую маленькую приладили. Во Мстере видал такого, что на одних локотках ходит и не говорит, а мычит, словно теленок.
На что только произволение Божие не простирается за грехи наши? И хоть весь ты свет обойди, а во всякой деревне на убогого человека попадешь, а нет – так и по три, по четыре ведется. На всяком вот православном селенье экая повинность лежит – надо так говорить. Никто ее в счет не кладет, а всякий платит, со смирением, по Божьему указу, вон как и наши же бабы даве. Как вот это дело теперь рассудить? Ну-ко, братцы, подумайте!
III
В бесчисленном и несоследимом сонмище, вдоль и поперек бороздящем всю Русь, с самого его основания, под разными видами неимущего лица и под общим названием «нищей братии», так же как и между просителями на построение церквей, играют на две руки.
Одни в самом деле нищают, придя по силе обстоятельств в крайнюю бедность, и при недостатке сил или энергии ноют под чужими окнами и вымаливают себе насущную помощь. Другие, с примера и в подражание этим, нищатся, как верно выражаются в деревнях, то есть притворяются нищими и побираются именем Христовым без нужды.
Все они одной масти даже и по мундиру, но при внимательном взгляде на внутренние качества не только подлинные нищие и притворные побирухи, или, как тот же народ называет их, нищеброды, не походят друг на друга, но и в каждой из двух родовых категорий встречаются по нескольку видовых подразделений.
Об них-то и пойдет настоящий рассказ наш в продолжение прежних о ходоках и шатунах, разгуливающих по белому свету и действующих Христовым именем и Христа ради.
«Христа ради», как уже не нами сказано, бывает разное, хотя не только нет города, но и какой-нибудь деревушки на Руси, где бы этих невеселых слов не было слышно одновременно в противоположных краях селения, по неотложному наряду, ежедневно. В деревнях – каждым ранним утром, чуть забрезжит свет, когда крестьянская бедность, способная работать, надеяться и еще не отчаиваться, потягивается и позевывает, приготовляясь топить печи, и вскоре захочет есть. В городах, где толсто звонят, да тонко едят и где живет изверившаяся до отчаяния мещанская голь, неизбывное «Христа ради», вытягиваемое зяблыми и надтреснутыми голосами, слышится без разбору круглый день, с утра до вечера, пока сияет свет и пока непроглядная темнота не распутает всегда робкую и запуганную честную бедность.
Деревенское подоконное «Христа ради», по домашнему положению и взаимному договору, бесхитростная, прямодушная и грубо-откровенная голь из самого ближнего соседства, двор о двор одной деревни и много с поля на поле соседней. Голь, впрочем, настоящая: сгорбленная и оборванная, очень растрепанная и неумытая, с робким запуганным видом и голосом, с длинной черемуховой палкой в руках и перекинутым через плечо к левому боку на бедро холщовым мешком.
В нем вся цель жизни и ее секрет, для него все хлопоты и мольбы, и на этот раз уже только о малых остатках и объедках, что убереглось за ночь от тараканов и завалялось на столе после ребят.
Эти и не всегда поют под окном, ограничиваясь стуком черемухового падога в дощатый подоконник, и молчаливо выпрашивают обычную, неизбывную подать, давно заусловленную и всегда обязательную.
– Тук-тук! – слышим и разумеем. Разумеем так, что подать сейчас надо. Вчера не выходил и не собирал: значит, доедал сборное третёводни. А сбор, надо быть, задался хороший: на два дня, вишь, хватило.
– Принялся стучать в другой раз – значит больно есть захотел.
– На вот, прими Христа ради! Держи полу, лови обглоданный ломоть черного хлеба либо кусок пирога с кашей, также черного и недоеденного, а то – на большое счастье – и оба вместе. Прими – не прогневайся!
– Чего гневаться? Голодному кусок за целой ломоток: вон уж от голоду-то и живот подвело, и заикалось.
А то и так (что все равно): поискала баба на столе, пошарила в столе и под стол заглянула – хоть шаром кати.
– Нету, Мартынушко, у самих, родимый человек, нету. Приходи в другой раз. Либо ребятки подобрали, либо телка стащила, ни кусочка нет. Не прогневись, Христа ради.
– Кому гневаться-то велишь? Кому ты так сказываешь? Тот ли я человек, чтобы губы надувать? У тебя не нашел, может, Василиса выбросит. У Маланьи вчера блины по покойничке по ихнем пекли, туда пойду. Свой ведь я человек-от. Со своей нуждой никак не слажу, а про вашу нужду тоже доподлинно знаю. Ну-ко полно – Христос с тобой! – чего мне на тебя гневаться? Другой раз и впрямь подашь. Сколько уж я у тебя перебрал, а и ну, поди, много! Свои люди, суседские люди!
В самом деле – свои: убогий идет прямо-таки из той склонившейся набок, худо выкрытой избы, но еще не обессилевшей по углам до того состояния, чтобы не сдерживать тепла, прямо-таки из той самой избы, которая еще не превратилась в баню, однако вытеснилась из ряда прочих изб на край, на самую околицу селения. Выделилась же она туда по тому же необъяснимому и повсюдному закону, по какому и в церквах та же неимущая братия протискивается к самым дверям церковных выходов и не дерзает подвигаться близко к середине, а тем больше к иконостасу.
Да и эта изба не своя, а пригрел в ней также бедный, но сердобольный человек на таких коммерческих условиях:
– Места не пролежишь: бери его под себя. А насчет пищи: сама в мир хожу, чужие окна грызу. Пищу сам промышляй как умеешь. Если хворосту в печь насбираешь, водицы из колодца выходишь, на что лучше! Мне такие-то и во снах все виделись. На них и свечки к образам ставливала. Разболокайся да живи с Богом – со Христом.
Да еще, сверх того, и пошутила:
– Разживайся с легкой руки угольком да глинкою из пустой моей печи.
Не только раздетую деревенскую бедность, но и одетую для сбора подаяний и, стало быть, для показа в людях во все свое лучшее и нарядное хоть и не оглядывай тот, у кого чувствительное и впечатлительное сердце: нагота и рвань бьют в глаза и могут вызвать из них непрошеные слезы. Лучше, прибодрившись и вооружась терпением, послушаем, что всегда неохотно рассказывает эта бедность, на громадное большинство случаев совсем молчаливая. Да бывают подходящие случаи – можно иногда добиться до откровенности. К тому же теперь нам это сделать легко: их всего двое.
Один занищал во вдовстве и сиротстве от недостатка посторонней помощи и в том возрасте, когда еще есть очень хочется. Другой ниспустился до беспокойного положения нищего от совершенного одиночества в свете. Сходство между обоими можно наследить простым глазом, а до неизбежного различия между ними и случайных особенностей можно дойти расспросами. Занищавшее вдовство болтливо: у него на вопросы – целые повести, где граница между житейской правдой и доморощенными выдумками давно уже стушевалась. Надо было вызывать сострадание, стало быть, подкрашивать беды. Сначала самому не верилось, потом привычка взяла верх, и пришлось укрепиться на вымысле, как бы подлинной истине и бывальщине.
Однако, очистив налеты фантазии, можно получить самую нехитрую повесть, завязка которой сведется всегда на одно.
Покойничек зашибал с горя; перед смертью всего пуще. Век проживал он сиротой и в малом достатке. Маялся с нуждой и старался одолеть ее трудом. Работа не вывезла и сломила: весь словно развинченный стал. Как не зашибать! Думал все худое, все походя проклинал, а сам перестал беречься. Хоть бы сдохнуть-де поскорей. А там все равно: на руле ли, плывя на барке, не уснаровил – и ударило этим бревном так, что мало сказать, дух на месте вышибло, да еще и в воду выкинуло. С овина ли сорвался со всего маху грудью на бревно. Дерево ли в лесу рубил и надрубил его, и трещит оно – и покачнулось, отскочить в сторону хотел, да не уснаровил, словно подпихнул кто под лесину: раздавила она всю грудь в доску. Подобрали холодное тело товарищи, притащили к избе, сказали жене:
– Прибирай-ко!
Всплеснула она руками, бросилась на холодное тело и завыла, сперва нескладно, что пришло на ум, а потом опамятовалась и наладилась. А так как выла она целые сутки недаровым матом, не переставая, на всю деревню, то все соседи, один за другим, переслушали ее, а бабы даже и переплакались все. Досужие подвывали.
На этот случай давняя практика с отдаленной старины приготовила для них складные причитания-плаксы, которыми можно и себя высказать, и других вызвать на сострадание и участие[10]10
Одну такую «плаксу», подслушанную мною в Олонецкой губернии (прославленной в последнее время в качестве местности, умевшей цельнее сохранить в себе всякую старину), привожу в том самом виде, как вылетела она из уст вдовы-плакальщицы (олончанки):
Моя ты законная, милосць-державушка!Уж я как-то стану жиць без тебя, круцинная головушка!Круг меня-то, круцинной головушки,Виют витрушки с западками —Говорят-то многи добрые людюшки с прибавками!Как жила я при тоби, моя законная милосць-державушка!Было мни гладкое словецюшко приятное,Была лёкка переминушка,И довольны были хлебушки!Не огрублена я была грубым бранным словецюшкомИ не ударена побоями цяжёлыма,Цяжёлыма – несносныма!Ты придай-ка ума-разумаВо младую во головушку,Ты, законная милосць-державушка:Мни-ка, как буде жиць поели твоего бываньиця?Буду вольная вдова да самовольная,Буду я жона да безнаряднаяИ вдова да безнацяльная!..Не по силушки наложат работушку,Не по розмыслам – в головушку заботушку!..И усё буду боятьця, круцинная головушка, теперюшко,Цьто бы витрушки меня не обвияли,Цьто бы людюшки не обаяли!..
[Закрыть].
Потом по пословицам: «На вдовий двор хоть щепку брось»; «С мужем была нужа, без мужа и того хуже, а вдовой и сиротой – хоть волком вой».
Вдова в крестьянстве нищает первою.
Занищала и пошла по дворам: в первое время горе выплакивать, утешение получить, а потом уже окончательно с одной целью: с горем мыкаться и жалобиться.
Да и соседки зовут:
– Сегодня пироги я пекла – заходи-ко отведать!
– Вот ты все в избе-то своей воем воешь: перестань-ко! Приходи в нашу на досужий час посудачить.
– Мужняя-то душенька теперь налетает в избу тосковать по своем. Одной-то тебе не страшно ли там?
– Весельем нашим не похвалимся, а тепла у нас про тебя хватит.
– Тяжело твое дело, по сказанному: вели Бог подать, не вели Бог просить. Как теперь тебе с этим приведется ладить?
Таких ласковых слов довольно. Довольно их для обедневшего и убогого человека – он не заставит просить; самому надо где-нибудь приклонять головушку. В своей избе теперь не сидится; в чужой словно бы рай Божий. В своей избе – вон стол в парадном переднем углу, на нем еда лежала, а теперь сам кормилец лег: синий весь, лицо такое-то черное, что и признать его нельзя.
Вон и кутной угол, хозяйский, сиживал в нем покойничек и все молча копошился, а в разговор когда вступал, хороших слов, как замуж за него вышла, не слыхивала: все говорил про великую нужду да про разные печали. В куть, по смерти его, и взглянуть страшно. Нужда теперь и без него изо всех углов кричит, а того пуще из переднего левого, угла бабьего: как вернулась с погоста, так и печь не тапливала.
– И хорошо это: взглянешь когда ночью на покинутое место, так и толкнет в сердце, и замрет оно; и горло схватит, и слезы подступят. Хорошо еще, когда голосить захочется: в причитаньях одних только и спасенье. А вот в чужой соседской избе про все это и забудешь, оттого туда так и хочется.
Стыдно калике в мир идти, а попустится на такое дело – не попомнит, стыд совсем забудет.
Выходя в чужую избу вдовьим обычаем, по сиротству, порядок соблюдать немудрено (этому делу и не учат – само дается). Отворила дверь, вошла, помолилась в передний угол; но, и поздоровавшись, не пойдешь туда, а сядешь тут же, где стоишь, у самой двери. Передний, правый угол затем и зовется большим, что сажают туда только дорогих гостей: попа-батюшку, своих да богоданных родителей, кумовьев да сватьев (и чем крупнее человек, тем глубже, под самые образа). В левый передний, отведенный обычаем бабам, для их стряпни и работ, тоже сироте не двинуться без зову и позволения: не всякая любит, чтобы в ее горшки заглядывали да плошки обнюхивали. Такое же святое это место, как правый задний угол – хозяйский кут.
Вот это место подле него, на кончике лавки и у самого косяка входной двери, – самое подходящее, сиротское. Конечно, по знакомству и соседству, долго на этом месте сидеть не приведется, а все-таки присесть надо уж потому, что всякий это ценит.
После того как ясно покажешь, во что теперь себя во вдовстве ставишь, хорошо бывает: почитают. И почтение это, конечно, выходит из сердобольного левого кута, куда после приглашения хоть и за самую перегородку ступай: значит, подлинным гостем сделалась.
Однако не гостить пришла: и сама это твердо знает, и другие понимают. В хлебе-соли не отказывают. Иная за большой стол не сажает, а куском не обходит, привыкши обычаем кормить голодных соседок тут же за перегородкой, у печи. При этом, конечно, поесть раз и два чужого – невелика хозяевам убыль. Вот в третий раз зайти – не только-то легко придумать, как это складнее сделать, не всегда войдешь сразу. А ну оговорят? Бабы не оговорят (разве какая уж злая), у баб мягкое сердце, а вот мужики…
Мужики страшны: супротивное и сердитое слово у них спроста сказывается; на оговор слово скоро покупается, и не за большую цену. Мужиков надо обойти так, чтобы не казаться им лишним гостем, объедалой да опивалой.
– А чем заслужить? Мудрено ли: под праздник можно напроситься столы поскоблить, лавки помыть, а под большие праздники и стены с дресвой прочистить, и полы ножом оскоблить, и отымалкой вымыть.
– Про помощь бабам и сказывать нечего: там всякая в угоду, так как на них лежит вся домашняя обуза по самое горло: немножко, на соломинку малую подмогу сделать – им уж и легче, они уже и чувствуют это и благодарят. Помочь постирать, баньку истопить, пошить, попрясть, поткать – столько работ, что и не пересчитаешь, столько случаев угодить, что на каждый день набрать можно, была бы охота.
Да когда и работ нет – угодить бабам нетрудно по той общей женской слабости, для которой в деревнях и в ближнем соседстве пищи более, чем даже где-либо.
– Вот ты по домам-то ходишь, не слыхала ли чего, не порасскажешь ли?
– Не токмо, мать моя, слышала, а вот – надобно, побожась, сказать – сама все видела. Вот этими самыми глазыньками, что и на тебя же гляжу, все, боярынька моя, видела. Расскажу тебе так, как уж и никому не рассказать. Вот прислушай-ко.
И дух захватило, и даже в горле щелкнуло: так опрометью и накинулась она с разговором:
– Вот сидим мы это, матыньки мои: так вот я, так-то она. Сидим это на лавке-то… котенок под боком мурлычет. И котеночка этого я им принесла, выпросила: отдайте-ко, мол, котеночка-то, такой уж у вас пригожий вылизался. Бери, говорит, неси, говорит, не жаль, говорит: у нас, слышь, опять кошка-то сукотной ходит. Вот мурлычет это котенок-от: «Вилы-грабли стог метали», так-то истово выпевает. Сидим это, гуторим, разносчик-то этот кудреватый и входит. Входит он это, сударыни мои…
И пошла, как вода сквозь прорванную плотину на мельнице. Хоть бревна и валежник закатывай – не поможет.
Задумчиво стояла вода в омуте, повиновалась и не шелохнулась, пока не было выхода, а прорвалась, нашла выход – молитесь Богу: сама она теперь все свое возьмет, вырвется на свободу. Подхватило – и понесло.
Нищенке того и надо было, да и бабам того же самого.
Осенние вечера длинные, а зимние еще того длиннее; временем подремлется, временем веретеном посучишь. Чтобы не очень смаривало, достанешь с печи сухое березовое полено, лучины нащиплешь. Больше, пожалуй, ничего и не придумаешь. А так как таких будничных вечеров впереди целая сотня, то и велика бывает радость, когда доведется хоть один такой вечер провести непохоже на прежние.
Запрос с одной стороны вызвал предложение услуг с другой – наладился взаимный обмен. За товаром ездить недалеко, сам напрашивается на руки. Как приобретение его из первых рук, так и сбыт его в качестве ходового и всеми нужного производится обыкновенно самыми простыми способами.
Деревенский быт не умеет разнообразить сорта его, а обмен основывается на двух лишь способах: на требованиях со стороны потребителей, а при отсутствии его – охотливым предложением самого производителя – первых рук в этом живом деле. Зато они и становятся очень хлопотливыми, не зевают и не дремлют, непоседливо стараясь о запасах и новых приобретениях, не особенно хлопочут о фальшивом и подлинном товаре. Главная забота заключается лишь в том, чтобы тот или другой имелся всегда налицо и в готовности. Пришел производитель со свежим товаром в избу покупателя и стал товар свой раскладывать и показывать, между прочим, такого, например, сорта и достоинств:
– Ушли, желанная моя, солдаты-то. И сама так-то я рада, что и сказать тебе не могу. Курочка-то у меня хохлушка была, знаешь ее? – ведь один пострел поймал и головку отвернул таково-то скоро. Я глазом мигнуть не успела, а он ее и за пазуху спрятал.
– А у шабра-то, желанная моя, молоко все выпили: и свежее, и кислое. И творог поели. Идут да только усы обтирают.
– С мужиками-то в кабаке водку пили. Из кабака и в дорогу ушли. И тот-от, что отстал от них, и тот убеждал догонять, и так-то он перебирал ногами-то по дороге. Надо быть, строго у них это. Бесстыжая-то девка ведь за деревню выбегала, провожала его.
– По матери, сударыня, по матери по своей. Сама ведь ты помнишь покойницу-то.
– Хорошим словом не помяну. Как солдаты-то летом стояли, видал ли ее кто за работой? Все с ними. Провожать-то их куды ходила! Пять недель в деревню-то не показывалась, а пришла вся избитая, в синяках, а левый-от глаз так ей разворотили, что я как увидела, так и ахнула.
– Не похвалю я, мать, соседушек наших – нечем. Поглядела я на них в то время. Да и все-то наши бабыньки – не тем их помянуть.
– Да вот, желанная моя, взять бы теперь, к примеру, эту…
Нищенка показывала рукой на соседнюю избу и взяла в пример ее, взяла другую, представила третью. Про всех и каждую она знала больше других, и теперь уже не столько по любви к искусству, сколько уже по прямой своей обязанности. Не смотрит она на то, что этот товар старый и залежалый, – найдется у нее по первому же спросу и требованию свежий и новый.
– Попы-то со святом ездили – ведь дьякон опять крест обронил. Проезжие мужики нашли уж и принесли ему, а он третий день и глаз не открывал: все спал, сказывала дьяконица. Проснется когда, попросит кваску испить, да и опять спать. Уж и попы наши!..
– Что говорить?!
– Не то со святом, не то за сбором. Я с петухами поднялась, уснаровлю, думаю, к обедне. Пошла на село, а там, слышь, четвертое воскресенье не звонили. Дьячок навстречу попался – телку свою искал; что, мол, Изотыч, будет обедня-то? Большой, слышь, не будет, а я маленькую без звону разогрел да сам и сладил, а ты-де, говорит, опоздала.
– Уж и поповны у них!
– Есть ли уж другие экие глаза завидущие? Все-то бы она у тебя взяла, что видит. Все-то бы она выклянчила, и всего еще ей мало. А ведь грех сказать, чтобы нужда их больно велика была, такие, знать, урождаются.
– Станем, к примеру, говорить хотя бы про протопопицу… али бо дьяконицу…
А станет говорить – все знает, нуждается только в одном подговоре. Поддержи, подскажи, подмажь машину, подсыпь зерна – жернова молоть не перестанут, и целые годы они не перетираются.
– И какие у вас, у чертей, у нищенок, языки длинные! – в удивлении и с досадой скажет мужик.
– С моей бабой вас на одну осину вешать.
– Кто бабьим сварам заводчик? Они! – подскажет другой недовольный.
– Скажи на милость: сидят бабы по избам шелковые, как овцы смирные, – пиши ты их на икону – совсем святые. А побывай одна такая-то – словно она в баб-то зелья какого насыплет; откуда у них разговор возьмется: и повеселеют, и загудят, что рой пчелиный, и на месте не посидят – всю-то избу выстудят!
У меня все переругались. Большуха которую-то сноху приколотила даже. А все нищенка чего-то ей нашептала.
– Я вот диву даюсь: все-то они, брат, знают.
– Мудреное ли дело? Ты вон по двору-то ходишь, навоз, чай, к лаптям пристает, много его за день-то в избу натаскаешь. Пройдись-ка по двору-то другой раз, что у тебя на лаптях-то будет? Как им не знать, шлюхам!
– Я, брат ты мой, одной такой-то до Дмитриевой субботы и глаз к себе не велел казать.
– Уж очень смущают, хуже солдат – надо говорить правду.
Говоря правду, нельзя умолчать о таких особенностях, какие представляют собою эти люди, неизбежные для каждой православной деревни.
Вот они, за поголовным безграмотством сельского люда, живые ходячие газеты с внутренними известиями из самого ближнего соседства; толковые из них даже с курсами и биржевыми ценами, установившимися на известный продукт также на ближайшем базаре, и всегда с обличениями самого сердитого свойства. Разница в том, что опровержения на них считаются ненужными.
– Что ты возьмешь с убогого человека – тем ведь кормится.
Однако от их ока недремлющего, и от старости, и по обязанности шаловливая молодежь хоронится в овинах и за гуменниками, а старческий грех уходит даже в дальние деревни. Нравов они не исправляют, а в понуждениях к укрывательству греха и порока оказывают некоторую долю участия. Деревенские драмы, супружеские измены, любовные связи молодых пар без них не узнают, а с ними, искусившимися в наблюдениях и опытными при частых рассказах, охотливый садись, слушай и составляй руководящие правила из того материала, что ласкает суеверное воображение, и из другого, пригодного для житейского руководства супругов и родителей. Для тех и других они непокупные блюстители и даровые приставники.
– И парня-то, как через тын перелезал, хоть и в спину видела, а по кушаку да по сапогам признала. Ее-то, срамотницу, так в бесстыжую-то рожу и разглядела, как в зеркальце: она, мол, самая, потаскушка экая!
– Покупал, мать, твой-от на базаре в городу морковь и снес сударушке-то своей: и как морковь-то грызла, видела, и обглоданный-то хвостик под окном на завалинке валялся – видела. Меня не проведут. Мне бы вот к ней в деревню-то только зайти, обоих бы на чистую воду вывела.
– А пойду! Мне, мать, больно щец с убоинкой поесть захотелось, а там обещались. Так мне щец захотелось, что и рассказать не смогу. Яичек я, матынька моя, ни печеных, ни вареных и не помню когда не отведывала. И каковы они на скус-от, забыла совсем. Даже вот сплюнуть теперь захотелось. Прости-ко ты меня на этом, не гневайся!
– Хотела я у тебя попросить…
И вкрадчивым голосом попросит и выпросит. Заручившись даянием, она обяжется новым поручением, примет на себя другую роль и выполнит волю пославшей так, как будто получала годовое денежное обеспечение.
На нищей братии и кроме этих случайных и экстренных надобностей лежат другие обязанности и службы, сделавшие их неизбежными в деревенском быту по прадедовским преданиям и по вековой деревенской вере.
Надо сварить овсяной крупы, припустить туда немножко меду и идти в село помянуть родителей на Радунице (во вторник на Фоминой неделе) и на Дмитриеву субботу (осенью). Кто лучше помянет? Чья слеза и молитва скорей и легче дойдут и до родителей-покойничков, и до самого Бога?
Конечно, нищей братии, которая тут на погостах про эти случаи собралась вся и готова к услугам.
К кому может обратиться за помощью тот, у кого родятся дети да и не живут?
К нищей братии: отдай ребенка в окно первому убогому человеку, который придет за милостынькой. Он примет дитя, поласкает его на улице, обнесет кругом дома и отдаст в двери – будет жить. Убожья рука счастливая.
Печет боязливая баба по обету на весеннего Богослова (8 мая память евангелиста Иоанна Богослова), чтобы урожай был на яровое, которое с этого дня кое-где и посеют. Кого теми обетными пирогами будет она угощать, задобривая на молитву?
Опять-таки нищих и странников. Это их праздник с пирогами, весенний.
Летом варят для них мирскую кашу, тоже в качестве угощения, на приметный в крестьянстве день Акулины (13 июня), который зовется и «гречишником» (за неделю до него или неделю после сеют гречу), и «задери хвосты» (потому что на скот в поле начинает нападать мошка).
Зимой нищей братии опять почет на Никольщину, когда все варят пиво и все перегостят друг у друга.
– Всего припасено, будь добрым соседом, не мысля зла, будь молельщиком, вспоминая про живых и умерших: все милости просим брагу пить!
В той же Владимирской губернии соблюдается очень древний обычай (и в особенности твердо около Шуи, Мстеры и т. д.), оставшийся, впрочем, только у староверов. Этот обычай – тайная милостыня всем беднякам (и прежде других, конечно, нищим) от тех, у кого окажется в доме опасный больной или налетит на семью и дела поветрие бед и напастей.
В милостыню полагается: гречневая крупа, пшено, мука, печеный хлеб, и в особенности белый, вроде баранок, восковые свечи и деньги. Разносит тайную милостыню избранный человек ночью самым осторожным способом, чтобы не открыть и не указать на того, кто послал. Выбирают обыкновенно женщин и девок, которые кладут милостыню, как в Шуе и около, на окно или отдают, как во Мстере, на руки кого-либо из домашних, вызванного легоньким стуком к подоконнику. В последнем случае тот, кто подает, закутывается и обвязывает все лицо платком, кроме глаз. Нашедший неожиданное подаяние обязан помолиться, а такая молитва, думают, очень верно и скоро избавляет от всяких бед и напастей.
Словом, в течение всего круглого года для убогих людей – готовая помощь и пища с древнейших времен, как только спознала Русь христианство. А сколько во все это время для пущего укрепления в народе высокого значения милостыни наговорено было в церквах проповедей на легкую тему псаломского стиха: «Кто убожит и богатит, смиряет и высит, восстановляет от земли убога и от гноища воздвизает нища». Или на столь любимый ленивыми попами и молодыми семинаристами текст для проповеди: «Милуйя нища, взаим дает Богу».
Короче сказать, для нищего на Руси, на проторенных дорогах – мягкие пуховики и горячие яства у того самого люда, который давно сказал себе в поучение и правило для жизни: «В окно подать – Богу подать». Или: «Подай в окно – Бог подаст в подворотню» – то есть незримо, и неожиданно, и много.
Вот те неиссякаемые источники, из которых берет себе неисчерпаемое количество пищи стоголовое и пестрое чудовище – нищенство.
IV
Ежедневно прокармливаясь от деревенских соседей по их непривычке к отказу, имея даже свои праздники и обетные дни, по древним народным законам, с тех давних времен, когда у московских царей при дворе содержались даже придворные «штатные» нищие на случай известных церковных обрядов (вроде омовения ног), – деревенское нищенство далеко от опасностей голодной смерти, но не чуждо некоторых продовольственных кризисов. Выпадают на хлеб недороды, когда нищают самые деревни. Выпадают на самих убогих такие недуги, что нельзя подняться с места и выйти за сбором; в свободное время еще могут вспомнить, что давно-де не стучал под окном, и проведают; но в рабочую пору, когда по целым дням все на работе, кроме старых да малых, можно заболеть и помереть, так что никто не спохватится.
Во избежание таких-то случайностей убогие люди стараются жить в товариществе, на крайний случай – вдвоем. Этот способ еще и тем хорош и удобен, что занищавшего до ходьбы по подоконьям совесть зазрит просить у соседей, словно бы по наряду, а чужой пришлый в товарищи – этот стыду не причастен. Из своей деревни легче сходить за сбором в чужую, приятнее постоять на сельской паперти; по соседским избам удобнее походить гостем, с вестями, как будто за нуждой и по приглашению (хотя бы и со сплетнями). Чужому человеку этого всего соблюдать не надо, с него и не спросят. Пришлому чужому легче и сподручнее устроить наряд ежедневный и стучать падогом в подоконную дощечку, пока не обругают, не выбранят за докучливость и навязчивость: у нищего на вороту брань не виснет. А сбирать в две руки в одно место – двоякая выгода: и больше будет, и запас остается. Нахвалят бывалые люди какое-нибудь бойкое торговое сборище, прослышишь от других про иное святое место, куда собирается народ тысячами помолиться о хлебе насущном и об избавлении от всякого зла и от лукавого, захочется тут и там попытать: вдвоем легче и любовнее и место найти, и там не затеряться. Одинокие убогие так и стараются всегда жить вдвоем; иначе их представить себе трудно.
Вот вдвоем же поселились и эти наши знакомые. Вся трудность для них в согласном, небранчливом и недрачливом сожитии. «А легко ли это?» – спросим у соседей.
– Ну да сами не видывали, не слыхивали ни брани, ни перекоров, а поди – и у них со всячиной.
– Народ-от они собрался разной, – подсказывает дед и смеется.
– Матрена-то «собери домок», скупердяга, а товарищ-от ее – распустеня: огонь, стало быть, да масло. Собрались они тут как-то к Угоднику помолиться да и посбирать. Огурцы у нас по осеням-то дешевы бывают, огурцов-то этих им много дали на дорогу. Станут есть огурцы-то даровые – Матрена делит. Делит и меряет: и тут глядит, как бы товарищу огурчик покороче да потоньше выбрать. Мартын этот вернулся с богомолья-то и пожаловался. Слеза у него даже пробивалась. Сказывал: «Я-де вот до соленого охотлив». Без соли ему, слышь, и хлеб – трава. Соленого, говорит, судачка поесть «мне, слышь, и раю этого не надо, про который слепые старцы поют». Знают и наши про экую сласть его и, когда сукрой хлебца подают, круто солят. Он эту соль сгребает, сушит и пасет про тот случай, когда чрево-то его соли попросит. Накопил он ее в достатке и на богомолье с ней пошел. Жадущие-то Матренины глаза соль высмотрели, и она ее выпросила: все-де равно мне ее в одной котомке с огурцами нести. А этот, простота, ей отдал. Запросит – не дает или даст с эстолько, что он заругается. «Измучила, – говорит, – она меня совсем, с голоду морить хотела и злом, – говорит, – она на меня стала пыхать, что змея: извести-де меня хочет». А сам плачет. Ну да и как не плакать такому горю?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?