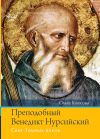Текст книги "Бродячая Русь Христа ради"
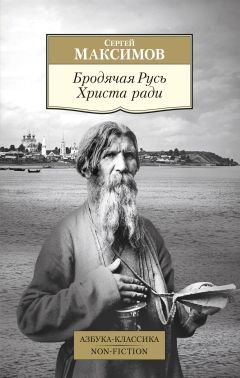
Автор книги: Сергей Максимов
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Глава II
Нищеброды и калуны
Нищий везде сыщет.
Спи да лежи, с богатством сиди, а сердце чует, что в нищих быть.
Пошли торговать – на погорелое собирать.
Народные поговорки
I
На дворе все еще та же осень, сырая и дождливая, с холодком и грязью и с отчаянною бездорожицей, какая захватила меня на р. Клязьме и ее притоках. Озими давно засеяны, и даже везде потушены овины. Кое-кто из домовитых и осмотрительных успел вычинить избу, подбросив свежей соломы на кровлю и нового омялья на завалинки.
Прошел Покров, то есть не церковный праздник, а все то время до него и после, когда кончается старый крестьянский год и начинается новый – не тот, который заказал для городов и чиновников Петр Первый, а настоящий деревенский новый рабочий год. В календарях он не значится и никаким празднеством не знаменуется, но в деревенской жизни и крестьянском быту всеми сознается и сильно чувствуется. У торговых мужиков – сроки платежам; у хозяев средней руки – новый работник: старый, договорившийся, по древнему завету, с вешнего Егорья, отошел прочь. В малосильных семьях – новая работница, молодая баба, которую взяли за сына.
У всех решительно, даже у последнего бедняка-хозяина, с Покрова во всем новь: новь в хлебе, в овощах, новь во всех домашних припасах и материалах, даже до того, что новь и в постелях: старые соломенники сожжены в печи, старые и малые стали спать на свежей соломе. Словом, на дворе стоит то осеннее время, когда, по пословице, и у воробья пиво.
До глухой тоскливой осени было еще далеко: настоящая молодая была в своей поре и силе, хлопотливая и устойчивая в работах даже и в этих местах, по которым едем и где живут самые плохие хлебопашцы и где на земледелие давно уже перестали смотреть с подобающим уважением. Вот не больше месяца тому назад ехали мы по той же Клязьме аргунами, где, по пословице, и лапшу топором крошат: весь народ уходит плотничать. Из 550 деревень, имеющих в центре волость Аргуново, а на стороне – старинный город Киржач, не уходят в дальнюю сторону только 40 деревень, не выбираются на чужбину только несложившиеся в полную силу ребята да совсем рассыпавшиеся старики.
– Наш аргун, – толковали там, – положит на доску два перста и маленько их растопырит, а другой промеж перстов топором рубит и ни одного перста не тронет. Зато аргун в большой славе во всем свете: супротив него не сделать и галичанину. Не повезет ему в плотниках, он сейчас сыграет и на другую руку. Топор за пояс, мешок с рубанком, со стамеской, скажем так, кинет в угол – возьмет лопатку и почнет класть кирпичи. Из плотника произведет себя в каменщики.
По правую сторону верховья Клязьмы действительно живут настоящие каменщики с тем неизбежным условием, что как между аргунами завелись кровельщики, которых зовут лишь крыши крыть, так и здесь объявились штукатуры, которые берутся только отделывать стены. Так вся эта местность и не выпускает из своих рук ни одного строительного дела, знакомого им с издревле, когда ростовцы (по летописному указанию) имели право сказать со зла и в упрек владимирцам: «Вы – наши холопы-каменницы».
Вот с р. Пехры ходят все шерсть бить туда, где стригут овец на две стрижки (весной и осенью), да не умеют ее мыть и пушить. Шерстобитным мастерством всех больше прославились фетиньевцы.
С реки Вязьмы бродят по чужим деревням швецы-портные очищать ту статью в деревенских хозяйствах, которая не попала в руки шерстобитов: овца нестриженая и в племя пущенная, а в шерсти зарезанная для зимней шапки и полушубка. Эти мастера опять на две руки: и песни петь, и сказки врать.
Недалеко, в стороне, и Алексино со всесветными проходимцами, картавыми торговцами-офенями, у которых за великое их мастерство и известность в разных странах России существуют разные прозвища (и таких названий больше десятка). Эти уходят торговать красными и разными товарами, а петроковские мужики – жить в пастухах, чужой скот пасти, на роге играть.
– И никому, – объясняют нам, – на трубе так не сыграть в целом свете. Куда ни придет, где ни скажется владимирцем, других сторожей не надо.
Целое село – колодезники: ходят только колодцы рыть.
– Угадай ты воду, где ее нет и быть ей не показано. А он сквозь землю видит и по опрокинутой сковороде воду смотрит и жилу находит. Сруб тебе сделает, так что никогда не осыплется.
Словом, мы попали в настоящую бродяжью сторону, где живут все выходцы и мастера на все руки. Здесь даже и те промыслы (как скорняжий, кузнечный и кожевенный), которые всюду и все привыкли считать и видеть оседлыми, носят бродяжий, подвижной характер. Под всеми и повсюду лежит земля комлем и ничего не родит, кроме песчаного червя и ни к чему не пригодного, отшибающего от листьев камфарным запахом Божьего дерева (Artemisia abrotanum). Если же и родит земля, то очень скудно: и хорошо удобренная, при десяти четвериках посева, самое большое сам-шесть, а того чаще сам-четверть и даже сам-друг.
Безрасчетное хозяйство беспутных детей расточило богатое наследство отцов: исчезли леса, а за ними обмелели реки и затощала почва в стране, где и самые города получили название от лесов, между которыми малому ребенку известны муромские (древний Стародуб – нынче Кляземский Городок; город Ярополч с урочищем на Вязех – нынешние Вязники) и от плодородия почвы (Меленки, Гороховец).
От такой беды побежали вразброд и взапуски в разные стороны: кузнецы – за сбором старых серпов по окольным губерниям, где успели они наторить дорог для себя и завели знакомство; скорняки и кожевники – «на низ» (на юг России).
Пришел любой из них в знакомое место, поклонился волостному начальству. Собрали сходку. Мироедам и старикам выставил он ведро водки. Стали горланить молодые и старые, стали спорить, норовя перегрызть несогласным горло, и к полудню порешили на том, чтобы не пускать во все деревни своей волости никакого скорняка, никакого кузнеца, кроме этих, которые умеют угождать миру, – народу Божьему, и не давать, помимо их, никому овчин на выделку, серпов и кос для точенья, а отдавать непременно этим и именно по такой-то цене.
Нанял скорняк избу и открыл заведение, заторил квасы, распустил зловоние и тупую косу приладил – ждет заказов. С каждой овчинки дадут ему 5 коп. за выделку, да, сверх того, он на себя же теребит еще два фунта шерсти. К концу работ скорняк может купить пару лошадок, нагрузить воз шерстью, щетиной, овчинами и свининой и возвращаться домой с работниками, которых он нанимает иногда человек до семи.
В одно с ними время бродят и в одно же время возвращаются к домам и те молодцы из-за Клязьмы, которые ходят «по серпы»; каждый в свой участок, ни за что не позволяя себе переступать в чужой. В своем, который достался по наследству, серповщик собирает старые и испорченные серпы, раздает исправленные и продает новые, самим выкованные и вызубренные. Иной сходит по серпы в зиму раза три, но к Пасхе, по последнему пути, на распутицу, серповщики все непременно дома и уже до Рождества Богородицы никуда не трогаются. Скорняки также к первым неделям поста тянутся к своим деревням и до осени остаются дома.
– Непременно до осени дома, – настойчиво замечают нам в тех местах.
Какие бы круги ни огибал аргун, куда бы он ни запропастился, летом домой прибежит, хоть и поздней других. Шерстобит тянет к дому на Пасху; и петроковские пастухи вернулись на осень, на горячее рабочее время; они заручились местом в насиженном углу и подрядились с задатком. Все теперь дома, все при сохе. Так всем и сказано: «Держись за сошеньку – за кривую ноженьку». Все и держатся, творя Господне приказание. Держатся и те, которые за промыслом не бегают, а находят его дома, в ближних людях. Не пашут земли очень немногие. По пальцам малый ребенок сочтет: вот двое – и только. Эти не сеют, но зато на них другим надо хлеб приготовлять: они его едят и покупают.
– Подай-ко светлобожественную иерусалимскую вохру-то! – просит подручного мальчика вязниковский богомаз, силясь изощрять свою речь соответственно своему ремеслу, и круглый год, сидя дома, пишет иконы (все больше Николу летнего без митры и Николу зимнего в митре).
Написанные яичными красками, иконы продает он скупщику-офене, получает деньги и бежит версты за три на клязьменскую Пристань купить себе хлеба на неделю. Покупает его только на одну неделю, и так, чтобы можно было, сверх того, пить три дня «хлебное» без просыпа начиная с утра субботы.
– Уже двенадцатый час, а маменька еще из миру не вернулась! – выговаривает другой вязниковец (сосед первого), посматривая на свои карманные серебряные часы и ожидая матери, которая пошла за милостыней, чтобы накормить ею дорогого гостя-сына.
Он пришел к ней на побывку из дальнего города, около которого занимается мелкой торговлей – офенством. Отдыхая, он во все лето не шевелит пальцем и только шатается по соседям и пирует с досужими и охочими до начала Нижегородской ярмарки. Здесь он заручается у хозяина новым товаром и едет на свое место опять года на три, на четыре.
Оба эти ответчика за десятки волостей – одного отца дети, оба – и сидень, и бегун, потому и перестали сеять хлеб, что за них и для них стали это делать другие.
Наламывая спину и грудь за ткацкими станками, в низких и смрадных светелках и на фабриках, на всякую руку: и ручной миткаль, и красную пестрядь, и набивной ситец, сарпинку и холстинку, ткачи оставляют станы и идут разминать руки и плечи на полевых и луговых работах, которые ценятся дороже и приятнее всякой другой.
В Хритоновщине делают известные на всю Русь косы: с осеннего заговенья куют, с Благовещенья отделывают и точат, но перед летней Казанской и эти мастера запирают свои кузницы и превращаются в хлебопашцев.
– В зимнее время, – толкуют нам, – всякий змеей изгибается, на всякую работу идет: иной по три, по четыре шкуры на себе переменит; летом – все на полевом деле, хоть тресни. Это надо заметить и очень помнить. Каменщик и штукатуром попробует, и мраморщиком скажется: умею-де делать стены под мрамор, а землю-кормилицу и он не забудет, не балуется. Иной и телеги сколачивает, и ребячьи игрушки мастерит другой рукой, а Господню заповедь помнит очень твердо и истово. Почему так? А вот почему.
Самым богатым надо полагать серповщика. Много он ходит, громко стучит, рублей на девяносто в год нагремит и набегает. Кажется, сильнее его и быть невозможно: такой богач. А станешь усчитывать, по делам его деньги разбирать и раздавать и нехотя скажешь: «Беги-ка, брат, и в четвертый раз». Иное – с возом придет и пшенички привезет, а иное – и с пустыми руками, судя по году и по уговору, когда продешевится.
Вот и другие! Как уж за Судогдой в глине круто пляшут и на всякую стать эту глину месят! И какие славные горшки лепят, кувшины делают, на занятные игрушки детские простираются и посягают на всякое дело; бусы, государь мой, мастерят на украшение девичьих шеек! Хорош и горшок в продаже и в деле. Веселые и проворные руки делают их в день до полусотни – эка Масленица! А горшок-от стоит копейку, большой покупают за гривенник. Как ни надседайся на горшках, больше 15 рублей в год не навертишь и больше 30 рублей не выручишь на самых больших и красивых.
– Если взять четвертную за те деньги, что наши мастера выручают, то и будет это так точно и про овчинников, и про тележников, хоть бы пускались эти и на хваленую работу: на черенки для серпов и на мелкие деревянные поделки (по 20 копеек за сотню). Да и то – слава тебе, Творцу Небесному, потому что по-за спиной земелька есть, в кои годы и она выручает. Вот почему всяк бежит к дому на лето, а тем паче на осень озими засевать, убирать яровое. А почему, собственно? Храмина-то в деревне утлая-утлая; вот она и рушится. Мало позазевайся на чужих баб, вовремя догадка не возьмет – рассыплется храмина. Не больно он ее и подновит – по деньгам его сделать этого ему невозможно. Вот он и прибежит домой. Маленько подопрет плечом. На место-то, как надо, хоть не установит, а все-таки стало легче. Бабам он, первое, духу придал и себя обманул. Ну да что станешь делать? Без того все мы не живем на белом свете: такая уж участь крестьянская!
– А на что надежда? Да вот смотри на небо: оттуда ждем.
– Зато уж по нашим местам как хорошо Богу молятся! Нигде богомольнее нашего народа найти невозможно! Раз я под Владимиром с сашеи стал по пальцам считать по белым колокольням: по два раза пальцы-то на руках загибал, больше двух десятков насчитал в одном только месте. Пробовал то же делать под Вязниками – одно и то же. В редком селе нет у нас чудотворной иконы. Почивают по городам нашим святые угодники и князья, и святители: Евфимий, Иоанн и Евфросиния суздальские, Андрей Боголюбский и сын его Глеб, Серапион, Симон владимирские, св. благоверный князь муромский Петр с другинею своею Феврониею, и опять князья муромские Константин, с чадами его Михаилом и Феодором, переяславские угодники Божии: Даниил, Корнилий, Никита-столпник… Да уж, короче сказать, у нас и присловье такое живет в народе: «В Суздале да в Муроме Богу помолиться».
– Теперь, осенью-то, мужику самое бы время Богу молиться, да пробегал он – опоздал; ужо зимой начнет, потому что очень он на этих полевых работах обожжется. Не было еще в наших местах примера, чтобы которому мужику хватало своего хлеба дальше половины зимы, а того вернее сказать – дальше веселых Святок. Без прикупки чужого хлеба никто не обходится. Оттого и нет люднее, шумливее наших зимних базаров; из них всякий походит на добрую ярмарку.
– Оттого-то, как ты вправду назвал, хлопотлива наша здешняя клязьменская осень. От мужика теперь пар валит, мужик теперь краснеет наподобие гусиных лап. Зато в нем и силы растут: он крепнет. Летом наши деревни чуть живы, как осенние мухи: еле в них ходят, едва глазами глядят. Ничего, что теперь в глаза эти пылью порошит: мужик от этого, надо так говорить, как овца, руном обрастает. Скоро его стричь будут.
– Кто первым начнет?
– Первым и здесь всегда стрижет поп. Выезжают попы за новью, за новым хлебом, да и за всем, что успел мужик снять с земли. Ну да у попа пущай ножницы-то кривые: не больно он ими глубоко забирает. Повыхватает с боку да кое-где, с тем и отходит. Самые вострые и прямые ножницы у своего брата. Этого брата зовут торговым мужиком, зовут и мироедом. Такой-то стрижет, знает где и как: прямо до живого мяса и до белого тела. Считать ли других? Боюсь, что и не сосчитаю всех: больно уж много…
– Погорельцы стучатся под окнами после попов. Потом закричат старухи и малолетки: они и поработали, и посчитали урожай – да дыра в горсти, сил не хватило, а в дому таких силачей нет. Походили бедняки по своим деревням, а потом потянулись и на город.
– Наконец, пошли вот и эти, что погорельцами себя любят называть, а на самом деле они этим попрошайством промышляют. За Клязьмой таких промышленников целая сторона, которая зовется и «Черной стороной», и «Адовщиной». Когда все уберутся с полей, а лишние едоки выберутся из дому на дальные отхожие промыслы – для нищебродов наступает первое в году рабочее время. Перепробовал наш народ все промыслы: надо, знать, быть на земле и такому!
II
По торфяным берегам, в поймах Клязьмы-реки и по маленьким речкам, растет козья ива, чернотал (Salix pentandra); забираясь туда, судогодские мужики после Покрова кору дерут с этого чернотала и высматривают для того самое ненастное время, когда эта кора лучше отстает, и тем Бога хвалят; почитают святой труд и не гнушаются работой, которую ценят и хвалят на кожевенных заводах и деньги платят с пучка.
По этим поймам проходят мимо судогодские нищеброды, отвернувшись от мокрой работы, и не останавливаются, глядя прямо и в сторону.
Вот под глазами у них и на той же дороге другие роют ямы и морят в них уголья – тоже продажный и ценный товар. Да, знать, слишком чадна и черна уж работа, и на нее выходцы из Адовщины не глядят и стараются обойти и пройти мимо, все-таки смотря дальше вперед.
Дальше по той же торенной дорожке тянутся артелями пильщики сорить себе глаза и осыпаться древесной пылью и опилками. И это дело адовцев не учит и не занимает, как неподходящее и точно так же требующее труда и терпения; опять дальше и мимо.
Подают готовый пример и другие такие же соседи, которые живут под боком, да и, мало того, сплошь и рядом двор о двор; лепят горшки – товар самый ходовой и почтенный. Материал не покупной, сам под ногами валяется, а товар этот скоро бьется и трескается и на базарах раскупается безостановочно. Да работа грязная; есть много почище, и как она ни проста, бывают другие гораздо легче ее. И через горшки бредут мимо судогодские нищеброды, обходя, таким образом, и мокрые, и пыльные, и черные, и грязные работы, отыскивают и высматривают побелее и полегче.
Такой труд ими найден, и, несомненно, очень давно, не на людской памяти, а именно с тех самых пор, когда земля наотрез отказалась кормить. Стала почва бесплодной, малопроизводительной. Куда ни посмотришь – песок да камни. Хуже судогодских мест, как по всей Адовщине, не придумаешь и не увидишь. А такие скудные места тянутся по всей северной части Судогодского уезда и восточной – Ковровского, от реки Клязьмы до р. Ушны с запада на восток, и от Тетрюка и Кестомы до самой реки Судогды, с севера на юг. Тут и вся Адовщина с деревнями и селами. Если прибавить сюда из Ковровского уезда самый город Ковров, село Мошок да Ильинский Погост (притоны и пристани), то и все нищенствующее государство является в полном виде – величиной и пространством не меньше какого-нибудь столь же древнего и почтенного германского княжества.
Оттуда народ мало-помалу, заведенным порядком расходился в разные стороны на добрые места, не пугаясь даже дальней Америки и неближней России и Африки. Здесь он весь налицо и никуда не смел выбраться с корнем, а обязательно крепился к земле-мачехе, так как такова была для народа сила исторических судеб, известная под именем крепостного права и паспортной системы. Самое имя Адовщины, как искаженное из Одоевщины (по имени владельцев), – имя почетное, историческое[11]11
В этих странах, как известно, самые княжеские роды и прозвища произошли от тех селений, которые считались центральными и главными: князья Стародубские от г. Стародуба, в 12 верстах от нынешнего Коврова (теперь село – Кляземский Городок), Ряполовские от с. Ряполова, от села Пожара – Пожарские, от Палеха – Палецкие и т. д.
[Закрыть]. Когда расположение народа к земледелию и при этом крестьянская бедность (от тяжких работ в диких лесах и на сырой почве) способствовали появлению и развитию на русской земле крепостного права, оно и здесь налегло всей массой своих сил и привилегий. Налегло оно при этом раньше всех и тяжеле прочих и за то, что владимирскому краю привелось попасть в руки первых строителей северорусской земли, и за то, что именно здесь и в крайней близости одновременно совершался акт великого государственного объединения. Главный объединитель русских земель – Москва, кровный родич Владимира, Суздаля и Мурома, – находился всего на два девяноста верст расстояния, то есть на шесть лошадиных перегонов (считая конский бег в 30 верст до места отдыха или смены): посылать и исполнять запрещения переходов с худых земель на хорошие было недалеко и удобно. Самые первые опыты прикрепления крестьян к земле практиковались, конечно, здесь. Самые крупные поземельные владельцы (большей частью из захудалых родов Рюрикова дома) получали взамен отобранных княжеств для кормления и утешения своего – крестьян и угодья преимущественно в этих лесных подмосковных местностях.
Под защитой силы, закона и произвола крепить народ к той земле, на которой кто сидел, не разбирая почвы и сил сидевших, было легко и подручно. Были бы крестьяне на виду и на счету, помнили про владельцев и, неся все законные и противозаконные тяготы, платили повинность – о другом крепостное право не думало. Оно знало и учило крестьян «тянуть по земле и по воде» в ту или другую сторону и не заметило, как от соединенных и напряженных усилий земли затощали, леса вырубились, реки обмелели. У самого престольного города Владимира, с золотыми воротами, по насмешливому народному присловью, остались теперь только два угодья: «От Москвы два девяноста, да из Клязьмы воду пей».
Между тем владельческие путы и цепи не переставали удерживать народ на одних и тех же местах. Когда вольные новгородские люди населили холодный север и выдумали сначала Вятку и Пермь, а потом Сибирь, здесь, в центре Великой России, наросло крепкое земле оседлое земледельческое и городское население, стесняя взаимно друг друга; приростом, истощая почву, но не скопляя богатств. Здесь не медлила проявить себя и борьба за существование, выразившаяся изобретением промыслов во всем их разнообразии: и домашних, и отхожих. Разнообразие их и народная изобретательность дошли здесь наконец до того, что у владимирского края в этом отношении нет уже соперников на всем пространстве русской земли.
Жившим в лесах нетрудно было сделаться плотниками и остаться в условиях этого дешевого промысла, самого первобытного, простого и легкого изобретения. Потруднее и позднее привелось сидевшим на глине стать горшечниками и вблизи болотных железных руд – кузнецами, но еще сподручнее и легче было проскользнуть между ними и попасть на легкий промысел попрошайства и нищенства. Проявиться и укрепиться ему было именно тем и удобно и возможно, что вокруг и около него успели скопиться благоприятная почва и питательные соки, то есть многотерпеливые делатели и плоды их деяний, сказавшиеся избытком или залишком. К укоренившемуся, хотя и дуплистому дереву привилось чужеядное растение и удержалось на нем.
Несмотря на то что в здешних странах, как и по всему северу России, не без труда и усилий водворялось христианство и из Мурома в XIII веке жители изгнали первого просветителя своих стран епископа Василия (за что до сих пор зовут муромцев святогонами), христианство все-таки успело пустить здесь глубокие и надежные корни. Поверяя результаты прошлого наличным наследием, мы видим владимирскую страну во главе и в первых по числу церквей и по количеству духовенства. Христианской проповеди на основное учение о любви к ближнему и на излюбленное о милостыне и преимущественной любви к неимущему, по коренному закону: «Милуяй нища – взайм дает Богу» – было достаточно здесь средств и простора. Подача просящим, благотворение неимущим, помощь страдающим стали таким коренным народным свойством, что в настоящее время творит оно великие чудеса.
Затем, когда облегчен был спрос, гораздо того сильнее и шире проявилось предложение. Нищенству на Руси и поддержанию его всеми зависящими силами открылось широкое и бесконечное раздолье. Народ начал чтить память только тех князей и владетелей, которые были милостивы к нищим. Самых щедрых из них он признавал за святых угодников Божиих. Сам же оставался он настолько чутким к нужде и скорым на помощь, что руководителям его благочестия и блюстителям церковных обрядов приводилось распорядиться лишь назначением обетных дней, посвященных исключительно кормлению нищих, и определить таковые целым десятком на каждый год. Как у удельных князей появились приюты для калек и юродов, а у богатых московских царей даже в самых дворцах отдельные покои для так называемых верховных нищих и богомольцев, так и в народной среде, в каждой деревушке приютились две-три избы, про жильцов которых писцовые книги говорили все в одно слово: «живет мирским подаянием», «бродит за сбором», «кормится нищенским промыслом».
Деревенские порядки эти в целом виде дожили и до наших дней, и старинные крестьянские «сироты», кормившиеся Христовым именем, ходя по городам и селениям, ведут свою жизнь и теперь по тем же приемам, не имея причин и основания считать их незаконными и зазорными.
Если этот неизбывный закон, отразившийся в малом виде на каждой деревушке, мы применим к целым областям (не стесняясь даже искусственно созданными пределами губерний), то встретим то же явление.
Десятки семей, укрепившихся в разумении заповеди, что «от сумы никому отказываться нельзя», не затруднились удержать подле себя единицы престарелых, немощных и ничего не имущих. С готовностью помощи, но не без стеснения себя в своих избытках, они применяют к этим «сиротам» Христову заповедь и по завету отцов, и по собственному произволению.
Сотни селений, поставленных в те же благоприятные условия сострадания и помощи, предлагают услуги десятку деревень, обреченных на тяжелую нужду нищеты от бесплодия почвы и малоземелья, от настойчивого закрепления на этой неблагонадежной земле не знавшим милосердия крепостным правом. Оно не имело нужды и не желало знать, чем питается плательщик податей и каким способом собирает он платежные деньги, и даже готово было, в расчетах личной корысти, поощрять любой из этих способов, лишь бы только добывались им деньги. Всякий был вправе снять с земли и прогнать от себя бессильного работника, хилого и хворого старика. Сотнями указов приходилось убеждать владельцев в том, что малолетние сироты требуют с их стороны внимания и попечения. Не одну такую же сотню случаев указывает история и в таком роде, когда сами помещики поощряли промысловое нищенство, а иногда даже прямо заводили его в своих вотчинах, принимая на себя роль учредителей и контролеров. Почва, к тому же в северных лесных губерниях, всегда была готова, и находились пригодные люди в виде всегда отпускаемых на волю престарелых и больных дворовых людей, когда они, истратив силы и здоровье на барской службе, не могли уже более продолжать работать. А так как владельцы семейства их оставляли у себя, то и приводилось изгнанникам собирать разбитые силы в артельную и начинать в этом виде единственно доступный им промысел. Отсюда, по известиям из старины, на одном Белоозере и на посаде его «домов людей старых, и хилых, и увечных, и которые бродят в мире – 112 дворов, а людей в них 189 человек». В одном этом городе стояло восемь келий нищих и т. д.
Нищенство спасало, таким образом, от голодной смерти и послужило, может быть, лишь одному: увеличению городов и торговых сел, привлекая к ним безнадежных людей, промышляющих попрошайством. Города сами были скудны, а из деревень жители их то и дело отписывали все одно и то же: «Деревнишка наша отдалела, и грязи великие, а нам в той деревнишке не пожилось, хлеб не родится, да и скот не ведется, и от воды далеко». Понятно, что при таких условиях приводилось соединяться не десяткам, а сотням таких селений, чтобы прокормить другие, у которых и эти несчастья разлиты также в обилии, и чтобы дать наиболее крупные доказательства тому закону статистики, что в обыкновенное время 15 человек обязательно и наверное пропитывают одного нищего, а в неурожайные годы – один живет на счет десяти.
Таким образом, среди промышленного и фабричного населения, живущего по Оке и Клязьме и обеспеченного в труде определенным заработком, зародилась эта группа деревень, «Черная сторона». Ее жителям сначала, как и всем, по выражению знаменитого крестьянина Посошкова, не давали обрастать, но стригли, яко овцу, – догола, а когда и «козы не оставили и пригнали в нищету», жители эти стали кормиться Христовым именем и мирским подаянием. Затем по соблазну легкого деяния и веселого промысла они умели ухитриться сменить этот способ прокормления и самозащиты на настоящий промысел. Ближнее соседство богатейшей Нижегородской ярмарки придало этому промыслу прочное обеспечение, дало надежную поддержку и существование его на русской земле укрепило и узаконило.
Впрочем, если оглядимся по всему лицу этой земли, даже не особенно пристально, увидим, что судогодский захолустный угол – не в первых и не в последних, и уловленный статистической наукой закон находит здесь великое множество подтверждений.
Сделаем, кстати, этот опыт простых поверхностных наблюдений.
III
Под самой Москвой, торговой и богатой, в среде промышленного фабричного населения, живущего – по оригинальному народному названию – «на шелку» (то есть на тканье шелковых материй), проявились знаменитые Гуслицы и прославились мастерством и искусством делать фальшивые ассигнации и ходить на всякие темные дела и на легкие выгодные промыслы. Проявились здесь между другими и нищеброды, по неотразимому экономическому закону, с тем лишь различием, что гуслицкие староверы из Богородского уезда тянут на промысел на низ, в богатые придонские страны, к сытым казакам и русским «сходцам», придерживавшимся той же старой веры. Они ездят туда обыкновенно с товаром ежегодно по нескольку раз. Но так как товар этот дешевый и легкий (медные образки) или дорогой и тяжелый, ищущий любителя (старопечатные книги), то гуслицкие купцы больше нищебродят. Они придерживаются старообрядских селений и, шатаясь по ним, собирают на погорелое место. Подают им муку и крупу; берут они и холст, и щетину, продавая там же, на первом подручном базаре.
Нищебродят гусляки усердно и долго. Следом за ними бредут и о бок с ними ходят по два раза в год, из Верейского и Можайского уездов, еще мастера того же дела, также знаменитые ходоки – шувалики.
Знамениты они тем, что в Москве перестали уже им подавать, и от московских чудотворцев привелось им прибегнуть под покровительство воронежских и ходить также на низ и на тот же тихий Дон.
Это бродяги настоящие: ремесла никакого не знают, товара с собой не берут, а идут просто клянчить и собирать милостыню. Все – народ простой и черный: лжет и унижается, что соберет – то и пропьет. В этом они не чета трезвым гуслякам: по постоялым дворам, идя со сбором, шувалики безобразничают, хвастаются, пьянствуют и ведут неподобные речи, а придя домой, остаются такими же.
Гусляк – всю дорогу трезв. Как старовер, он мало пьет водки и во всем воздержан.
Вместо души нараспашку он угрюм и скрытен и для того два языка знает (то есть умеет говорить по-офенски). Дома, в деревне, гусляк все тот же: сдержанный, смекающий про себя и осторожный, умеющий высмотреть и сделать что нужно и можно. В селе Мстере (Влад. губ.), где делают и пишут старинные образа, запретили выпускать в продажу медные; гусляки сделали то, что торговля такими образами с той поры еще больше усилилась: они стали отпечатывать старую икону в глину, в эту форму наливать расплавленную медь, делать другую форму и потом очищать неровности подпилком. Не выходило всех букв, местами выходили лишь точки, но на тельном кресте, например, всякий знал, что должно быть написано «да воскреснет Бог» и что продаются эти изделия дешево: на вес – по 40–45 коп. крупные, по 50–55 коп. мелкие за фунт. Надо капризному богачу на Дону старинный образ прадедовского дела (и денег он за него по казачьему богатству никаких не пожалеет) – гусляк делает образ из зеленой меди, кладет ее часа на два в соленую воду, потом подержит только над нашатырными парами – и готово: как будто сам патриарх Московский Иосиф такой крест носил и таким образом молился. Гусляк и донским щеголихам-раскольницам умел угодить: четырехконечные тельные кресты он делает с арабесками и сиянием, делает и сердцевидной формы, обливая белым и голубым глянцевым слоем ценины, чтобы походили на финифтяные и можно было брать за них дороже.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?