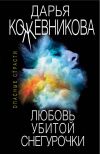Текст книги "Построение квадрата на шестом уроке"

Автор книги: Сергей Носов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
И подбегает к табличке.
– Только попробуй выдернуть!.. Не ты ее воткнул, и не тебе выдергивать!
Послушался – отступил на два шага, уставился на Тамару Михайловну. А Тамара Михайловна торжествующе произносит громкое, непререкаемое, победное:
– Вот!
И поворачивается спиной к субъекту, чтобы приступить к уверенному уходу, но перед глазами ее образуется с большими персями длинноволосая русалка, без вкуса и меры нанесенная на кузов иномарки. Тамара Михайловна замирает на месте, узнавая машину. Так вот это кто! Будто грязью опять обдало. Обернулась – бросить в лицо ему, врагу пешеходов, приверженцу гонок по лужам, как презирает его за его же презрение к людям, – обернулась, а этот уже не здесь. А этот подлец – видит она – к помойке шагает – с противособачьей табличкой в руке.
– Стоять! Не сметь!
Но табличка летит в мусорный бак.
– Ах ты кобель! – кричит Тамара Михайловна и что было силы бьет молотком (у нее же в правой руке молоток) по фаре автомобиля.
Ярость ее и вид летящих осколков стекла сейчас для нее неразличимы, словно осколки летят в ее голове, и в эту бесконечную долю секунды она успевает и ужаснуться, и изумиться, и восхититься собой.
Мат-перемат. У, как она этого не любит!.. Он бежит, размахивая кулаками, – Тамара Михайловна обращается к нему лицом, и пусть он не таращит глаза – она его не боится.
Она даже не бьет молотком, она просто тыркает молотком вперед, а он сам ударяет кулаком по молотку и, взвизгнув, отпрыгивает. Не ожидал.
Тамара Михайловна крепко держит в руке молоток – у нее не выбьешь из руки молоток. А этот сейчас особо опасен – у него от злобы понижен болевой порог. Вот он разжал кулаки и растопырил пальцы – в надежде, может быть, придушить Тамару Михайловну или хотя бы обезоружить. Только она сама наступает. Он не настолько ловок, чтобы, когда она промахивается, схватить ее руку, и получает, попятившись, в свой черед по запястью. И тогда он обращается в бегство, но в странное бегство. Он оббегает сзади машину, и, открыв с той стороны переднюю дверцу, прячется от Тамары Михайловны у себя в салоне – ему словно не руку ушибло, а отшибло мозги. А Тамара Михайловна бьет и бьет молотком по капоту.
А потом по русалке – получай по русалке, кобель!.. А потом опять по капоту!
Сейчас что есть мочи – таков замах – ударит по лобовому стеклу, – и, подняв руку, она видит гримасу ужаса на лице ушибленного врага и бьет, но промахивается: молоток скользит по крыше автомобиля, рука, следуя за ним, разворачивает Тамару Михайловну лицом к подворотне, и Тамара Михайловна, оставив все как есть, бесповоротно уходит.
Кровь стучит в висках:
– Да. Да. Да.
Тамара Михайловна – сама не своя. Своя – только когда сознание отрывает от реальности клоки. Как переходит улицу отчетливо на красный свет, как минует бомжа с бородой, и еще запомнится зонтик, резко уступивший дорогу. Сильно дрожащий, не способный попасть, ригельный ключ. Лёпа глядит на нее непомерно огромными глазами.
Покачиваясь, Тамара Михайловна сидит на краю кровати и прижимает к сердцу зеленого цыпленка, с которым когда-то играла Машенька. Дождь стучит по карнизу. Кричит дворник на чужом языке.
Невероятная усталость накатывает на нее волной. Она падает на бок и сразу же засыпает.
Ей снятся дрожжи. Много, много дрожжей.
Без воротника
– Браво! Браво! – кричат из публики.
Елена Владимировна очень довольна собой: она дочитала стихотворение до конца – по памяти, без единой запинки – не забыв ни одной строки. А стихотворение большое и сложное – про весну, цветы и любовь.
Аккордеонист вопросительно глядит на директора дома – Бориса Борисовича: не пора ли вспомнить о музыке? Борис Борисович стоит у дверей под полинявшим от солнечного света «Пожилым везде у нас почет» и показательно аплодирует вместе со всеми.
Публика не хочет отпускать Елену Владимировну.
– Еленочка, расскажите нам, как у вас с Константином Петровичем было! – просят из зала.
– Елена Владимировна, про рубашку, пожалуйста!
– Про кофточку!
– Да нет же, это рубашка была! Правда рубашка, Елена Владимировна?
– Про то, как с Константином Петровичем, про это.
Елена Владимировна чуть-чуть кокетливо говорит в микрофон:
– Да ну вас! Вы все уже знаете!
На губах у нее яркая помада, на ней бежевое платье с блесками, бирюзовый кулон на широкой ленте.
– Еще расскажи, Леночка! И пусть Константин Петрович тоже рассказывает!
– Сколько можно! Всем надоело уже, – говорит Елена Владимировна, однако не торопится отходить от микрофона.
– Не надоело! – кричат. – Неправда!
– А ты не нам рассказывай! Ты ему – музыканту! Он не слышал еще!
Елена Владимировна глядит на аккордеониста такими глазами, словно его до сих пор на сцене не видела:
– Да он молодой, ему не интересно.
– Ему как раз интересно!
– А вот Борис Борисович, может, не разрешит…
– Разрешит, разрешит!
– Борис Борисович, вы разрешаете?
Борис Борисович ничего не отвечает, но всем своим видом показывает, что это все его не касается.
– Как вас зовут, молодой человек? – спрашивает Елена Владимировна аккордеониста.
– Алексей.
– Простите, как?
– Алексей! Алексей! – кричат из зала.
– Алексей, посмотрите, – говорит Елена Владимировна, – видите того мужчину… седого? Вон, у окна. Это Константин Петрович – моя первая любовь. Ну, может, не совсем первая, я и в третьем классе влюблялась, но первая – по-настоящему.
Оказавшись в центре внимания, Константин Петрович, поощряемый аплодисментами, поднимается с места.
У него дрожит подбородок, но это не мешает ему широко улыбаться.
– Она тогда не говорила… – голос у него сиплый, – что по-настоящему…
– Говорила, говорила, он просто забыл, – весело произносит в микрофон Елена Владимировна. – Увы, Алексей, тогда у нас ничего с Константином Петровичем не получилось. И мы расстались почти на шестьдесят лет.
– Они снова только здесь встретились, – обращается к Алексею полная дама в кресле-каталке.
– Сядь, Костя, сядь, – просит Елена Владимировна. – Я сама расскажу. Был сорок восьмой год…
– Сорок девятый, – отзывается с места Константин Петрович.
– Был сорок восьмой год, мне в сорок восьмом исполнилось восемнадцать.
– Сорок девятый…
– Не сбивайте ее, Константин Петрович! Какая разница сорок восьмой или сорок девятый?
– Как это «какая разница»? – протестует Елена Владимировна. – Мне восемнадцать лет исполнилось, я-то лучше, наверное, знаю…. Костя меня старше на год был…
– Почему был? Он и сейчас…
– Ну, сейчас уже не считается… А тогда он мне цветы дарил. Помнишь, Костя, мы на речку ходили? Алексей, вы даже представить не можете, какой Константин Петрович красавец был.
– Да он и сейчас красавец, – кричат из зала.
– Стеснительный только был, – уточняет Елена Владимировна.
– Да он и сейчас стеснительный.
– Ну, теперь уже не так. У него и внуки красивые. Взрослые и красивые. И все у него хорошо. А я ведь тоже красавица была. Правда, Константин Петрович?
– Да вы и сейчас! – кричат из публики Елене Владимировне.
– У меня поклонников хоть отбавляй было! – гордо заявляет Елена Владимировна. – Я дочь архитектора. На меня родители не жалели ни денег, ни сил, ни времени. И друзья у меня были… интеллигентные. В университете учились… Юра Невельский, Паша Марчук… А Константин был из простой семьи. Но мое сердце принадлежало ему… А какие он мне письма писал, если б вы только знали!.. И вот, Алексей, пригласила я его на свой день рождения, на восемнадцатилетие. А я ведь не знала, что он такой чокнутый. В общем, он устроил драку и убежал. И мы с ним шестьдесят лет больше не виделись…
– Нет, нет, – закричали из зала. – Так не годится! С подробностями!
– А какие подробности? Время, Алексей, было тяжелое. Недавно война кончилась. Пусть Константин Петрович сам расскажет. Константин, встань, пожалуйста.
Константин Петрович снова поднимается, широко улыбаясь. Алексей видит, что дрожат у Константина Петровича еще и руки. Константин Петрович смотрит куда-то в сторону, а с места ему подсказывают:
– Про рубашку, Константин Петрович!
Константин Петрович начинает:
– Пиджак…
– Да нет, про рубашку!..
– Пиджак мне сосед одолжил, а рубашки не было у меня, чтобы в гости пойти… Та, что была, в ней нельзя было, слишком плохая… Сестра моя Зина мне это… свою дала. У нее была такая… довоенная, старая… на меня кое-как влезла… но только спереди вся молью съеденная… а сзади на спине даже вполне…
– Без воротника, – комментирует кто-то из публики.
– Не совсем без воротника – со стоечкой! – поправляет Елена Владимировна.
– Зина и посоветовала: надень ее задом наперед под пиджак, будет это… – он забыл слово.
– Элегантно! – объявляет в микрофон Елена Владимировна.
Константин Петрович согласен.
Елена Владимировна подбадривает его:
– Я еще тогда подумала, такой пришел элегантный!.. Рубашка со стоечкой, надо же…
Константин Петрович рассеянно молчит, глядя теперь в окно.
Мадам в кресле-каталке не дает потухнуть рассказу:
– А дальше, Алексей, было вот что. Было жарко очень. Молодые люди поскидывали пиджаки и остались в рубашках. Только молодой Константин Петрович не снимал пиджак…
– Боже, он мне подарил такие цветы! – перебивает Елена Владимировна.
– Розы, – вспоминает Константин Петрович.
– Никакие не розы! Георгины! Такой букет! Вы не видели таких букетов!
– Ну так вот, – продолжает дама в кресле-каталке, – все сняли пиджаки и стали Константина Петровича уговаривать: снимите пиджак, Костя, вы же вспотели уже. А он ни в какую! И тогда стали дурачиться, я верно рассказываю? Елена Владимировна говорит: снимите с него, в самом деле, пиджак… А то ведь умрет от жары…
– Да нет же, все не так было, это не я сказала, но неважно кто. – Елена Владимировна не хочет, чтобы ее историю излагали другие. – Нет, правда! Мы сначала его по-хорошему уговаривали. А потом думаем, надо же, упрямый какой!.. Ребята на него навалились – давайте с Кости пиджак снимем! Поможем человеку, раз сам не может… А он руками отпихивается. Одного отпихивает, другого отпихивает… Так и не снял пиджак. Дело до драки дошло. А что это, как не драка, если в глаз дал? Дал Юрке Невельскому в глаз… И убежал! А Юрка: «За что? Что я сделал ему?» Мы еще в окно смотрели: бежит по двору! Чокнутый! Ну не псих ли? Мы ведь не знали, что с ним. Что у него рубашка задом наперед и дырявая. Это он мне только здесь рассказал, когда встретились!.. Про рубашку… А ведь я на самом деле только и любила чокнутых. У меня и первый, и третий муж были чокнутые. А второго я плохо помню. А Костю помню, хотя он и не муж никакой. Первая любовь. Ну, не совсем первая… Но по-настоящему – первая!
– Я не знал, что ты чокнутых любишь. Я повеситься хотел, – бормочет Константин Петрович, улыбаясь.
– Хорошо не повесился! – кричит Елена Владимировна в микрофон, и ее слова встречаются одобрительным шумом публики.
А дама в коляске-каталке провозглашает:
– Это ведь чудо! Чудо! Расстались, и через шестьдесят лет снова встретились! Здесь! Это же чудо!
Тут уже все начинают хлопать в ладоши.
Борис Борисович, директор дома престарелых, подает аккордеонисту знак, и тот, склонив голову, начинает играть вальс «Амурские волны».
– Танцы! – бодро объявляет Борис Борисович и выходит за дверь.
Дам приглашают кавалеры, а также другие дамы, потому что кавалеров меньше, чем дам, и придется некоторым дамам танцевать друг с дружкой. Константин Петрович сегодня снова герой и будет сегодня танцевать со многими, но первый вальс, конечно, – Елене Владимировне.
У него получается. Елена Владимировна правой рукой, слегка отставленной в сторону, крепко держит его левую руку, и рука Константина Петровича почти не дрожит.
Вторая сторона
(параллельная первой)
Посещение
1
– Старик не так уж и плох. Сколько ему? Неужели восемьдесят?
– Во всяком случае, не меньше.
– А какая быстрая речь! Какая живость и бодрость!.. Сразу видно, великий ум!
– Ум, несомненно, великий, но иногда за разум заходит.
– Я этого не заметил.
– А как ты мог это заметить, если ты не знаешь немецкого языка?
– Разве я виноват, что он говорил по-немецки?
– А разве тебя кто-то винит? Я и сам не ожидал, что он будет говорить по-немецки.
– Ты первый заговорил. Ты приветствовал его на немецком. Он решил, что мы оба владеем немецким.
– А на каком языке я должен был его приветствовать?
– Однако согласись, твое знание немецкого тоже далеко от совершенства.
– Тоже?
– В меньшей степени, чем мое, но… нет, право, ты должен со мной согласиться… тоже весьма и весьма далеко от совершенства… Не будем об этом. Сколько же мы были там – час, полтора?
– Не более получаса.
– Всего? Мне показалось, что дольше.
– Ты не участвовал в разговоре, вот тебе и показалось. А для меня время промелькнуло стрелой.
– Я участвовал выражением лица, игрой настроений. Или ты не заметил, что он часто обращался ко мне? Словно искал поддержки.
– О да, он ее находил!
– Признайся, ты тоже не был многословен.
– Вежливость не позволяла мне быть многословным.
– Ты очень старался. Ты как будто хотел произнести речь, но забыл слова. В самом начале.
– Пару вопросов я все-таки сумел задать. Этого от меня не отнимешь.
– Кстати, о чем?
– Какая разница? Он ни на один не ответил.
– Мне послышалось или ты в самом деле назвал имя Коцебу?..
– Верно, назвал. Я спросил его мнение о комедиях Коцебу. Надо же с чего-то начать разговор.
– Помилуй, но зачем тебе Коцебу? А ему-то какого лысого нужен твой Коцебу?.. Лучше бы ты спросил о Шиллере.
– Дело не в Шиллере и не в Коцебу. Слава небесная им обоим!.. Дело в другом. Мы приехали из России, не так ли? Ты же не будешь отрицать, что из всех немецких авторов у нас больше всего любят Коцебу. Вот об этом я и хотел ему доложить. И добавить, что мы оба, и ты, и я, не ставим высоко комедии Августа Коцебу. Я хотел сделать ему приятное.
– Немцы считают Коцебу едва ли не русским шпионом.
– Послушай, мне нет горя до Коцебу. Просто я хотел через Коцебу перейти к общеевропейским темам. Взять, к примеру, короля Франции Карла Десятого…
– Надо было спросить о Шиллере. Как-то неловко ты поступил. На худой конец, о Шеллинге.
– Ладно. Как поступил, так и поступил, уже не воротишь. Одним словом, он пробормотал что-то невразумительное, когда я спросил его о комедиях Коцебу, и тогда я немедленно спросил его о поэзии Байрона.
– Байрона он должен любить. Но… почему Байрон?
– Говорю тебе, я хотел перейти к общеевропейским темам. Поговорить о восстании в Греции. Но для этого надо было сказать пару слов о смерти Байрона.
– И ты их сказал?
– С ним невозможно разговаривать. Он не слышит собеседника. Или просто не понимает, о чем его спрашивают. Я его про Грецию, а он мне про Индию.
– Про Индию? А Индия-то откуда?
– Вот и я про то же: откуда Индия? Откуда же мне знать, почему у него все мысли об Индии!..
– Байрон – англичанин, а где англичане, там и Индия.
– И поэтому надо так долго говорить об Индии, когда тебя хотят спросить о Греции?
– Не нужно было вспоминать Коцебу.
– Полагаешь, он принял нас за русских шпионов?
– Только этого не хватало… Но ты сам его смутил своим Коцебу. Когда ты сказал «Коцебу», он растерялся, я видел.
– Слушай, я, кажется, догадался. Он решил, что мы англичане.
– Мы – англичане?
– Да, он так решил.
– Разве мы не представлялись русскими?
– У старика неприятности с головой. Он плохо соображает.
– Тогда понятно, откуда взялась Индия… Но кроме Индии… он говорил о чем-то еще?
– Я понимал далеко не каждое слово, но все, что он говорил, определенно касалось исключительно Индии. Он что-то нес о взаимной вражде индийских племен. Но ведь я его не спрашивал об индусах.
– Да, ты сразу как-то сник… У тебя потух взгляд, я заметил. Стоило ему заговорить.
– Я слушал. А что мне оставалось делать? Я вежливо молчал. Подобно тебе.
– Может быть, в Индии происходят большие события, а мы того не знаем?
– Если бы… Нет, он просто читал нам лекцию. Уверяю тебя. Про индийскую географию, про индийское вероисповедование. Про флору и фауну Индии. В частности про бизонов.
– Неужели ты знаешь, как по-немецки «бизон»?
– Так же, как по-русски.
– Но разве в Индии водятся бизоны?
– Они водятся в его голове. А ты говоришь, великий ум.
– Он все время улыбался.
– Закономерно.
– Жаль, жаль старика.
– Но речь действительно беглая. И бодрости у него не отнять, ты прав.
– Меня другое утешает: ему было приятно наше присутствие. Он был нам искренне рад.
– Другие гости тянут жилы из него и высасывают кровь. А мы нет.
– С нами он мог позволить себе быть ребенком.
– Это мы ему позволили. Слава богу, я сразу понял, с кем имеем дело. Заметь, я ни разу, ни единого раза не перебил его!..
– Ты не поверишь, но я это заметил. И я рад, что так получилось. Все-таки мы поступили верно, когда зашли к нему.
– А ты опасался.
– Будет, о чем рассказать.
– Жаль, что Веневитинов не дожил…
– Нам не поверят, боюсь.
– А кто поверит, умрет от зависти.
– Все-таки мы одни из последних.
– Имеешь в виду посетителей? Не говори так. Долгих лет ему… Но ты, боюсь, прав.
2
Жуайе…
Покатывая мизинцем медный футляр для пера, Эккерман вспоминал. Неужели действительно Жуайе? А почему бы и нет? Фамилии у русских бывают странные. Иные даже более чем… Две тетради лежали перед ним на столе; одна была раскрыта на чистой странице, это его собственная, другая – на записи от 19 апреля 1830 года, – господин Сорэ, чьим дневниковым свидетельствам он доверял, излагал памятный Эккерману случай с важным уточнением: оказывается, фамилия одного из тех русских гостей была Joyeux. Так ли это, правда ли Жуайе – Эккерман уже вспомнить не мог.
Часы пробили одиннадцать. А спать не хотелось. Конец многолетним трудам уже не казался недостижимым. Он вновь перечитывал чужую запись, непроизвольно переводя ее на немецкий с французского – с того замечательного языка, который сам Гёте называл обиходным. Кстати, на каком языке состоялась… или почти состоялась как бы беседа? Судя по всему, на немецком? О, да! Он был благодарен Сорэ: если бы не эта тетрадь, полная ценнейших напоминаний, неизвестно еще, решился ли бы Эккерман взяться за третью часть «Разговоров с Гёте». Сподвижник великого Гёте на поприще естествознания Фредерик Сорэ любезно предоставил Эккерману свои дневники с тем, чтобы память секретаря автора «Фауста» могла поверяться еще одним честным источником. Итак, Жуайе?
Эккерман отвел глаза от тетради и посмотрел на портрет. Света газовой лампы, достаточного для стола, не хватало стене: Гёте словно отстранялся лицом в темноту, но это не помешало их взглядам встретиться. Странное дело, двадцатью минутами раньше Эккерман еще находил то давнее событие совершенно пустячным, он даже склонялся к мысли пренебречь эпизодом с русскими посетителями. Но сейчас происшествие того далекого понедельника показалось ему таинственным и по-своему важным. Он вспомнил, что в обеих, уже опубликованных частях «Разговоров с Гёте» сам Гёте о русских как таковых почти ничего не сказал. О русских как таковых он высказывается лишь однажды у Эккермана – в связи с турецкой кампанией.
Может быть, Эккерман что-нибудь пропустил?
Не слишком ли он расточителен в отборе исторических фактов?
Эккерман окунул в чернила перо.
3
«Понедельник, 19 апреля 1830.
Гёте поведал мне о визите двух русских, побывавших у него сегодня. “Вообще-то они были пристойные люди, – говорил он, – только один из них, мне показалось, был не вполне учтив, он так и не проронил ни одного слова. Вошел с безмолвным поклоном, за все время даже не раскрыл рта и ушел через полчаса с таким же немым благоговением. Надо полагать, он приходил для того только, чтобы потаращиться на меня. Пока я сидел перед ним, он просто пожирал меня взглядом. Мне это наскучило, и я стал пороть вздор, какой только приходил в голову. Насколько помню, темой я выбрал Соединенные Штаты Северной Америки и в самом легкомысленном духе, чтобы не молчать, стал распространяться о разных вещах, имел ли я о них представление или нет. Однако обоим моим визитерам это, кажется, пришлось по душе, ибо, уходя, оба они выглядели очень довольными”».
Плохо это или хорошо, но Эккерман все же пренебрег свидетельством Сорэ, относящимся к фамилии посетителя Гёте.
Переводить русскую фамилию с французского на немецкий язык он решиться не смог.
Что до нас, то мы насчет Joyeux не знаем сомнений. Кто такой Жуайе?
Разумеется, Журавлев.
Фамилию второго гостя История не сохранила.
Проба
Лестница была и темной, и узкой, но могла бы и потемнее, и поуже быть для такого особого случая; окна выходили во двор, сравнительно светлый, он знал, что освещенностью двор был обязан высоте дома – всего-то три этажа, и, бросив взгляд на лестничное окно, решил, что преобразует дом в огромный, высокий, перенаселенный мастеровым людом. Он бывал здесь не раз и хорошо знал эту лестницу, но сейчас, медленно поднимаясь по ней, он рассматривал эти перила, стены и двери, словно никогда не видел ничего подобного. Он почувствовал, что волнение с каждым шагом растет, и, прислушиваясь к ударам сердца, подумал, что так и должно быть, что это и есть самое верное, настоящее. Он не стал торопиться звонить в квартиру – несколько секунд стоял перед дверью, сосредотачиваясь, а когда покрутил ручку звонка, с радостью отметил ту его особенность, что не зазвенело вовсе и даже не забренчало, а точным будет сказать, забрякало, словно не медным был звонок, а стальным. Он вздрогнул. Точнее, он представил, что вздрогнул. Раньше он не обращал на этот звонок никакого внимания, а сейчас подумал, что бряканье это – совершенно особенный звон, обязанный что-то ему напомнить. Боясь испортить впечатление, не стал повторять, хотя времени уже прошло больше минуты. Стоя перед дверью, несколько раз переступил с ноги на ногу, прикидывая, как бы он стоял с топором и, если бы топор был, как бы лучше его было припрятать под верхней одеждой – под пальто, – когда бы на нем было пальто, а не пропитанный балтийской влагой плед, одолженный ему в Копенгагене.
Дверь чуть-чуть приотворилась, и он увидел в узкую щель недоверчивые глазки жильца. Нарочно не стал называться, чтобы жилец рассмотрел его сам. И сам со своей стороны продолжал внимательно следить, как его пытаются рассматривать. Дверь наконец отворилась.
– Федор Михайлович, вы ли это?
– Здравствуйте, Александр Карлович.
Он переступил порог.
– Давно ли вернулись, Федор Михайлович?
– Только что. Час назад еще на пристани был.
– И сразу ко мне?
– И сразу к вам.
Он оглядел прихожую.
– Смотрю, перегородку сняли.
– Помилуйте, Федор Михайлович, не было перегородок.
– Разве? – а сам подумал: «Не помешала бы перегородка».
Ему понравилось, что Готфридт глядит на него вопросительно. Не понравилось, что так легко оказался узнанным. Решил прикинуться, будто думает, что его не за того принимают: за какого-то другого Федора Михайловича. Захотелось посмотреть, как будет.
– Да я к вам приходил как-то… по одному дельцу, может быть, не забыли…
– Как же можно? – изумился Александр Карлович. – Как забыть можно, Федор Михайлович? И не раз приходили. Да что же вы такое говорите…
От неподдельного изумления Александр Карлович будто даже выпрямил спину, так что неисправимая сутулость его чуть ли не сгладилась до неузнаваемости, но тут он порывисто вздохнул, подчиненный силам неведомого натяжения, не дающим сутулому телу потерять прежнюю форму, и вновь стал похож на себя. По этой сутулости, наводящей на мысли о горбе, и особенно по тусклому, подслеповатому взгляду иной кто-нибудь мог бы предположить в нем часовщика – и не сильно ошибся бы, но Достоевский сейчас хмуро глядел определенно на лысину, как-то уж слишком откровенно себя предоставляющую – как-то глупо, дурашливо – под вероятный удар. Не то, не то. Совершенно не то.
Александр Карлович отступил в сторону, пропуская Федора Михайловича в комнату, ярко освещенную заходящим солнцем. «И тогда, стало быть, так же будет солнце светить!..» – как бы невзначай мелькнуло в уме Достоевского, и эта нечаянная мысль ему определенно понравилась. Он быстрым взглядом окинул все в комнате, чтобы по возможности изучить и запомнить расположение. Мебель его устраивала не вполне – дубовая, резная, точно с претензией, он хотел бы попроще – и шкаф, и диван, и овальный стол, и стулья вдоль стены, и чтобы все на солнце сверкало желтизной, как эти рамки на стенах. Картинки в них были по-своему хороши: какие-то девушки с голубями – вот это дело.
Его бы устроил грубый вопрос «что угодно?», но Александр Карлович деликатно молчал.
– Заклад принес, вот-с! – и он вынул из кармана золотые часы.
Вероятно, Александра Карловича что-то смутило в интонации Федора Михайловича, потому что, прежде чем взять в руки часы, он недоверчиво покосился на бороду Достоевского.
– А вы про булавку золотую, – обратился он к бороде, – не забыли свою? Она с апреля лежит.
Смысла в напоминании не было – срок булавке в феврале только. Александр Карлович этими ни к чему не обязывающими словами, вероятнее всего, выказывал гостю благорасположение, но Достоевский счел нужным в них услышать упрек.
– Я вам проценты внесу, потерпите.
И быстро подумал за ростовщика сам, как если бы это тот хотел так сказать:
«А терпеть мне или вещь вашу по сроку продать, это уже моя, батюшка, воля».
Фраза удалась – безжалостная, жесткая; чтобы не забыть ее, Федор Михайлович про себя повторил теми же, не меняя их последовательности, словами. Из уст Александра Карловича он, между тем, услышал другие слова:
– Не извольте беспокоиться. Еще сроку полгода. Будет срок, тогда и поговорим.
Взяв часы тремя пальцами за цепочку, Готфридт продолжал их держать на весу с кислым выражением на лице, словно сомневался, надо ли связываться с этим закладом. От внимания Федора Михайловича не ускользнула чернота на кончиках пальцев Александра Карловича, – наверное, у всех ювелиров так въедается пыль в кожу. Деталь, надо признать, не дурная. Только не для этой истории. Для этой истории ювелир на роль ростовщика не подходит никак. Сколько же можно убивать ювелиров и их кухарок?
– Много ль за часы-то, Александр Карлович?
Поскольку Александр Карлович не спешил с ответом, Федор Михайлович осторожно попытался ему подсказать – навести на желанную мысль:
– С пустяком ведь пришел, не правда ли? Или вы не так думаете, Александр Карлович? Почитай, ничего не стоят, да? Так ведь думаете, да? Сознайтесь, что так.
– Почему ж ничего…
Готфридт открыл часы.
– Были бы серебряные, вы бы и двух рублей не дали…
– Только они не серебряные.
– А пришел бы другой кто-нибудь, принес бы серебряные… студент какой-нибудь… серебряные, отцовские…
– Только они золотые.
– Полтора бы дали рубля… За серебряные.
– Тридцать восемь рублей, – произнес Александр Карлович; похоже, разговор ему не нравился.
– Тридцать восемь рублей! – воскликнул Федор Михайлович с такой поспешностью, словно только и ждал этого. – Вот! Вот и я про то же!.. В Висбадене мне за них втрое больше давали…
– Вы из Висбадена? – оживился Готфридт, он был рад сменить тему. – Как вам Висбаден?
– Не спрашивайте, – сказал Достоевский. – Омерзителен ваш Висбаден.
– Висбаден, Висбаден, – покачал головой Готфридт.
Достоевского передернуло:
– Да – и что? Да – Висбаден, да – я проиграл, да – в рулетку!
Слышал, как сам прислушивается к себе: все одно к одному – быть припадку. Но не сейчас.
Выражение сочувствия, было появившееся на лице Александра Карловича, сменилось выражением недоверия.
– Часы-то выкупили, впрочем.
– Люди хорошие везде помогут, – быстро проговорил Достоевский.
Он бы не стал продолжать, но Готфридт молчал, выжидательно склонив голову набок, словно знал, что рассказ воспоследует непременно.
– Меня бы тут иначе не было, – Федор Михайлович неожиданно хлопнул в ладоши. – А я еще в Копенгаген сплавал, у старого друга гостил. Да что деньги? Знали бы вы, какой я роман пишу!.. Неделю на корабле только тем и занимался, что романом своим!.. У меня только он в голове, даже сплю когда!.. Даже когда с вами разговариваю!..
Федор Михайлович засмеялся, да так, что Александр Карлович зримо поежился.
– Мне Катков аванс выписал, триста рублей!.. Их в Висбаден послали, только я уже в Копенгаген уплыл, переслали обратно, сюда… в Петербург. Вам не представить, Александр Карлович, я домой возвращаюсь, а меня триста рублей дожидаются…
– Зачем же вы тогда ко мне пришли с часами-то золотыми?
– Да вот пришел, – ответил Федор Михайлович. – Мало ли зачем. Затем и пришел, что пришел. На пробу пришел.
– На что? – не понял Готфридт.
– На пробу. Неважно на что. На вас посмотреть.
Александр Карлович почтительно кивнул, словно намекнул на поклон.
– Между прочим, насчет вашей фамилии… Готфридт, это ж по-русски «богобоязненная» будет, или не так?
– Почему ж «богобоязненная»? Я ведь не женщина.
– Разумеется. Но были бы женщиной, были бы «богобоязненной» само собой. А так, понятно, мужчина.
«Да, да, и чтобы деньги на упокой души копила – пожертвовать в монастырь», – обрадовался Достоевский.
– Достоевский фамилия тоже интересная, – произнес Александр Карлович с таким видом, словно отвечал на любезность любезностью. – Так про что же ваш новый роман?
Но охота о себе рассказывать у Федора Михайловича пропала уже.
– Да так, – нехотя произнес Достоевский, – молодой человек становится пленником своей же идеи. Вам, думаю, не интересно. Тридцать восемь, ну что ж! На четыре месяца, хорошо?
Готфридт достал из кармана кольцо с ключами и пошел в другую комнату, – дверь за собой он оставил открытой. Вместо двери Федор Михайлович представил колышущуюся занавеску. Он услышал, как Готфридт открывает комод; вообразил: верхний ящик. Ему захотелось увидеть собственными глазами, он подошел к двери. «Вот, – сказал себе Федор Михайлович. – Самое главное». Взгляду его предстала неподвижная спина, сейчас она казалась особенно узкой, потому что в виду большого комода притязала заслонить от глаз Достоевского сразу все. Готфридт, приоткрыв ящик, ждал, не шевелясь. Достоевский стоял и смотрел. Комод был заставлен статуэтками весь. Федор Михайлович отчетливо видел, что голову Александр Карлович вбирает в плечи, будто опасается нападения сзади. Вдруг он резко обернулся и посмотрел на стоящего в дверях Достоевского. В его глазах отразился испуг. «Статуэтки – лишнее», – решил Федор Михайлович, отступив назад в комнату – поближе к двери в переднюю, и замер на месте. Оба молчали, не шевелились, не издавали ни звука.
Так минута прошла, другая.
– Триста рублей это только аванс, – произнес Достоевский как можно небрежнее.
Скрипнул ящик комода, и снова воцарилась тишина. Достоевский услышал, как Готфридт идет по паркету. «А сейчас он укладку достает», – подумал Федор Михайлович, вспомнив ключ с зубчатой бородкой, превосходящий размером другие ключи.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?