Текст книги "Про армию и не только"
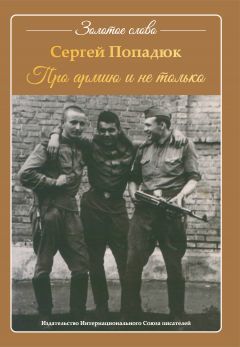
Автор книги: Сергей Попадюк
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Самый веселый фильм
Кино привезли под вечер. Мы помылись после работы и поужинали, и теперь ждали остальных.
Солнце закатывалось по ту сторону поляны. Туда направлены были стволы наших пушек. Туда же уходила, извиваясь, дорога. Разгоряченному за день телу становилось прохладно.
Мы ждали возле большого деревянного здания, которое неизвестно кто и зачем построил в этом лесу, с высоким чердаком и редкими окнами. Одно время оно служило продовольственным складом полка, и до сих пор на стеллажах оставались рассыпанные крупы и вермишель, а наверху, на чердаке, хранилось прелое сено; там была еще машина для резки хлеба: одной рукой надо крутить колесо, а другой – заталкивать в нее буханки, – только она заржавела и никуда не годилась. Мы курили, прислонившись к бревенчатой стене, и поглядывали на дорогу.
Первыми пришли два грузовика из Ляды. Они развернулись среди сосен, и солдаты устало полезли через борта. Мы смотрели, как они подходят, отмахиваясь от комаров. Это приехала восьмая батарея.
Они подошли и встали полукругом, некоторые опустились на траву.
– Закурить дайте, – попросили.
– Что же вы в Ляде не разжились?
– Ну да, разживешься там…
Они разгружали составы на станции и каждый вечер возвращались обратно, поэтому мы не очень их приветствовали. – Кормят-то ничего?
– Кормят нормально. Вот только с куревом плохо.
– А так ничего?
– А так нормально.
Они закурили и тоже стали смотреть на дорогу.
Потом пришла машина с колхозниками. Мы подумали сначала, что едут с лесопилки, и даже от стены отделились, чтобы встретить их, а это оказались «колхозники» – взвод, работающий на заготовке сена. Но мы все равно вышли к ним: они приезжали в лагерь только по воскресным дням. Они кричали из кузова:
– Какая фильма будет? Если опять как в прошлый раз, мы лучше уедем! – и спрыгивали на землю. Лица у них были красные от степного солнца, гимнастерки сильно побелели. – Здоро́во, артиллеристы! Привет, восьмая! Кто тут еще? А с лесопилки не приехали?
Теперь мы все стояли вокруг машин и смотрели на поляну, но не на дорогу уже, а правее – туда, где лес с той стороны близко подступал к нашей опушке.
– Опять им, наверное, гады машину не дали. Замудохались ребята с планом, и машину им не дали. Очень просто.
– Вот кто вкалывает, – сказал Валька Софрошкин. – Вот кто вкалывает так вкалывает.
Он напрасно это сказал, все и так это знали. Все знали, как работают на лесопилке.
– Был я там, да вовремя смылся. Руки отрываются, как вспомню.
Он и это напрасно сказал. Он слишком часто вспоминал лесопилку.
Поляна застилалась вечерним туманом. Мы не расходились от машин.
– Хоть пешком, а придут.
В наступающих сумерках Купалов рассказывал желающим:
– Все у нас хорошо, одно плохо: идти некуда. Потому что хотя и спим на сене, и молоко хлебаем, но все ж таки пустота вокруг. Литер говорит: выполнил норму – отдыхай. Сам же каждый вечер в город на мотоцикле упиливает, к бабе своей, и до утра поминай как звали. Он потому и упиливает, что знает: куда мы денемся? Степь кругом, как ладошка. Выйдешь в поле, сядешь срать – далеко тебя видать.
Около машин сдержанно засмеялись.
– Легко живете, сволочи, – это кто-то из лядовских позавидовал. – Никто у вас над душой не стоит.
– Я же тебе говорю: идти некуда, – объяснил Купалов. – Некуда, и все тут.
– Все равно, работенка не грязная.
– Пыльная зато. Потому и молоко пьем. Вредное производство, понял?
– Вот кто вкалывает, – вставил Софрошкин. – Сено-то небось полегче бревен. А, Купалыч?
– Ладно, брось, – ответил Купалов.
И в эту минуту они показались.
Они вышли из леса там, где мы их и ждали, – шинели внакидку, пилотки поперек головы, – похожие на банду дезертиров, рослых, улыбающихся дезертиров, и мы тотчас двинулись им навстречу. У каждого из нас были дружки на лесопилке.
Два часа они шли к нам по лесу, без дороги, насвистывая, сшибая палками шишки и трухлявые пеньки. Они шли к нам теперь по колено в тумане.
– Без начальников идете, солдаты?
– А мы их в рот драли, начальников! – зычно откликнулся Аркаша Мацнев, он шел первым. – И так, и так их, и по-всякому!
Аркаша любил точные выражения и никогда не терялся. Он похож был на молодого Тараса Бульбу, а за ним шли другие.
Шел Олег Моргунов, длинноногий неунывающий запевала. Шел грузный Журавлев по прозвищу Лошадь. Старый шел, он же Сашка Платицын; ему было двадцать пять, и он казался нам стариком. И Феронов, и Швейк, и Снегурочка… Все они были один к одному, и среди них были Жан с Мишкой.
Высокие, крепкие, они прошли сквозь нашу толпу и шли дальше, окруженные нами, постепенно с нами перемешиваясь. На ходу мы хлопали друг друга по спинам.
– Ну как, все целы?
– А что нам сделается!
– Старый, ты жив еще? Держи пятерку!
– Ха! Дюка! – сказал Полковник. – Здравствуй, Дюка! Кто тебя так разукрасил? Жан, иди сюда! Вот он, Дюка, с побитой мордой.
– Пустяки, – сказал я. – Давно уже. Привет, Жан.
– Пустяки, – переспросил Полковник. – Кто?
– Ну, с Витькой Степановым поругались.
– Дать ему?
– Не надо, мы уже…
– Уже простил? – сказал Полковник.
Я сразу заметил, что он опять не в себе, а Жан шел рядом, волоча шинель, и улыбался молча.
Мы миновали стоящие на опушке орудия и тесной толпой шли среди сосен, огибая заброшенный дом, – он горбился в сумерках высокой крышей (а внутри все было переломано: мы сами отдирали доски, устраивая настил в палатках), – прошли мимо палаток, оставляя слева болотце с лужей посередине, в которой мы умывались по утрам, – она поблескивала слегка, отражая последний свет неба, – и вышли на небольшую поляну за лагерем, где должны были показывать фильм.
Полковник грустным казался сегодня и словно превозмогал себя, радуясь встрече. Он не подавал вида, но я все равно заметил, потому что таким он не в первый раз возвращался оттуда. Что-то там происходило, на лесопилке, что угнетало его, и я спросил:
– Случилось что-нибудь, Миш?
Мы сидели втроем на Жановой шинели. Весь дивизион расселся и разлегся на поляне перед натянутым на деревьях полотнищем.
– Пора бы и начинать, – говорили, – а то спать охота.
– Эй, механик, крути давай!
– Захлопни пасть, Аркаша, кишки простудишь.
– А что, зря шли, что ли?
– Вовка, дай огоньку.
– За водкой бегали и заблудились в лесу. Конец света, понял?
– Ну и дураки.
– А Пашка с Рябовым попались.
Мы сидели и лежали на поляне, перекликаясь и переговариваясь в темноте, – весь третий дивизион, обе батареи, – только Мишка был какой-то странный.
– Ничего, – он ответил. – Ничего, Дюка. Правда, ничего.
А фильм все не начинался.
Потом он спросил:
– Все там же?
– Ага, – сказал я.
– Строите?
– Ну да.
Это повторялось при каждой встрече. Я понял, что и на этот раз мне придется рассказывать. Почему-то всегда так получалось, что рассказывал я, а они слушали. Жан тоже помалкивал о лесопилке.
– Ну да, – сказал я. – Все там же.
Нас возили туда на машине. Скамьи лежали поперек кузова, и вся бригада дружно горланила песни, уклоняясь от налетающих ветвей. Между деревьями возникал караульный грибок с подвешенной к перекладине плащ-палаткой, а рядом – часовой, ковыряющий носком землю. Он щурился от солнца, провожая нас взглядом. Очень весело было ехать по лесу, который казался пустым.
Одни рыли ямы для столбов и закапывали столбы, другие, стоя на козлах, наметывали раствор на кирпичные стены. Полуголая бригада продолжала напевать и насвистывать во время работы. Далеко на директрисе грохотали танковые моторы. Дивизия разворачивалась в лесу. Все дороги были перепаханы техникой.
Задирая головы, мы поглядывали на самолеты. Они с ревом проносились над нами, уходили ввысь и медлительно чертили небо, оставляя белые рубчатые полосы. Самолеты были военные – МИГи.
В тот раз мы тоже напевали и насвистывали. И вдруг все одновременно спрыгнули с козел; побросав ведра, мастерки и лопаты, бригада ринулась в лес. Мы проломились сквозь кусты и остервенело стали колотить пилотками по траве. Пушистый комок порхал под ногами.
– К деревьям, к деревьям ее не пускай! – надрывался Софрошкин.
Сбитые с ног корчились на земле от хохота. Белка вдруг остановилась и укоризненно на нас посмотрела:
– Тьфу, мальчишки!
Две пилотки шлепнулись около нее, от третьей она увернулась. Толкая друг друга, мы кинулись за ней. В этот-то момент я и споткнулся.
Лежа в траве, задыхаясь от бега, я смотрел на метавшуюся толпу, потом перевернулся на спину и засмеялся. И тут я увидел это.
Это было похоже на игру, на бесшумную игру в небе, над уходящими вверх соснами, но неуловимо и страшно что-то изменилось в этой игре.
– Смотрите-ка, – сказал я, поднимаясь; вся бригада стояла вокруг, задрав головы. С разгоряченных мальчишеских лиц медленно сползал хохот.
Мы повернулись и побежали прочь из леса. Мы бежали быстро и молча, не глядя друг на друга, но не успели. Сверлящий звон настиг нас на полдороге, потом удар, от которого дрогнула земля, хотя мы бежали не останавливаясь, и когда взобрались на наши козлы, все было кончено. Черный дым поднимался с далекой опушки, и было тихо. В тишине кто-то сказал:
– Видно, хотел подальше от леса.
В ушах стоял этот неотвратимо нарастающий звон.
– Понимаешь, – сказал я, – мы гонялись за ней по лесу и обо всем забыли…
Я старался передать свое ощущение в тот момент, когда мы оставили белку в покое, потому что самолет падал прямо на лес, битком набитый солдатами, и мы бросились к нашим козлам, как к убежищу, а вернее, для того, чтобы лучше видеть; но там, на козлах, все было уже по-другому.
По правде говоря, больше всего меня поразило то, как лица изменились. Лица у всех обтянулись и жесткими стали, когда мы смотрели на дым, медленно поднимавшийся из-за леса.
– Да, мы видели, – сказал Полковник; он как будто не слушал меня. – Видели.
На него, и правда, что-то нашло сегодня. Даже голос был усталый.
Жан сказал:
– Говорят, совсем молодой был парень. Не старше Старого.
– Комаров тут у вас до черта, – перебил Полковник.
Жан засмеялся:
– Они и в сортир, небось, по двое ходят. Один облегчается, другой обмахивает, а потом наоборот.
– Точно, – подтвердил я. – Болото же – вот оно, рядом.
Я видел, что рассказ мой пропал понапрасну. Уж не знаю, чего они от меня ждали. Может, не стоило про самолет, а только про белку? Но тут фильм наконец начался, и мы повернулись к осветившемуся экрану.
Фильм был обычный – про армию. Во всех фильмах, которые нам показывали, было одно и то же: солдаты или ученые. Ученые тоже выполняли свой долг легко и скромно. Мы привыкли к ним. Нам уже было все равно.
Этот фильм был про армию, про то, как служат наши ребята в армии, в десантных войсках. Они там прыгали с парашютами, и пышные купола распускались на экране. Конечно, сразу же нашелся один, который боялся прыгать, они там очень переживали из-за этого. Было ясно, что к концу фильма он все-таки прыгнет, не подведет роту.
Потом солдат по имени Сережа познакомился с девушкой. Он хотел ее поцеловать – об этом сообщил голос за кадром, а она спросила, кто его мама, и он ответил: кандидат наук. Тогда она сказала, что завидует его маме, потому что сама хочет стать кандидатом наук. Тут он ее поцеловал, и она вдруг страшно огорчилась. – Она терзалась сомнениями, – пояснил голос за кадром, – боялась оттолкнуть его, показаться неприступной. Напряженно она думала: как поступают в таких случаях кандидаты наук?
– Доходчиво объясняет, – прогудел со своего места Аркаша Мацнев; он сидел впереди и повернул голову в сдвинутой на затылок пилотке. – Слышь, Генка, а о чем в таких случаях думает Зам-по-тылу?
– О, она думает об удовольствии, – тотчас отозвался Снегурочка. – Но боится продешевить. И терзается сомнениями.
– Тоже в кандидаты лезет?
– Хватился! Она уже всех членов-корреспондентов за пояс заткнула. Наших, полковых.
– Ну да, за резинку от трусов.
На поляне становилось все веселее. Теперь происходящее на экране сопровождалось пояснениями, которые перекрывал общий хохот. Мы сами участвовали в фильме, помогая голосу за кадром. Таких фильмов нам еще не показывали.
Наконец-то мы были вместе, хотя и ненадолго. Мы были вместе – весь дивизион, обе батареи, хохочущие на поляне, и Полковник смеялся тоже.
– Вот подлецы! – проговорил он сквозь смех.
Вокруг ржали:
– Мужик стал суров не по-детски. Ну, козел!
Этот Сережа вообще был способный парень. Он был красив и остроумен, а еще пел великолепно и рисовал тоже, только холст был повернут к нам изнанкой. Мы должны были смотреть, как он впустую двигает кисточкой, а капитан за его спиной приговаривал:
– Очень жизненно получается. Да вы прямо талант!
– Ишь ты, – заметили на поляне, – отец-командир. И тут руководит.
А Сережа расцвел от капитанской похвалы.
– Вот только красок, – скромно вздохнул, – у меня маловато.
– Эх, холуй, – посочувствовали ему. – За что продаешься!
Но, видно, было – за что. Его отпустили в город, и вот он опять встретился со своей девушкой. Они катались на лодке, причем он исполнял для нее какую-то арию, а она смотрела на него с пробуждающейся любовью. Все вокруг было окутано красивой дымкой, и никто им не мешал, но они почему-то оказались в кинотеатре.
Мы смотрели фильм, и они смотрели фильм, а мы увидели фильм в фильме; но они были счастливее нас, потому что для нас-то это недолго продолжалось. Мы успели только увидеть, как он и она – те, другие, – подняли головы, а там, над ними, – над теми – проплывал косяк журавлей, и это было всё, но нам и этого было достаточно. Мы знали, что он уйдет на войну и погибнет в грязи, на болоте, под кружащимися березами, а она выйдет замуж за другого.
Там все было знакомо – в том фильме, – и все хотелось переделать.
Короче говоря, Сережа опоздал из увольнения. Талант не спас его от гауптвахты, хотя камера, куда он попал, была просторная и светлая – санаторий, а не губа. Караульный принес ему обед в мисках. Завистливый стон прокатился по поляне.
– Вкусно! – похвалил Сережа, с аппетитом наворачивая.
Солдат не ответил.
– Ты чего? – удивился Сережа.
– Не свой хлеб ешь! – отрезал солдат.
Сережа отодвинул миску. Смех оборвался.
– По роже ему! – завопила поляна. – По роже за такие слова!
И тут же опять разразился хохот: генерал появился на экране.
Генерал был что надо – бульдожья морда, золото и ордена. Весь экран был занят генералом.
– Вот он, отец! – грохотала поляна сотней солдатских глоток. – Вот это отец так отец! Настоящий бугор!
– Встать! – рявкнул генерал.
– Не лязгай! – кричали ему. – Начальничек!
Казалось, что весь лес смеется вместе с нами.
А потом был парад. Роты проходили торжественным маршем мимо трибуны с генералом. Солдаты высоко поднимали ноги, печатая шаг, и головы к трибуне поворачивали рывком, потом, послушные приказу, вываливались из самолета – и Сережа, и его товарищи, и тот парень, что вначале боялся, – и с криком «ура» бежали на несуществующего противника… – Солдатская наука, – сказал под конец голос за кадром, – это тысячи дорог, которые надо пройти, тысячи рек, которые надо переплыть, тысячи…
– Ну да, – не поверил Жан. – Круглое таскать, а плоское катать. Хороша наука.
Никто уже не смеялся. Экран погас, и мы ничего не видели в темноте.
– Солдатики, – с отвращением сказал Полковник. – Оловянные солдатики.
– Все как в жизни, – заключил Жан.
– Дивизион, строиться на вечернюю поверку! – прокричал из лагеря дневальный.
Мы стали неохотно подниматься и зажигать спички.
– Ну, пойдем клопа давить.
– Пойдем.
– Пошли выгонять пузырек на середину.
– И какой дурак придумал: работать по выходным! Я бы в его мозгах муде прополоскал.
– Осторожнее, парни, здесь пенек.
Наугад мы брели к лагерю. Постепенно стали различаться стволы сосен, среди которых мы шли, и мы обходили их; там, впереди, были палатки, а за палатками, чуть правее, стояло в лесу заброшенное здание – теперь уже невозможно было бы догадаться, для какой цели предназначалось оно, когда строилось. А еще дальше стояли пушки, глядя в ночь задранными стволами.
Мы встали на линейке повзводно и побатарейно. Старшина Иошин с фонариком в руке выкрикивал фамилии. Все были в строю.
– Приехавшие, – объявил он, – отправляются к местам работ до подъема.
– А машину на лесопилку дашь? – из строя спросили.
– Пешком дойдете, – ответил старшина. – Сюда дошли и обратно дойдете. К подъему все будете на месте.
– Собака, – высказались в строю. – Хоть бы поспать дал.
– Разговорчики! – крикнул старшина.
Это была обычная перебранка. Дисциплина несколько поослабла в лагере, он же был молод, Иошин, и не умел справиться с нами. Особенно теперь, когда в строю стояли те, с лесопилки.
– Разойдись!
– Мы переночуем в твоей палатке, – сказал Полковник.
– Конечно, – ответил я. – У меня как раз лишнее одеяло.
Палатки пустовали. Мы ставили их на весь полк, но полк еще не выбрался из казарм, и пока было просторно.
– Сюда, – сказал я.
Свеча уже горела в палатке.
– А, с лесопилки! – обрадовался Софрошкин. – Милости просим, места хватит.
Он любил вспоминать о том, как работал на лесопилке, хотя непонятно было, как ему удалось уйти оттуда, и теперь, увидев Полковника и Жана, почему-то обрадовался – они со Степановым раскладывали шинели поверх лапника, когда мы вошли, – но Полковник даже не взглянул на него, а Жан сразу же стал разуваться.
– Как живешь-то, Жан? – спросил его Софрошкин. – Не надорвался там еще?
– Как сейф, – Жан ответил. – Где поставили, там и стою.
И Софрошкин вдруг сказал ему грубо:
– Стой-стой! На таких земля держится.
Полковник его словно не замечал.
– Ну-ка, ты, – сказал он Степанову, – вали отсюда.
– Ты что? – удивился тот. – Тесно тебе, что ль?
– Тесно, – сказал Полковник и придвинулся к нему вплотную, тогда я сказал:
– Кончай, Мишка.
Но Софрошкин вмешался.
– Правильно, – сказал он. – Дружки встретились, не видишь разве? Им же надо потолковать, то да се…
Тут Степанов понял, в чем дело, и повернулся ко мне.
– Заступников нашел? Ты, мыслитель…
Но он не такой дурак был – связываться с мощным Полковником, который стоял перед ним, опустив плечи, весь напряженный, и с Жаном, который медленно разувался, сидя на лапнике. Поэтому он сказал:
– Ладно. Пойду к соседям. – Он все смотрел на меня. – Только свечу возьму.
– Перебьешься, – ответил Полковник.
– Оставь, оставь им свечку, – поддакнул Софрошкин, – а то они не улягутся.
– Запомни этот день, мыслитель, – сказал Степанов, и они вышли, прихватив свои шинели.
А мы остались вместе – втроем.
Огарок скудно освещал палатку. Мы залезли на лапник и еще подумали: снимать ли гимнастерки? Нет, решили, сыро все-таки. Полковник сказал:
– Полог надо бы запахнуть. А то комары налетят.
– Они и так налетят, – возразил я. – Палатка дырявая.
– Свечку гасите, – посоветовал Жан.
Мы улеглись на шинели и укрылись двумя одеялами.
– Так и живешь с этими подонками? – спросил в темноте Полковник; голос у него был совсем усталый.
– А как еще-то? Мы ведь бригада…
– Бросьте вы, – попросил Жан. – Хватит вам.
В соседней палатке ругались, в следующей – пели тоскливое, и где-то кричали: взгрустнем!
– Отбой, дивизион! – кричал старшина Иошин.
– Славка, – кричали ему, – мы тебе вынесем порицание!
Потом все утихло в лагере, и стало слышно, как далеко на директрисе ревут танковые моторы.
– До чего же надоело все, – пробормотал Полковник.
– А фильм-то! – вспомнил Жан и засмеялся. – Повеселили сами себя.
Танки ревели всю ночь. Звезды просвечивали в дырявую палатку, и ныли комары; потом и они уснули. Полковник и Жан с двух сторон прижимались ко мне, и то один, то другой натягивал на меня сползавшие одеяла. Я боялся пошевелиться, чтобы не разбудить их. На рассвете они ушли.
Школа товарищества
Человек всегда ищет близких себе по духу, всегда так или иначе координирует свое сцепление с окружающими. Наш социальный опыт большею частью ограничен тем, что мы, так сказать, варимся в собственном соку, общаемся с людьми «своего круга».
В детстве, во дворе, нас объединяла обстановка, в которой мы росли. В школе мы были с одной улицы, из одного района. В институте, на производстве – общность выбранной профессии, а значит – в очень большой степени – и общность интересов, взглядов, целей. Постоянно имея дело лишь с себе подобными – что мы знаем о человечестве? И только в армии попадаешь в чисто формальный коллектив, в «случайную выборку» молодых людей, у которых нет ничего общего, кроме возраста. Но мне и тут повезло: поскольку мой призыв (43-го года рождения) был «неурожайный», гребли всех подчистую, включая и тех, кому удалось в свое время отсидеться; со мной служили люди на два, на три, на пять лет меня старше – разница для того возраста огромная!
Кого только не было в Тамбове – от неудавшихся студентов, вроде меня, до уголовника Журавлева. Какое разнообразие лиц, выходок, словечек, судеб! Тут и Сашка Платицын, с 14 лет работавший на стройках, и неугомонный шпана Генка Черкасов (Снегурочка), и токарь с «Фрезера» Володька Родионов (Брат Елдырин), отказавшийся выплачивать комсомольские взносы, «потому что, – как он объяснил, – надоело кормить дармоедов», и вор Дели, загнавший однажды в Периксе постельное белье всего дивизиона, и бывший суворовец Романченко, и будущий художник Иванчин, и диссидент Воробьев, и выгнанный из ментов Эдик Трегубкин, и забулдыга Рябов, на все руки мастер, со своим дружком колхозником Ванькой Андреяхиным, и ленивый узбек Умаров, и темный авантюрист Гордиенко, и школьный учитель Леша Панов (теперь, говорят, спившийся), и мало ли кто еще…
Что нас связывало между собой? У каждого за спиной – своя среда, свои взгляды и понятия, своя линия поведения. И тем не менее, оказавшись в экстремальных условиях, мы быстро сплотились в единое целое, буйное, жизнерадостное, неукротимое, состоявшее из еще более тесных компаний и содружеств; ужесточенной социальной структуре тут же была противопоставлена спонтанная коммунитас (термин В. Тэрнера). Тут важно – кто задает тон. Каждое проявление эгоизма, подлости, ссученности внутри товарищества пресекалось самым суровым образом. Но и каждое посягательство со стороны получало молниеносный жестокий отпор; спуску, так сказать, никому не давали.
…В один из первых дней шли строем мимо казармы ракетчиков, а те, высунувшись из окон, принялись издеваться над нами: «Салаги!..» Это повторялось при каждом нашем прохождении; надоело; да и юные души, смятые начальным этапом армейской жизни, жаждали самоутверждения. И кто-то из наших рослых правофланговых – кажется, Алик Турмасов – раздумчиво произнес в пространство:
– А не пора ли дать им пизды?
– Пора! – с готовностью откликнулись голоса.
И тут же разбойничий свист разнесся над колонной! Как по команде, весь строй – обе батареи, 120 человек – повернулся и, не слушая старшинских окриков, с матерным ревом полез, выдавливая рамы, в окна к ракетчикам. Ошеломленные внезапностью дружного штурма, те пытались защищаться, швыряя в нас табуретки, но мы усилили натиск – самые страшные вперед! – и сошлись с противником врукопашную. С грохотом разлетались тяжелые двухъярусные койки, навзничь валились тумбочки, сыпалось битое стекло… Со второго этажа к противнику подоспело подкрепление, но мы погнали и этих, преследовали их по лестнице и продолжили побоище на втором этаже. Потом повыпрыгивали из окон разгромленной казармы, быстро построились и, как ни в чем не бывало, двинулись дальше, с места загорланив «Э-э-эгей, комроты, даешь пулеметы!..»
Больше никто нас не задевал. Нас просто боялись. Групповые и одиночные побеги в самоволку, молодецкие подвиги в городском парке, в Периксе, в окрестных лесах, вечно переполненная гауптвахта, – мы стали бедствием дивизии, командование ничего не могло поделать с нами. И прозвище нам дали: Дикий дивизион. (Но, между прочим, когда доходило до дела, мы во всем были первыми: и в парадном прохождении с песней, и в межполковых футбольных матчах – чего стоил один Аркаша Мацнев с его знаменитыми «пшеничными» усами, выходивший на поле в борцовском трико! – и в развертывании батарей на огневой позиции.)
Народ подобрался боевой, насмешливый, артистичный. За словом, как говорится, в карман не лезли. Грубовато-хлесткие шуточки Моргунова, Мацнева, Журавлева, Снегурочки, Виноградова, Усова, Тольки Майорова завершались поверху беспощадным, режущим остроумием наших интеллектуалов – Волоховского, Монеса, Медового. Я до сих пор не могу вспомнить без смеха ночные заседания «клуба онанистов» под председательством Снегурочки, когда слышались с коек такие перлы забубенного фольклора, что вся казарма стонала от восторга; куда там Репину с его «Запорожцами»! Или бесконечную устную повесть, которую мы тискали скопом в свободные минуты, – о похождениях американского разведчика, охотящегося за секретами нашей 122-миллиметровой пушки-гаубицы образца 1938 года, – уморительную пародию на штампы советского «шпионского» чтива, в которой то и дело преломлялись происходящие в дивизионе события и все мы, включая наших командиров, поочередно выступали в качестве придурковатых и находчивых персонажей. Или тот балаган, в который превращались политзанятия и комсомольские собрания, благодаря какой-нибудь залепухе – напористо-идиотскому, вовремя и некстати заданному вопросу, например: «Когда значки дадите?» (Дивизия была гвардейской, и мы изводили начальство, требуя себе гвардейские значки, которые были нам нужны, конечно, не больше, чем зайцу стоп-сигнал.)
Или вот еще. Заявился к нам как-то майор из мотострелкового полка проводить занятия по оружию массового поражения. Начал с повествования о строении атома и о неведомой ему самому энергии атомного ядра; чувствовалось, что за пределы школьной физики он не скоро выберется. Мы погрузились в летаргию. Но что-то в скучливой речи настораживало. Стряхнув сонную одурь, Додик Медовой поднял голову:
– Позвольте вопрос. А между ядром и электронами – что?
– Как что? – удивился майор. – Воздух!
Интеллектуалы заржали. Глядя на них, публика оживилась, посыпались вопросы, один другого глупее.
– Да вы что же думаете, – горячился майор, – атомная бомба, по-вашему, величиной с дом, что ли?
– А как же!
– Она маленькая совсем…
В восторге от такой простоты, мы принялись азартно майора раскручивать. Убедившись, что перед ним полные олухи, и желая наверное нас поразить, он неосторожно упомянул о том, как побывал недавно в Москве… Мы так и взвились.
– Да ну! – ахнули. – В самой Москве! В столице нашей Родины! И метро видели? И в мавзолей ходили?
Снисходя к нашей серости, он подробно поведал и о метро, и о мавзолее…
– Ну надо же! – веселились (и наседали) мы. – Вот бы куда попасть! А правда, говорят, что в Москве дома даже в три этажа есть?
– Какое в три – в десять! И больше!
– Да вы что!!! Быть не может. Врете вы всё…
Конечно, это было безжалостно. Но ведь и нас не шибко жалели… Занятие было сорвано. Впрочем, майор оказался стойким пациентом. На следующее занятие он явился злой, как черт (очевидно, ему объяснили, с кем он имеет дело).
– Ладно, – сказал, – посмотрим, кто последним посмеется…
Любая ситуация годилась, чтобы быть доигранной до завершенности анекдота и в таком виде стать достоянием нашей гротескной мифологии. Это напоминало непрерывный карнавал, где у каждого – у каждого! – была своя роль или по крайней мере реплика, свое право на импровизацию, которой от него с интересом ждали и встречали с неизменным одобрением. Каждый вносил что-то свое, каждый (даже самый тупой) был услышан.
Инстинктивно мы искали опору в нашем веселом и бесстрашном товариществе; оно давало силу каждому из нас, оно помогало нам выстоять. И помогло.
* * *
Вспоминаю, как зимним вечером, проведя целый день на морозе, мы вернулись со стрельбища. Как буря, ворвалось продрогшее воинство в казарму, сбросило бушлаты, оружие – в пирамиду (завтра вычистим!) и сразу – к приемнику, ловить запретные короткие волны. Поймали нечто разухабистое, врубили на полную мощность, и казарма словно очумела: началась пляска, всеобщая, сумасшедшая, ни с чем не сравнимая. Рок-н-ролл, буги-вуги, твист, чарльстон, степ, – кто во что горазд! Крутились, извивались, ходили колесом и подбрасывали друг друга едва не до потолка. Те, кто не участвовал в стрельбах (отдыхали после наряда), были сорваны с коек налетевшей лавиной и, босые, в одном белье, присоединились к этой вакханалии. Разогревшись, несколько поуспокоились, но остановиться уже не могли. Толька Майоров с надрывом декламировал: «Господа, я предлагаю тост за матерей, которые бросают детей своих!.. А знают ли они, как иногда этот несчастный, напрасно обруганный и оскорбленный, обливает слезами маменькин подарок?..» Генка Касапов смешно и очень похоже передразнивал майора Вольшанского: «Не можешь – научим, не хочешь – заставим! Москвичи, понимаешь!.. Или вы не бреетесь, или вы не умываетесь? Каленым железом будем выжигать в армии пьянство…» Пашинский воспроизвел – наполовину по-немецки – речь бесноватого фюрера, кончавшуюся лающим воплем: «Осталось немного! Дейчланд юбер аллес! Вперед, мои храбрые солдаты! Готт мит унс!..» Показывали фокусы, демонстрировали немыслимые акробатические стойки, соревнуясь в ловкости, как спартанские атлеты, и боролись между койками, как гладиаторы. Зрители аплодировали и хохотали, развалившись, как римляне, на своих ложах. В дальнем темном углу казармы, где обособилась и притихла небольшая компания, позвякивали кружки и подозрительно попахивало дешевым одеколоном…
Потом вся орава повалила на спевку в туалет и набилась туда, взгромоздясь на умывальники, подоконник, длинную скамью для чистки обуви. Для затравки спели «Партия – наш рулевой». От слаженного воодушевления дрожали стены.
Под солнцем Родины мы крепнем год от года,
Мы делу Ленина и Сталина верны.
Зовет на подвиги советские народы
Коммунистическая партия страны.
И еще раз, с ерническим громоподобным напором:
Ком-му-нис-тическая партия страны!
Сталинский монументализм сменился злободневными куплетами:
Всё потому, что кукуруза совершает чудеса.
Всё потому, что кукуруза – это сыр и колбаса!
Для кукурузы, для кукурузы
Приспособим организм.
Без кукурузы, без кукурузы
Мы не построим коммунизм.
Затем последовало:
Как на Тихом океане —
Тра-ля-ля! ля-ля-ля!
Тонет баржа с чуваками…
И так скатывались – в идейном отношении – все ниже и ниже. Через «Зиганшин-буги! Зиганшин-рок!», «Раз в московском кабаке сидели», «Как в витрине магазина лампочка погасла», «Приглашен был к тетушке…» докатились до «Клюквы», скабрезного макабра, в котором меланхолический блюзовый распев чередовался с быстрым плясовым ритмом:
Побежала клюква к чувакам в вертеп,
Где танцуют рок-н-ролл и пат-секстет.
И в угаре пьяном клюква отдалась,
Победили в пьяной клюкве секс и страсть.
Но проходят годы, стала клюква…
И никто не хочет с клюквой лечь в кровать.
Побежала клюква на кладбище вновь,
Где когда-то старый череп пел ей про любовь.
Но! пуста могила, череп сгнил давно…
А уж за «Клюквой» прогремела напоследок наша любимая, сокрушительная «Атомная война»:
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































