Текст книги "Про армию и не только"
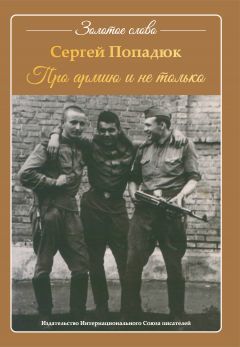
Автор книги: Сергей Попадюк
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Ревите, саксы, стоните, трубы,
играйте отчаянный твист! (Уа-уа!)
Последний раз мы танцуем вместе
под бомб и снарядов свист…
(Тут Снегурочка, исполнявший роль дирижера, заложил пальцы в рот и сопроводил маршевый, на два голоса, припев –
Мертвецы идут! Слышишь?
Мертвецы поют! Слышишь?
Скоро все умрут! Слышишь?
Часы бьют: пей, бой, пей, бой, пей виски, бой,
Пока смерть не взяла тебя с собой —
жутким продолжительным свистом.)
Закончился концерт-экспромт не совсем пристойной сценой похорон. Покойника несли на руках, дьякон звероподобно выревывал какую-то кощунственную околесицу, колокола звонили, певчие голосили, близкие усопшего рыдали навзрыд, – казарма помирала от хохота. Потом построились на ужин, дружно ударили шаг и так грянули «Вы слышите – грохочут сапоги», что Юра Белов, новый наш замкомвзвода, только головой покачал:
– Вот хлопцы! Устали, замерзли – и поют!..
* * *
Даже тоска по дому преображалась в окружении этой бесшабашной вольницы – любовь к маме и бабушке, по-новому осознанная в разлуке; нежность к Молчушке, которая ожидала меня в Москве… Нежность, переносимая на товарищей.
Еще одно, душераздирающее, воспоминание. Когда нас перебрасывали из Тамбова в Гороховецкие лагеря – проездом через Москву, – весь дивизион погрузили в один плацкартный вагон, так что сидеть пришлось не только на полках, нижних и верхних, но и на полу (лежали лишь те, кто успел захватить багажные полки). Мы и сидели всю ночь, тесно прижатые друг к другу, и думали о Москве. Семь месяцев прошло – и каких! – с тех пор, как мы покинули ее, а впереди была неизвестность. Надолго ли задержимся? Удастся ли повидаться с близкими? Все разговоры только об этом. Фантастические планы… И вот, наутро, – Москва! Какое разочарование: два перегона на метро, с Павелецкого вокзала на Курский, и всего час до отправления горьковского поезда. Дом же – вот он, рядом! Нас же ждут здесь!.. Кое-кому удалось сбежать, несмотря на плотное комендантское оцепление, остальные выстроились в длинную очередь к двум телефонным будкам.
Это надо было видеть. Очередь стояла молчаливая, внешне спокойная. Не стучали в стекло, не торопили; каждый давил в себе нервное напряжение и невыносимое чувство безысходности. Делились друг с другом монетками. Кто не смог дозвониться сразу, выходил из будки и снова становился в хвост. Я отстоял очередь четыре раза: набирал номер нашей «вороньей слободки» – Б8-03-27, – но почему-то попадал не туда; догадался, наконец, позвонить Дементию и подошедшую к телефону Рену попросил сообщить маме, что я уже проехал… И вот замелькали в вагонном окне знакомые, полузабытые виды Москвы: крыши, Яуза, Елоховская церковь; вдали маячила высотка гостиницы «Ленинградской», у подножия которой стоял, невидимый, мой дом. Я кивнул ей, прощаясь. Те из нас, кому посчастливилось дождаться своих близких (успевших к отъезду каким-то чудом), откупорили и пустили по рукам бутылки. Стало полегче. После заново пережитой разлуки с домом, ввиду надвигающейся неизвестности, которая, как мы чувствовали, уже начала разъединять нас, стало полегче. На первой же станции дополнительно затоварились и в Ильино высаживались косые в дым. Так и расселись по периметру небольшой привокзальной площади в ожидании опоздавших грузовиков, от нечего делать пугали прохожих дикими подначками: «Эй, дядя, шух шляпу на трусы?» Потом лежали в треплющихся кузовах, нимало не интересуясь предназначенным нам отныне пространством, которое неслось навстречу, и Волоховский, с трудом отлепившись от заднего борта, маленький, злой, безумный, преодолевая напор встречного ветра, спотыкаясь о чужие ноги и вещмешки, медленно, упорно брел к кабине, наваливался на нее грудью и колотил ладонью по крыше. Грузовик тормозил, сопровождающий капитан с подножки заглядывал в кузов: «Ну, что там у вас?» «Через плечо! И кончик в зубы! – рычал в ответ Лысый, присовокупив грубое ругательство. – Дуй дальше!» – и отлетал, отброшенный инерцией, к заднему борту… Опять поднимался, опять брел, опять колотил, а Витька Валисовский, глядя на него плачущими глазами, не вытирая катившихся по щекам слез, вопил в экстазе: «Олег, …твою мать!»
А беглецы догнали нас через сутки, уже в Мулино. Выглядели они такими подавленными, что ясно было: не стоила овчинка выделки… Но эту молчаливую обреченную очередь на Курском вокзале – не забуду!
* * *
Ладно, в Тамбове большинство составляли москвичи, объединенные общей ностальгией. Ну а в Мулино-то, где нас, «тамбовских волков», разбросали по батареям (мы узнали потом, что это было сделано по рекомендации наученного горьким опытом тамбовского начальства), перемешали с ребятами, согнанными со всего Союза, и мы растворились среди них? (Впрочем, не так уж и растворились. Как где мятеж, бьют сержантов, кого-то волокут на губу или слышатся песни Третьего дивизиона, – там, значит, наши.)
Да, поначалу трудно сходились с новыми товарищами. Из-за горбушки хлеба, из-за кусочка сахара вспыхивали драки. Более чуждых друг другу людей невозможно себе представить. И вдруг! Наш замкомвзвода сержант Соколов задумал сделать из меня взводного писаря; я отказался. Он пригрозил, я стоял на своем. Тогда он отправил меня на кухню после отбоя. Наряд на кухне несли москвичи (не наши, не тамбовские), они сказали: «Еще чего! сержанту прислуживать! Да пошел он!.. Ничего не делай, садись и отдыхай…» Я все-таки принялся чистить картошку. Через некоторое время прибегает Сусликов, из нашего взвода:
– Пошли, Соколов тебя кличет.
– Нет уж, – говорю. – Он мне дал наряд, я его отработаю.
– Пошли, пошли, – зовет Сусликов, – а то ребята обозлившись, того гляди махаловка начнется…
Я побежал за ним и в темноте на плацу разглядел тесно сгрудившуюся группу: весь взвод стоял, окружив Соколова. Увидев меня, Саша Колесников гневно сказал ему:
– Отменяй наряд сейчас же!
– За дело – посылай, – добавил Ховрин, поднимая кулачище. – А будешь самодурничать – смотри!..
– Я лично пиздюлей не пожалею, – пообещал удалой Валерка Харченко.
С этого вечера началось мулинское товарищество, уступавшее тамбовскому разве что блеском фантазии, но оттого не менее стойкое.
* * *
Последний урок я получил в Калинине. Когда в батарее разведки затеяли отпраздновать Новый год, начальство согласилось командировать одного из нас в город – для закупки колбасы, печенья и т. п. Мы все сбросились по рублю. Настало время отбоя – посланный не возвращался. Время подошло к двенадцати – его нет и нет. Офицеры ходили черные. Он вернулся только утром – без денег и без продуктов. Оказывается, накупив водки, коньяка, закуси, он завалился со всем этим к знакомым девчонкам и с ними прогудел ночь. Его вина настолько была очевидна, что командование, прежде чем применять дисциплинарные меры, решило осудить беднягу на комсомольском собрании батареи.
Я еще плохо знал чужой коллектив. Я ждал, что вот сейчас он обрушится на негодяя, оставившего своих товарищей без праздника. Но коллектив молчал. Негодующие выступления комбата и замполита остались без отклика. Лишь кое-кто пробурчал в ответ, что, мол, со всяким может случиться… Я недоумевал. И вдруг понял! На кой ляд он нам сдался, этот милостиво разрешенный, жалкий праздничек – по сто грамм сухенького, горстка печенья и отбой в полпервого! Пусть хоть один из нас, да разгулялся по-настоящему! Товарищество не желало принимать подачек от начальства, не желало никакой солидарности с ним. Пусть даже кто-то из нас провинился, мы все равно вам его не выдадим!
И надо пройти через приобщение к этой силе, в которой реализуется все лучшее человека, противостоящее тупой машине подавления и жестокости «пограничных» ситуаций. Потому-то армейское командование не только не пытается изживать, но, напротив, исподволь разжигает низменные страсти, разрушающие товарищество изнутри: натравливает сержантов на рядовых, «стариков» – на «салаг», курян и орловцев – на москвичей, русских – на «чурок»; потому и разжигает, что боится товарищества. Позже я убедился, что это ему, к сожалению, довольно часто удается.
И все-таки нигде, как в армии, эта естественная общность людей не становится такой реальной и актуальной, такой действенной силой. Нигде не складывается из столь разнородных элементов. В первые дни в Мулино, остро переживая разлуку с «тамбовскими волками», я с удивлением обнаружил, что как-то особенно тоскую по Аркашке Мацневу. Мы не были с ним друзьями. Более того, все в нем было мне чуждо – его лошадиное здоровье, легко переносившее холод, усталость, любые тяготы; уверенный напор, с каким он вламывался в самую тяжелую работу, насмехаясь над слабыми и неумелыми; прямолинейность, толстокожесть, откровенное презрение ко всяким там душевным переливам; простецкие забавы (в бане неожиданно окатить соседа холодной водой из шайки, к подъему накрепко завязать штанины узлом и т. д.), способные кого угодно вывести из себя, и удивительное хладнокровие в ответ на встречные выпады; когда конфликт достигал опасной кульминации, он со снисходительной, самодовольной ухмылкой подходил к противнику и предлагал пощупать свой бицепс: «Понял? Ну и всё…» В общем, полная мне противоположность. И вот, в разлуке с ним я вдруг почувствовал, что именно его мне теперь не хватает…
Где еще, продолжай я жить прежней жизнью, мог бы я встретить Сашку Платицына, Олега Шнейдермана, Валерку Бучнева (Доктора) и многих других, чьей дружбой я гордился? А если бы случайно и встретил, разве успел бы разглядеть, оценить их спокойное, подсвеченное юмором достоинство, независимость, надежность, которые навсегда остались для меня непревзойденным примером?
Только в армии, где в товарищество сплачивается случайный сброд униженных и отчаявшихся людей, где самый дальний, неказистый и грубый вдруг оказывается самым близким тебе человеком, где ваша верность друг другу постоянно проверяется на прочность, впервые ощущаешь себя частью своего народа, впервые всей душой переживаешь чувство всемирного братства и делаешь первый шаг к бессмертию. Нет уз святее товарищества! – эти слова Тараса Бульбы, обращенные к казакам, с детства запали в душу.
Вот уж подлинно: я не один на свете и не пропаду.
Осень в Мулино
Когда-то я мечтал написать повесть под таким названием. В этой повести не было бы определенного сюжета – просто ряд не связанных между собой эпизодов, относящихся к последним месяцам в учебной артиллерийской бригаде, – эпизодов, в которых концентрировались бы мои тогдашние впечатления или, вернее, мое теперешнее представление о тогдашних впечатлениях.
Повесть должна была начинаться с почтальона. Каждое утро в одно и то же время он проезжал верхом на лошади по дороге мимо учебного корпуса, и мы, все как один, поворачивали головы к окнам и молча провожали его взглядом. Окна нашего класса выходили «на волю». Появление на дороге верхового солдата-почтальона означало, что, когда мы вернемся в казарму после обеда, на тумбочке дневального будет лежать стопка писем. Иногда он опаздывал и гнал лошадь рысью. Но в то утро, о котором я пишу, он проехал шагом под моросящим дождем, закутавшись в плащ-палатку, оставляя отчетливо видные из окна взрыхленные следы подков на мокром песке.
Политзанятия в классе вел командир взвода. Потом появился сержант Соколов, и по звонку мы разобрали две буссоли, теодолит, вешки, рейки, мерные ленты с колышками, свое оружие и противогазы и вышли на улицу.
Дождь перестал, но было пасмурно, поселок за оградой тонул в тумане. Мы построились на площадке перед учебным корпусом – одноэтажным бревенчатым бараком. В это время к корпусу подошла колонна звукометрической батареи. Я увидел Олега Моргунова, Полковника, Жана, Володьку Савицкого и помахал им рукой; они из рядов приветливо мне кивнули. По команде мы повернулись и, неся на плечах полосатые геодезические шесты, двинулись к заднему КПП. «Левой! Левой!» – командовал лейтенант. Это был паренек из какой-то глухомани, только что окончивший училище. Подавая команду, он, казалось, сам пугался своего тонкого, срывавшегося на фальцет голоса, вздрагивал и зажмуривал глаза.
– Харченко, прекратить разговоры! – пискнул он.
На ходу я обернулся и смерил его нарочито пренебрежительным взглядом.
– Попадюк, выебу, – негромко пообещал Соколов, шагавший рядом с лейтенантом.
И тотчас из строя Паша Лемпорт сипло предостерег сержанта:
– За мужеложство три года дают…
Мы миновали КПП, пересекли дорогу, на которой еще сохранялись отпечатки копыт почтальоновой лошади, и узкой короткой улочкой вышли из поселка. Взвод углубился в лес.
* * *
Тремя отделениями мы тянули три «хода» по песчаным холмам Гороховецкого полигона. Направляющим в нашем отделении шел Валерка Харченко. Он был родом из Южно-Сахалинска, до армии работал в геологоразведочных партиях, на призывной пункт пришел прямо из тайги. Он и в армии, до сержантской школы, служил в артиллерийской разведке. Теперешняя работа была ему не в диковину. Он быстро находил удобное место для вешки, обрубал топором попадающие в створ ветки, да еще успевал развести небольшой костер, у которого затем по очереди грелось и обсушивалось все растянувшееся по лесу отделение.
Я установил вешку рядом с костром и, придерживая ее одной рукой, сам встал так, чтобы быть поближе к огню.
– Да воткни ты ее, – посоветовал Валерка. – Куда она денется.
Я закрепил вешку в вертикальном положении и опустился рядом с Валеркой на корточки. Глянув по сторонам, он тут же начал:
– А у нас в это время горбуша на нерест идет. Представляешь: по всему побережью приливная волна так и сверкает от рыбы! А та вламывается в устья речек и со страшной силой прёт против течения – во всю ширину, в несколько слоев, так что воды не видно. Ползет по отмелям, продирается через пороги и карчи, запрыгивает на водоскаты… Прямо кипит всё и пенится! Ты бы обалдел, если бы увидел. И вот в верховьях все ямки, все затончики заполняются икрой. И над каждой кладкой самец стоит – охраняет. Ну, какой из него охранник: истощенный он после такого прорыва, весь ободранный, на рыбу-то не похож… А тут как раз появляется кунджа – большая охотница до икры. Жадная она, нахрапистая, мы ее называем еще «канадской собакой». Ловить ее, я тебе скажу, одно удовольствие. Проще простого: привязываешь к крючку несколько икринок (тонкой ниткой – чтоб незаметно) и забрасываешь. Никакого поплавка не надо – смотришь, как наживку твою течением по дну сносит. Немного подождал – вдруг, откуда ни возьмись, словно бревно метровое метнулось!.. Хоп! Она, голубушка! Вытаскивай… Вот приедешь ко мне, Серый, обязательно на кунджу сходим. На всю жизнь запомнишь!
Валерка поднялся и, прихватив топор, опять скрылся в желтеющем мокром подлеске. Я смотрел назад по нашему «ходу» и в тумане с трудом различал на вершине соседнего холма фигурки Саши Колесникова и Володьки Ховрина, топтавшиеся возле треноги с буссолью (экономя углы, мы работали на пределе видимости); там, возле них, тоже горел костер. Еще двое неторопливо брели по дну ложбины, промеряя расстояние до моей вешки. Остальных не было видно. Дым от разведенных Валеркой костров стлался по земле и сливался с туманом.
В стороне от нашего «хода», на поляне, две старенькие «тридцатьчетверки» с длительными промежутками били по невидимой отсюда цели. Звуки выстрелов, усиленные влажным воздухом, болезненно действовали на слух; каждый раз я невольно вздрагивал. Меня знобило. Даже у костра я не мог согреться. Я чувствовал, что заболеваю. И в этот же день нам предстояло заступать в караул.
* * *
Тогда-то, впервые за всю мою службу, и назначили меня выводным. «Выводной» в составе караула – это тот, кто стережет арестантов на гауптвахте. В его обязанности входит следить за порядком в камерах, приносить и раздавать губарям еду, «выводить» их в туалет и на работу.
Меня трясло все сильнее. После обеда весь взвод завалился спать (предварительный отдых перед нарядом разрешен только заступающим в караул), но я не стал ложиться, боясь, что меня совсем развезет. Я плохо переношу даже небольшую температуру, а тут, я чувствовал, болезнь забирала меня не на шутку. И все же я надеялся переломить ее, как это удалось мне однажды в тамбовском карауле, когда мы с Жаном стояли на соседних постах и, сойдясь ночью у разрыва колючей проволоки, тянули «бычок» на двоих. Жан укутывал меня своим тулупом, оставаясь на морозе в одной шинели, и уговаривал еще потерпеть…
В этот день я получил письмо от мамы из Комарово. Теперь, засев в пустой ленкомнате, я внимательно, не спеша, перечитывал его.
«Родной мой, я невыносимо тоскую. Последнее письмо – когда оно было? И неужели мне так и не получить ни строчки до возвращения в Москву?
Какие надежды на то, что ты приедешь на праздники? Я так боюсь этого – не приехать к тебе, надеясь на твой отпуск, а потом тебя не отпустят и куда-нибудь зашлют… Надо, видимо, обязательно выбраться в октябре.
Мальчик, я тебя люблю. Иногда мне кажется: я больше не могу без тебя и дня. А ты – неделями пишешь письма… Потом я вдруг – в один прекрасный день – начну смертельно тревожиться и что-то такое себе представлять… Потом начну метаться, пошлю телеграмму… И только тогда, как ни в чем не бывало, придет неторопливое, великолепнейшее письмо. А бедная мать уже на десятилетие старше… Родной мой, пиши, сил моих больше нет!..»
Бедная мама: я уже тогда не мог написать ни слова спроста. Бедная мама: она ожидала, что я приеду в отпуск. Нам обещали отпуска после окончания сержантской школы, если отлично сдадим экзамены. Это была очередная покупка: всех, в том числе и отличников, отправили прямо в части.
Отложив письмо, я попытался развлечься чтением Монтеня, но глаза впустую скользили по строчкам. Я ничего не понимал. Сознание мутилось, спина разламывалась. Вскоре прокричали подъем, и стало слышно, как в казарме ребята посыпались с коек. Пора было собираться. Я вышел в коридор.
Мы пришивали свежие подворотнички к гимнастеркам, чистили сапоги и пряжки, помогали друг другу скатывать шинели. Потом раздалась команда: «Караул, получить оружие и патроны!» А затем другая: «Караул, строиться на улице!»
…С плаца, где происходил развод, мы строем – хомуты скаток через плечо, автоматы на ремне – вышли через главный КПП на дорогу и в наступивших сумерках быстро дошагали до белого одноэтажного домика с мертвыми, затемненными изнутри окнами. Налево от сеней была гауптвахта, направо – караульное помещение. Сюда, как рассказывали очевидцы, в жаркий и по-мулинскому душный летний полдень неожиданно ворвался командующий артиллерией округа генерал Чапаев, сын знаменитого начдива. Караул был застигнут врасплох: спала не только «отдыхающая» смена, раскинувшись на топчанах и беспечно сбросив сапоги в нарушение устава, но и вся «бодрствующая», включая наружного часового, дружно полегла головами на стол, и даже сам начальник караула похрапывал в своей комнатке. Увидев все это и не стерпев такой косности, стремительный генерал выматерился, как он один умел, даже, говорят, огрел в сердцах одного-другого, а когда ошеломленные солдатики повскакали, ловя падающие пилотки, роняя расстегнутые от благодушия пояса с подсумками, он заорал на них: «Чего вылупились, засранцы? Из-за таких вот разъебаев, как вы, отец мой погиб! Весь караул – на гауптвахту! Начальника караула – под домашний арест!»
И действительно – всех посадили. Срочно был сформирован новый караул, он пришел и, сменив старый, затолкал его в камеры по другую сторону сеней; затолкал даже и тех, кто во время генеральского налета стоял на постах, т. е. вовсе не виноватых, поскольку приказано было – всех.
Генерал любил посещать нашу бригаду. Мне тоже довелось с ним столкнуться. На послеобеденный отдых у нас отводилось минут пятнадцать, и однажды, в эти сладкие минуты, мы, несколько человек, разлеглись на травке позади казармы. (Тут надо пояснить, что трава в нашей песчаной и болотистой местности ценилась на вес золота. Все газоны на территории части были высажены руками и культивировались многими поколениями курсантов. Ходить по ним строжайше запрещалось, а лежать нам вообще было не положено, покуда не последует команда «Отбой!» Но тем более хотелось именно полежать и именно на травке…) Вдруг по дороге за оградой бурей промчался генеральский «газик». Заскрежетали тормоза, «газик» сдал назад, генерал выскочил и, изрыгая проклятия, ринулся к ограде. «Это кто там валяется? Командира батареи ко мне! Живо!» Защищенные от него железной решеткой, мы поднялись и не спеша удалились.
…Начальник караула, наш лейтенант, сам принимал гауптвахту. Я безразлично околачивался за его спиной. Потом он и сменившийся «выводной» ушли, и я остался один в небольшом коридорчике, куда выходили двери пяти или шести камер. Коридор освещался с потолка лампочкой в проволочной сетке. В камерах было тихо. Я стал прохаживаться взад и вперед по коридору, слегка побрякивая связкой ключей. После развода и марша по дороге я чувствовал себя бодрее и старался удержать это состояние. Вдруг кто-то позвал меня хриплым шепотом:
– Дюка, Дюка!
Я подошел к прорезанному в двери оконцу, и в первый момент мне показалось, что там, в темноте камеры, возится, сотрясает дверь и гремит цепями огромное косматое существо; в оконце помещались только глаз и знакомая, перебитая в драке переносица. Это был Толик Емельянов по прозвищу Дорогая. Мы призывались с ним из одного военкомата, в Тамбове служили в одном взводе.
– Дорогая, ты? Как ты сюда?..
– Закурить дай, – прохрипел он. – До тебя тут такая сука правильная дежурила…
Я достал из-за отворота пилотки сигарету и пару спичек с отломанной боковушкой спичечного коробка и все это сунул ему в оконце. Он тут же закурил, отворачиваясь, чтобы пустить дым по стенке.
– Раздухарил ребят бочку накатить на сержанта, – объяснил он. – А ребята раскололись. Тут, брат, не Тамбов. С тобой-то кто из наших?
– Лысый и Касапов, – сказал я. – Да еще Купалыч, Монес и Борька Захаров в других взводах.
– Ну, вот. А я один на весь взвод. Ничего, – добавил он весело, – мы с ними, с сержантами здешними, разочтемся с подлюгами перед отправкой. Верно, Дюка? Отольются кошкам мышкины слезки… За курево – спасибо. Тебе оставить?
– Не надо, Толик, забычь для себя. Мне что-то нехорошо…
На меня, и правда, опять накатило. Ночью, стоя в одиночестве и тишине посреди ярко освещенного коридорчика гауптвахты, сотрясаясь от колотившего меня озноба и обеими руками цепляясь за ремень висящего на плече автомата, я никак не мог отогнать видение завтрашнего «вывода»: Дорогая без пояса, с заложенными назад руками, и сзади – я, с автоматом… Тяжелый подсумок с полными магазинами тянул к полу, ноги подгибались… Я мысленно попросил прощения у того, кто будет прислан мне на замену, у Толика и у других губарей, спящих по камерам, и грохнулся на бетонный пол.
* * *
Когда через неделю я вышел из санчасти, был солнечный холодный день. В пустующей казарме стоял дневальным Мишка Монес.
– А, Дюка! – приветствовал он меня. – Ты куда пропал? Давно тебя не видно…
Я рассказал ему, как встретил Дорогую на гауптвахте, как симулировал обморок и был отправлен из караула в санчасть. – Да, – подытожил он, – вертухай из тебя, значит, не получился.
– А из тебя бы получился? – спросил я.
– Из меня-то? Да попадись мне ты или Лысый, уж над вами бы я поизмывался…
– Грубый ты человек, Мишка. Да и врешь ты все.
Мы разговаривали, стоя у тумбочки дневального. Наши голоса гулко отдавались в пустом коридоре. Казарма после утренней уборки имела нежилой вид: выровненные по шнурку двухъярусные койки отражались в до блеска натертом полу, постели заправлены тугими, без складок, ребристыми конвертами, подушки и отвороты простынь тоже выровнены по шнурку, – сейчас невозможно было представить, как все это выглядит по утрам, при подъеме; было чисто, холодно и неуютно.
– Нежным быть – просрешься, – сказал Мишка. – Вон, видал, холода начались. На зимнюю форму когда еще переведут, я и поддел свитерок под хабе. Тонкий, под гимнастеркой незаметно. Ларионов, сволочь, все-таки углядел, подваливает: «Почему форму нарушаешь? Снять немедленно!» «Есть!» – говорю, а сам думаю: утрись, мерзнуть я еще должен… Он в другой раз: «Я тебе приказываю – снять!» «Сниму, – говорю, – когда на зимнюю перейдем». Он даже позеленел: «Ах, вот ты как! Ладно…» После отбоя зазвал в канцелярию, там, смотрю, все сержанты собрались. «Ты знаешь, – говорят, – что мы можем отпиздить тебя так, что никаких следов не останется?» Ну, мне податься некуда, схватил табуретку: «Зато я, – говорю, – та́к уебу, на всю жизнь след останется». Отвязались. Теперь вот в нарядах припухаю… А ты говоришь – грубый. С волками жить – по волчьи выть, так, что ли? Ты, Дюка, не обижайся…
– Ладно, – сказал я. – Где толпа-то?
– На занятиях толпа, где же еще.
* * *
И еще я хотел бы рассказать о том, как приехавшие из Горького артисты показали нам какую-то из софроновских «Стряпух».
Спектакль шел в клубе бригады. Набившись в зал, мы с жадностью ждали начала, поскольку вот уже несколько месяцев в этой глуши не только ни одной женщины, но даже и просто штатского человека не видели. Мы готовы были с благодарностью принять любую подделку под театр. Но пошлый текст сопровождался такой бездарной и небрежной игрой, что солдатня не смогла удержаться от иронических замечаний. Кроме всего прочего было обидно: предполагалось, очевидно, что для нас и так сойдет, что мы и не такое проглотим. С середины спектакля громкие реплики из зала, вызывавшие общий хохот, не утихали. Халтурщиков проводили насмешливым свистом.
И вслед за этим – очередная традиционная встреча «тамбовских волков». Разбросанные по разным батареям, мы умудрялись время от времени по вечерам собираться вместе. Вернулся ли усталый из наряда или завтра сержант душу вытряхнет за невыглаженное хабе – в этот вечер иди на плац, там тебя ждут, тебе будут рады. Как же это было отрадно – снова оказаться среди своих, увидеть милые морды, по которым за месяц успел соскучиться, почувствовать, что тебя поймут с полуслова в этом интимном сборище сотни парней!
Поскольку жестокая дисциплина сержантской школы не допускала подобных сборищ и не только беспорядочная толпа, но даже одиноко болтающийся солдат немедленно привлекал внимание начальства, бывший Третий дивизион выстраивался на плацу взводными колоннами. Со стороны это казалось обычными строевыми занятиями. Вперед выступали самоназначенные командиры взводов и батарей, потешно изображавшие наших тамбовских командиров. Кто-нибудь забирался на трибуну и орал оттуда веселую абракадабру, пародируя громовую риторику парадов, после чего мы по всем правилам – «К торжественному маршу! Первый взвод седьмой батареи прямо! Остальные на́пра!.. во! Ша-агом!..» – проходили мимо трибуны, печатая шаг и держа равнение, и, уже не останавливаясь, шли дальше, с песней пересекали один за другим все мулинские плацы…
На этот раз на трибуне рядом со Снегурочкой торчал Монес – очередная встреча совпала с его днем рождения. Накануне мы сбросились, кто сколько мог, Полковник с Сэвом сбегали в самоволку и купили в поселковом ларьке «Постимпрессионизм» Ревалда. Теперь растроганный подарком Мишка с самым серьезным выражением в огненных глазищах приветствовал, отдавая честь, проходившую колонну. Затем Моргунов бабьим пронзительным голосом завел «Ста-аршина сказал: довольно! Не жалейте га-ла-ву!..» и мы, со свистом и ёканьем подхватив припев, двинулись к столовой.
Мы обогнули здание столовой – «Левое плечо вперед! Прямо!..» – и здесь строй распался. Выскочившему пожилому «макароннику», дежурившему по кухне, сказали:
– А ну, давай сюда наших, кто там у тебя в наряде!
На крыльце появился Славка Феронов, полуголый, в длинном резиновом фартуке, заулыбался от уха до уха:
– Ну, парни, спасибо, что пришли…
Еще несколько человек, сбежав с крыльца, вмешались в толпу. Из толпы кричали:
– Фероныч, давай «Караван»!
Толпа придвинулась к крыльцу, все глаза были устремлены на Славку. Само собой возникло негромкое ритмическое: «Джам-бала-бала-бала… Джам-ба-ла!» Феронов приложил ладонь к уху (в подражание Полю Робсону), закрыл глаза и, страдальчески изломив брови, затянул:
А-а!.. А-а-а!.. А-а-а-а-ади-и-и-ин ве-ерблю-у-у-уд…
Томительная тоска пустынь в этом тягучем напеве!
Джам-бала-бала-бала… Джам-ба-ла!
Джам-бала-бала-бала… Джам-ба-ла! —
монотонно подпевала толпа.
Ше-о-о-ол…
«Макаронник» высунулся из двери, схватил Феронова за локоть:
– Марш в посудомойку! Работа стоит!
– Погоди, не мешай! – отмахнулся Славка, не открывая глаз. –
…дру-у-го-о-о-о-ой ве-ерблю-у-у-уд…
Тут Славка открыл глаза и взмахнул рукой. И все враз прокричали:
Шел их целый караван!!!
И уже громко, освобожденно, радостно:
Джам-бала-бала-бала! Джам-ба-ла!
Джам-бала-бала-бала! Джам-ба-ла!..
– Сейчас караул вызову! – грозил «макаронник» из-за двери. – Людей на кухне не хватает!..
– Прокурор добавит! – хохотала толпа. – Славка, давай «Шайвалы»!
Мы, цы-га-не, – люди злые! —
пропел Феронов.
Но-сим коль-ца! —
подхватила толпа, –
…за-алатые!
Три доли-доли, раз!
Три доли-доли, два!
Три доли-доли, три!
Шай-ва-лы!
Феронов сорвался с крыльца, толпа расступилась, и он в середине ее стал отхватывать коленца.
Эх, шай-шай-шай-шай!
Ум-па ра-ра-ра-ра!..
Устоять было невозможно. Подмывающий ритм отбивали извлеченными из голенищ ложками, каблуками, щелканьем, свистом, хлопали себя по груди, по коленям… Толпа ревела.
Три доли-доли, раз!
Три доли-доли, два!..
А это подходил к концу только первый год нашей службы.
* * *
Дожди сменились заморозками. Земля отвердела, в воздухе летали «белые мухи». Мы уже сдали выпускные экзамены и со дня на день ждали отправки. В эти дни пригнали новичков. (Кстати, об этом глаголе «пригнать». В армии не говорят: привезли, привели, – а именно пригнали. «Ребята, куда вас гонят?»)
Поскольку казармы были еще заняты нами, новичков – как и нас в свое время – разместили в спортзале. Мы ходили знакомиться с ними, искали земелей. Это были необычные новички: все лето они снимались в «Войне и мире» у Бондарчука. Они рассказывали нам, как, надев кальсоны поверх хабе, изображали задний план Бородинской битвы. Ничего себе – начало службы!
Зато здесь их немедленно взяли в работу. Должно быть, наше командование решило сразу вышибить из них артистическую распущенность, показать, что здесь сержантская школа, а не кино. Чтоб служба медом не казалась. Начались у них бесконечные «отбой! – подъем!» в казарме, трехкилометровые кроссы по утрам, марш-броски с полной выкладкой, бег в противогазах, штурмовая полоса… Мы, как могли, старались подбодрить ошеломленных ребятишек. Им было труднее, чем нам: мы все-таки прибыли сюда более-менее подготовленными.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































