Текст книги "Распни Его"
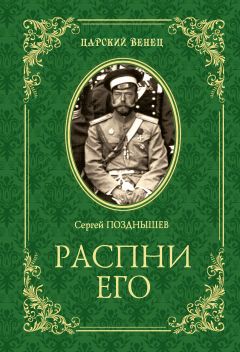
Автор книги: Сергей Позднышев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Опять сел, опять начал курить. Вот в руках Государя другое письмо. На плотном золотисто-кремовом листе с бледно-голубым маленьким гербом в левом углу бежали строчки крупного почерка Великого князя Александра Михайловича. Их связывала долголетняя сердечная дружба; великому князю поверял он свои заветные мысли. Но вот пролегла и тут черная полоса. Дружба осталась, но появилась сдержанность, натянутость, какая-то неловкость в отношениях.
«Нельзя править в полный разрез с желаниями всех верноподданных, – писал Великий князь в письме, датированном 4 февраля 1917 года. – Репрессивная политика только расшатывает монархический принцип. Твои советники продолжают вести Россию и тебя к верной гибели. Недовольство растет с большой быстротой, и чем дальше, тем шире становится пропасть между тобою и народом… Приходишь в полное отчаяние, что ты не хочешь внять голосам тех, которые знают, в каком положении находится Россия…»
Еще прошла по сердцу новая волна страданий. Государь находился в том состоянии морального и физического переутомления, когда человеку трудно отдавать себе ясный отчет в своих переживаниях, чувствах, настроениях и в огромных сложностях жизни огромной страны. Все представлялось как бы в густом тумане, через который едва-едва проступало что-то смутное, неопределенное, тревожное, страшное, зловещее…
И как всегда в минуты острых нравственных страданий и душевной тоски, Государь обратился к Богу, ища у Него защиты, в молитве успокоения. В спальне, в мягком свете электрических ламп, отсвечивал бледным сиянием серебра образ Христа, привезенный ему из Иерусалима. Это была голова Иисуса в терновом венке. Острые шипы вонзились в мертвенно-бледное тело. По лбу и по щекам стекала каплями кровь. В голубых глазах, устремленных ввысь, светилось неземное вдохновенное сияние, а в заостренных углах осунувшегося лица была запечатлена нечеловеческая мука.
Государь долго смотрел на лицо Христа, не произнося ни слова. Как будто хотел оторваться от земли, оставить свою плоть и приблизиться духом к величайшей тайне. Скоро он увидел, как вокруг головы Спасителя залучился свет. Ему стало казаться, что Христос ожил, смотрит на него. Что-то дрогнуло в сердце, оборвалась тяжесть земная, и зашептал Государь, обращаясь к Распятому. Он сказал Ему, что пришел со своим крестом, что устал в пути, что душа изранена, что сочится кровью сердце, что все благие намерения обратились в прах…
Когда Государь окончил молиться и, утомленный, сел в спальне на кровать, он увидел белый конверт, лежавший на подушке. Это было письмо от Аликс, положенное камердинером по ее приказанию. Иногда, расставаясь с мужем, Царица оставляла ему такие письма. В этом было что-то девическое, нежное, родное.
«Мне так страстно хотелось бы помочь тебе нести твое бремя, – писала Царица. – Что я могу сделать? Только молиться и молиться за тебя. Наш дорогой друг в ином мире тоже молится за тебя – так он еще ближе нам…
Только будь тверд, покажи им властную руку. Я знаю слишком хорошо, как ревущие толпы ведут себя, когда ты близко. Они еще боятся тебя и должны бояться еще больше, так что, где бы ты ни был, их должен охватывать все тот же трепет. И для министров ты тоже такая сила и руководитель…
Боже мой, как я люблю тебя. Все больше и больше; глубоко, как мать, с безумной нежностью… Да хранят тебя светлые ангелы. Христос да будет с тобою, и Пречистая Дева да не оставит тебя…
Чувствуй мои руки, обвивающие тебя, мои губы нежно прижаты к твоим, – вечно вместе, всегда неразлучны. Прощай, моя любовь».
Сердце Государя сжалось от острой жалости. Он понял по тону письма, что писала его Аликс в состоянии крайнего душевного напряжения, надрыва и надлома. Он живо почувствовал душевную драму больной, истерзанной, затравленной и оклеветанной женщины. Что-то растерянное, неестественное и по-детски жалкое слышалось в ее утверждениях о трепете ревущих толп.
– Милая, дорогая, бесценная Аликс, – прошептал он. – Вот во что обратилось то солнечное счастье, о котором мы когда-то мечтали…
На глазах Государя навернулись слезы и медленно скатились по бледно-серым щекам.
А за окном тянулась длинная зимняя ночь. Стояла полупрозрачная темень. Уходили вдаль неживые снега. Синий императорский поезд мчался к Смоленску.
В Ставке
Государь прибыл в Могилев, где находился Штаб Верховного главнокомандующего, 23 февраля, после двухмесячного отсутствия.
Был морозный, сухой, безветренный вечер. Догорала заря. Тускнели багряно-золотистые краски; царственное великолепие на небесах постепенно переходило в темные тона. Над долиной Днепра спускался сумрак; дальние леса по ту сторону реки чернели над белыми снегами. Тишина немая стояла над засыпающей землей. Кое-где уже зажгли огни.
На вокзале Государя встретили старшие чины Ставки. Так было всегда. Но в этот раз обычная встреча произвела на него более живое, радостное и бодрое впечатление. Увидев собравшихся генералов, Государь почувствовал какую-то особенную, почти родственную, близость к этим седоусым старикам; каждый из них стоял у большого дела – творил то, что помогало победе над врагом. Государь надеялся, что здесь, в провинциальной тишине, вдали от кипящих, шалых страстей столицы, он найдет душевное успокоение и моральную поддержку. Он по-настоящему сильно любил христолюбивое русское воинство. Военная среда была ему ближе, понятнее, роднее. Изверившись почти во всех, Государь верил генералам, офицерам и солдатам. Он думал, что армия – это гранитная твердыня, о которую разобьется немецкий меч и русская крамола.
«Армия никогда не посрамит земли Русской». Эти слова он говорил не раз и не одному из своих подданных. Однажды, воспользовавшись добрым расположением Государя, один из царедворцев В. И. Мамонтов сказал ему:
– Ваше Величество, я ни минуты не сомневаюсь в доблести наших войск, я верю в их беззаветную храбрость и их желание победить врага, но я боюсь, что ежеминутно могущие начаться волнение в тылу помешают вам окончить войну, как вы надеетесь…
Государь воскликнул с нескрываемым изумлением:
– Да вы с ума сошли; вам все это приснилось, и приснилось когда же? Чуть не накануне нашей победы? И чего вы боитесь? Сплетен гнилого Петербурга и крикунов в Думе, которым дорогá не Россия, а их собственные интересы? Можете быть спокойны… Победа теперь уже не за горами.
Армия вызывала восхищение Царя и восторженные отклики: «Армия – страж России. Армия – это все лучшее, что Россия дала. На боевых полях льется священная, жертвенная кровь за Отечество»…
Воля к победе была у Государя сильнейшим императивным чувством. Мысль о победе стала навязчивой идеей. Дни и ночи он думал только о выигрыше кампании. Победа открывала перед Россией широкие, светлые горизонты. Государь верил в победу, потому что для этого были налицо все данные: враг измотан, Россия пережила свои трудные моменты, армия вооружена, сильна, она способна и она готова выиграть последнюю битву.
Вместе с тем Государь не закрывал глаз на возникшие в последнее время серьезные затруднения с довольствием войск и больших городов. Продукты питания и военное снабжение проходили далекий путь из Сибири. На этих колоссальных пространствах проблема железнодорожного транспорта приобретала исключительное значение. Паралич сообщений мог привести к неожиданным роковым последствиям.
В том положении, в каком находился Государь, каждый человек мог бы ослабеть, опустить руки, поддаться чувству усталости, апатии или озлобленности. Но он ни на один момент не забывал лежащей на нем ответственности и его исторической миссии. Воля к победе, воля к жизни и чувство долга превышали в нем личные переживания. С целью наладить все вопросы, которые его тревожили, Государь прибыл в Ставку.
– Здравствуйте, Михаил Васильевич, – сказал он подошедшему Алексееву. Крепко пожал старику руку, поцеловал его и спросил с большим искренним сочувствием: – Как ваше здоровье? Помогло ли вам лечение в Крыму?
– Благодарю, Ваше Величество. Поправляюсь, но еще не чувствую себя здоровым.
– А мне очень хотелось бы, чтобы силы ваши восстановились и чтобы вы больше совсем не болели. Я не раз молился Богу о ниспослании вам здоровья.
Государь внимательно рассматривал внешний вид старого генерала. Алексеев был в теплой зимней шинели и в фуражке с надвинутым на лоб козырьком. Лицо было болезненное, изнуренное и бледное. Даже от мороза оно ничуть не покраснело. Государь это заметил. Мягким, задушевным голосом сказал:
– Ваше здоровье необходимо для России и для нашей победы.
Алексеев благодарно и радостно улыбнулся. Серые глаза его загорелись внутренним светом, заиграли морщинки, и шевельнулись жесткие, седые, туго закрученные генеральские усы.
Здороваясь с чинами Штаба, Государь у каждого что-нибудь спрашивал, обменивался короткими словами и ласково улыбался. Подойдя к начальнику военных сообщений, он спросил:
– Скажите, Тихменев, все ли вы перевозите, что необходимо для продовольствия армии?
– Мы перевозим все, Ваше Величество, но должен доложить вам откровенно, что удается это лишь потому, что дают нам к перевозке очень немного, – ответил генерал Тихменев.
– Да, да… я знаю… это очень тяжело и горько… – Лицо Государя нахмурилось, улыбка сбежала с него. Он перевел глаза на стоявшего рядом полевого интенданта генерала Егорьева и сказал ему: – Я вас прошу, достаньте непременно продовольствие для армии, а вы, Тихменев, его перевезите. Я не сплю по целым ночам, когда думаю, что армия может голодать…
Во время обеда Государь сказал Алексееву:
– Меня тревожит внутреннее положение. Нездоровая, неспокойная атмосфера сейчас в Петербурге. Клевета, сплетни, вздорные слухи и политиканство, как заразная болезнь, поразили столичное общество. Нам надо выиграть только два месяца. Если ничего не произойдет до весны, Россия будет спасена. Надо преодолеть транспортные и продовольственные затруднения. Я так горячо прошу Бога спасти Россию! Помогите мне в этом.
Алексееву послышались трагические нотки в голосе Императора, особенно в последних словах. С полной искренностью, поддавшись впечатлению минуты, он ответил:
– Ваше Величество, мы все сделаем, что будет в силах человеческих для нашей победы. С Божьей помощью мы справимся со всеми трудностями. Худшее мы уже пережили…
* * *
Но у Алексеева была на душе одна страшная тайна. И он ее скрыл от Государя. Скрыл не без внутренней борьбы; скрыл сознательно, успокаивая свою совесть мыслью, что роль его была пассивна и что так лучше будет. Когда Государь делился с ним своими сокровенными мыслями, рассказывал о своих терзаниях, тревогах и надеждах, Алексеев чувствовал, как маленькое пятно на совести жгло его душу.
Алексеев был человек простой, сердечный и скромный. Он не принадлежал ни к типу карьеристов-честолюбцев, ни к типу царедворцев. Он был только человек дела. Государя любил без слащавости и относился к нему как верноподданный. Когда в пасхальную ночь 1916 года, перед Светлой заутреней, Государь зашел к нему в комнату и поздравил его своим генерал-адъютантом, старик прослезился и, чего совсем не ожидал Государь, поцеловал ему руку.
А потом в его сердце влили капельку яда. Однажды, во время болезни, в Севастополе, его посетил Александр Иванович Гучков. Этот человек ненавидел Государя и еще более – Царицу.
Кто он был? И друзья, и враги сходились в общей оценке. Обычно говорили: «Неугомонный и неутомимый интриган; человек авантюрного склада; умный, талантливый и просвещенный честолюбец; натура страстная, беспокойная и кипучая; характер властный и упорный; искренний патриот, влюбленный в Москву и в Московскую Русь; один из самых больших общественных деятелей».
Начиная с шестнадцатого года Гучков увлекся идеей государственного переворота. В его голове постоянно теснились мысли о заговоре, постоянно он строил всевозможные планы низложения Императора и шел вплоть до его убийства. Он разъезжал по фронту, агитировал среди тех, кого хотел привлечь на свою сторону, чутьем угадывал среди генералов единомышленников и, увлекаясь сам, увлекал других. С целью прозондировать почву он посетил больного Алексеева.
– Вы, может быть, не представляете во всей полноте, широте и глубине внутреннее состояние России, – сказал он Алексееву. – Не представляя и не учитывая этого, вы не можете вести войну. Мрачна и безотрадна картина дней нашей жизни. Всюду, во всех отраслях, царит полное расстройство, разруха и распад. Все гниет. Правительство состоит из ничтожных личностей, мелькающих и исчезающих с быстротой молнии. Царь безволен, слаб, бесхарактерен и целиком находится под влиянием Царицы. А она, в свою очередь, под влиянием Распутина и шайки крупных и мелких мерзавцев. Национальные чувства оскорблены. Между Царем и Россией легла пропасть.
Государственная дума исчерпала все возможности для мирного выхода из создавшегося положения, ее желание очень скромное: ответственное министерство. Но Царица внушает Императору: «Не уступай. Ты повелитель, ты самодержец, ты поставлен Богом. Стукни кулаком, покажи смутьянам свою сильную руку. Сошли в Сибирь или, еще лучше, прикажи повесить Милюкова, Гучкова и Родзянко»…
С фанатической настойчивостью, не желая ни с чем считаться, Царица защищает Распутина. Она отстаивает человека, которого ненавидит и проклинает вся страна. Белая горностаевая мантия Царя, увы, достаточно уже выпачкана в грязи. Все попытки открыть ей глаза оканчивались плохо для лиц, пытавшихся это сделать. На все представление следовало одно: «Дай понять всем, что, преследуя нашего друга или позволяя на него клеветать, они действуют прямо против нас».
Я не говорю выдумки. В моих руках есть ряд документов, касающихся деятельности «святого старца». Один из них озаглавлен: «Выписка из данных наружного наблюдения за Григорием Распутиным за время с 1 января 1915 года по 10 февраля 1916 года». Под этим документом стоит подпись начальника петроградского охранного отделения генерала Глобачева.
Самые буйные предположения насчет цинизма, порнографии, голого разврата и диких кутежей не дадут того, что дает этот сухой полицейский документ. Новеллы Декамерона – стыдливая наивность в сравнении с тем, что описано в этом рапорте охранки. Буквально день и ночь Распутин проводил в разврате, пьянствовал, буянил, безобразничал и, совокупляясь, освещал «благодатью» психопатствующих поклонниц. Похотливость грязного мужика превосходит всякое воображение.
Невозможно читать этот документ спокойно. Все существо клокочет от негодования, стыда и боли. Вот до чего мы дошли…
Гучков говорил с великолепным ораторским искусством: горячо, красиво, страстно. Голос его менялся, то холодел, чеканил слова, то повышался, то срывался. И вместе с тем менялось выражение его лица: оно то загоралось страстью, негодованием, то принимало спокойный, холодный вид, то улыбалось саркастической улыбкой.
– Что же я могу вам сказать в заключение? Везде настроение большой близкой грозы. Лопается народное терпение. Самодержавие приблизило собственную гибель. Нужен переворот, иначе будет такая революция, какой Россия еще не переживала за все свое историческое существование.
Алексеев слушал молча, не перебивая, не делая замечаний и вставок, ничего не переспрашивая. Его умные серые, слегка косящие глаза смотрели спокойно, не мигая, не уклоняясь в сторону. Иногда казалось, что он что-то раздумывает, что в этой большой голове с высоким лбом формируются какие то мысли. Но ни одно движение на лице, ничто не давало возможности понять, что думает этот большой человек и как он относится к сказанному.
Гучков замолк. У него был огромный опыт по части закулисных интриг. Он легко распознавал движение человеческих чувств; раскусывал, так сказать, людей, кто чем дышит и чем пахнет. Но здесь он ничего не уловил. И с некоторой тревогой ждал ответа.
– Вы все сказали? – спросил Алексеев после некоторого молчания.
– На эту несчастную тему можно говорить и очень много, и очень долго.
– Тогда я поставлю вам дополнительный вопрос: как вы предполагаете совершить переворот? В какой форме?
– Простейший способ – заманить Царя в ловушку, например захватить его на какой-нибудь глухой станции, арестовать и потребовать отречения. Если откажется – убить и объявить народу о внезапной смерти, скажем, от сердечного припадка. Существует второй план: уничтожить Царицу, а Государя принудить отказаться от самодержавных прерогатив. Вариации могут быть различны. Важна цель – спасение Отечества, а способ не имеет значения…
– Кажется, вы ничего мне не сказали нового, за исключением рапорта Глобачева; но я не имею вкуса и охоты к чтению полицейских новелл о Распутине, – начал свою речь Алексеев. – Вы, конечно, сгустили краски. Вы впали в ошибку и переоценили значение тех событий, о которых вы говорили.
После трех лет войны каждое государство испытывает те или иные затруднения. В этом отношении Россия находится скорее в выгодных условиях. Во всяком случае, положение наших врагов гораздо хуже нашего.
Мы переживаем, несомненно, тяжелое состояние: хромает транспорт, мало поступает продовольствия. Но тяжесть заключается не только в этом. Страшнее для нас та атмосфера, которая господствует в столице. Я считаю, что эта атмосфера создана искусственно и Государственная дума сыграла в этом деле не последнюю роль.
То, что волнует вас, Думу, петроградцев, придворные круги и либеральное общество, вовсе не волнует Россию, которой нет никакого дела до того, будет или не будет у нас ответственное министерство, сам ли Государь избирает своих министров или ему кто-то советует. И совсем по-иному поймет простой народ, почему «господа» так вооружились против Государя за то, что он приблизил к себе простого крестьянина.
К вопросу надо подходить спокойно и объективно, не давая чувству страстности и негодование овладеть головой. Распутин расцвел только потому, что русское общество находится в процессе глубокого нравственного разложения. Обвиняем других, когда сами кругом виноваты.
Выгодно ли нам раздувать в настоящее время дело о Распутине, бороться за ответственное министерство, вопить о внутренних нестроениях и накалять страсти? Нет – невыгодно. Выгодно ли нам раздувать все эти беспочвенные разговоры о слабом, бесхарактерном Царе, о засилье Царицы, о перевороте? Нет – невыгодно. Ведя борьбу против Царя, сея в народе смуту, подогревая революционный дух, вы, господа, рубите сук, на котором держится Россия, вы готовите взрыв.
Не странно ли вам, Александр Иванович, что сумасшедшая атмосфера начала особенно сгущаться в тот самый момент, когда мы победоносно провели наступление этого года, захватили огромную территорию – всю Буковину и часть Галиции, взяли более полумиллиона пленных и когда мы готовы к новой большой кампании, быть может, последней. Ведь мы подошли к порогу конца войны.
Вы утверждаете, что Дума борется за сплочение всех сил народа во имя победы?! Но можете ли вы поручиться, что, сея ветер, вы не пожнете бурю? Не разразится ли все это смутой, которая выведет Россию из числа воюющих держав и кончится для нас небывалым военным разгромом? Не забывайте, что армия устала. Я именно это и предвижу. Вы, господа, стали на опасный путь.
Надо все чувства и страсти подчинить главному – довести войну до победного конца, а все второстепенные вопросы, как бы они ни были остры, отложить на после. Надо прекратить внутреннюю борьбу. С тем, что есть, мы победим врага, с революцией – никогда.
Когда они расставались. Алексеев сказал:
– Давайте условимся. Разговора, который был, – не было. Вы мне ничего не предлагали и ни во что меня не посвящали.
Позже Алексеев узнал, что Гучков не раз посетил Брусилова и Рузского, вел с ними разговоры и встретил сочувственное отношение к плану государственного переворота.
* * *
В Могилеве Верховный вождь Русской армии и Самодержец Всероссийский занимал две маленьких комнаты в неуютном губернаторском доме. Одна из них служила спальней, другая – рабочим кабинетом. В спальне стояли столик, два стула, умывальник и две узкие походные кровати: одна для Государя, другая для Наследника. На стене, у изголовий, висели различные иконы. Никакой роскоши и никаких специальных удобств не было.
Эта спартанская обстановка удивляла людей, привыкших представлять царскую жизнь в блеске и великолепии дворцов. Поражала их также простота и непритязательность Царя, его скромный серый солдатский наряд, походная защитная рубаха, потертые шаровары и не первой молодости, не раз уже чиненные, боксовые сапоги.
– Ваше Императорское Величество, – обратился однажды, в приливе верноподданнических чувств, могилевский губернатор Александр Иванович Пильц – мужчина длинный, с длинной жилистой шеей и тонкими ногами, похожий на цаплю, – разрешите мне пополнить ваше жилище какой-либо обстановкой из моей квартиры.
– Зачем? – удивленно спросил Государь. – Здесь все есть, что нужно.
– Уж очень пусто и неуютно, Ваше Величество. У меня любой коллежский регистратор живет лучше, – сознался Пильц.
– Вот как, – улыбнулся Государь. – Послушайте, Пильц, как вы думаете, на фронте наши офицеры и солдаты спят на пуховиках, живут в уютной обстановке? – И не давая смутившемуся губернатору ответить, добавил: – Они спят зачастую на голой сырой земле. Они несут огромные лишения, подвергаясь в то же время опасностям. Сейчас мы не имеем права думать о наших личных удобствах.
– Ваше Величество, «кесарево – кесареви, а Божие – Богови». Каждому свое.
– Это верно. Земная власть возложена на меня Богом. Вся моя жизнь принадлежит России. Но «кто хочет быть первым, да будет всем слуга»…
В этот вечер своего приезда Государь не работал у себя в кабинете, как обычно, до глубокой ночи. В халате, в мягких туфлях, он сидел около камина, смотрел, как пылали, потрескивая, поленья; как переливался дрожа золотисто-белый, раскаленный жар; как тускнели перегоревшие угли и, тихо оседая, рассыпались серебристо-серой золой. Созерцание навевало покой на душу.
После суетного Петрограда он почувствовал себя здесь легче, свободнее; встреча с генералами оживила его надежды и бодрость. На душу спустился мир, которого он так жаждал, какое-то состояние нежной и смутной печали овладело им при виде давно покинутых мест, комнат, вещей и всего, с чем была связана жизнь в течение этих двух тревожных лет.
Мысли Государя неслись к прошлому, от которого веяло грустью и очарованием невозвратно минувшего. Огромная память легко восстанавливала в мельчайших подробностях картины пережитого. Это прошлое он противопоставлял настоящему, в тайной надежде найти указание для будущего. В воспоминаниях проходили событие большого исторического значения. Он вспомнил незабываемые минуты, когда после объявление в Георгиевском зале о начале войны он вышел на крыльцо Зимнего дворца. Огромная площадь была полна народом. Она гудела глухим гулом, как шум больших водопадов. В этом народном гуле десятков тысяч людей была живая душа России. При виде его толпа дрогнула, раздался могучий крик: «Ура» и все как один опустились на колени.
«БОЖЕ, ЦАРЯ ХРАНИ», – запели первые ряды. «БОЖЕ, ЦАРЯ ХРАНИ», – подхватили другие дальше, и скоро вся площадь, весь народ пел национальный гимн. В этот момент «БОЖЕ, ЦАРЯ ХРАНИ» было наивысшим выражением русских чувств. Лица горели страстным возбуждением, экстазом восторга, по щекам текли слезы. Россия поднялась на брань.
От Урала до Дуная,
До большой реки,
Колыхаясь и сверкая,
Движутся полки…
И так близки были русскому сердцу и каждой душе заветные, великие слова:
Царствуй на славу нам,
Царствуй на страх врагам,
ЦАРЬ ПРАВОСЛАВНЫЙ…
Дивным, величественным звукам внимало синее бездонное небо, внимала Александровская колонна, императорские орлы, парящие над дворцом, ангел победы и бешеные кони над аркой Главного штаба; внимал Великий Петр, вздыбивший горячего коня, блестящая Екатерина и все творцы великой славы и блеска империи, прошедшие здесь свой жизненный путь.
Затем в первых числах августа Государь посетил первопрестольную столицу. Стояли жаркие дни. Над Москвой – сердцем России – поднималась светлая, бездонная, яркая синь неба. С волнением смотрел он на величавую красоту белых кремлевских храмов, на блеск золотых куполов и на своеобразный, характерный для Московии, русский стиль старинных башен.
Гудели медные, литые, сладкозвонные колокола сорока сороков церквей. Бесчисленные толпы народа восторженно встречали следовавшего Императора, падали перед ним на колени, протягивали к нему руки, крестили ело и кричали с любовью: «Здравствуй, Царь-батюшка!» Старая Москва била челом своему Царю.
В этот день Государь сказал собравшимся москвичам, людям всех возрастов, полов и званий:
«В час военной грозы, так внезапно и вопреки моим намерениям надвинувшейся на миролюбивый народ мой, я, по обычаю державных предков, ищу укрепления душевных сил в молитве у святынь московских, в стенах древнего Кремля.
…Отсюда, из сердца Русской земли, я шлю доблестным войскам моим и мужественным иноземным союзникам, заодно с нами поднявшимся за попранные начала мира и правды, горячий привет. С нами Бог!»
Дни пребывания в первопрестольной столице оставили большое, яркое и сильное впечатление. Это зависело от многих причин. Оттого, что в эти дни стояла великолепная погода, сияло в глубине голубых, спокойных небес яркое солнце и мрели в осенних прозрачно-синих туманах подмосковные лесные дали, подернутые первым багрянцем. Оттого, что гудел при встрече торжественный перезвон колоколов и толпы народа приветствовали его с любовью и восторгом. Оттого, что старая московская знать встретила его по-московски, с открытой душой, широко и хлебосольно.
Но не это было самое главное. Главное заключалось в глубоком, мистически-религиозном настроении, которое он почувствовал в стенах древних московских храмов, где каждый камень говорил о прошлом, о старине далекой-далекой. Оно обожгло его страшным, таинственным огнем. Он молился у святынь кремлевских, перед потемневшими ликами, где в грозную годину молились предки; он чувствовал эти священные камни, на которых стояли в Бозе почивающие Цари московские и всея Руси. Он просил святителей и чудотворцев о помощи, о даровании победы; он хотел прошлое великой страны слить с настоящим и настоящее сделать достойным прошлого.
В эти московские дни Государь посетил Успенский собор, где короновались цари и где почивали Святейшие Патриархи Гермоген и Филарет. Он побывал в Архангельском соборе и долго стоял на коленях в безмолвии у гробниц великих державных Государей. Он съездил в Троице-Сергиеву лавру, где престарелый архимандрит Товий благословил его иконой, написанной на гробовой доске святого Сергия Радонежского.
В одну из ночей ему показалось, что он проснулся, услышав какой-то необыкновенный шум. Он прислушался. За стенами дворца гудел глухой гомон множества людей, слышалось ржание коней, гулкий топот, пронзительные свистки паровозов, громыхание колес, отдаленная военная песня и чей-то близкий надрывный женский плач.
Ему далее казалось, что он подошел к окну. Над Москвой стояла полная луна. В светлой синеве сказочной ночи таинственно высились, мерцая темным золотом, купола церквей. Замоскворечье тонуло во мгле серебряного тумана. Город был как призрачный, и красота его была неописуемая… Очарование продолжалось. Государю чудилось, что светлая мгла живет, что ее наполняют бесплотные тени, что на улицах и площадях движутся потоки предков в странных одеяниях. Память развертывала великую летопись родной страны, родного народа и этого чудного города, не раз осаждаемого, захватываемого врагами, горевшего и восстававшего из пепла.
Ему представилась Россия, поднявшая меч для защиты маленького сербского народа, для защиты свободы, чести, права и правды. Представилась не в образе величавой, царственной, порфироносной жены, но в виде простой крестьянки в платочке, с застывшим, невыплаканным горем в глазах, согнувшейся под тяжестью непосильной ноши, под тяжестью креста.
Сердце Государя пронизала острая жалость к русской женщине, к русской матери, у которой война отняла сыновей, к жене, оставшейся без мужа-кормильца. Он был по душе крестьянский царь; жалел искренно простых бедных людей, которые несли на своих плечах все государственные тягости, нужды, пользовались малым, не притязали на многое, а в минуту военной грозы шли безропотно защищать родную землю от врагов.
Гулко пробили у Ивана Великого два часа. Как по команде, будя тонкую серебристую мглу, отозвались колокола московских церквей. Государь окончательно проснулся. Понял, что он находился в состоянии полусонном, полубредовом, промежуточном, когда человек полубодрствует, полудремлет и когда сознание притушено, пригашено, находится как бы в полумраке. В глазах еще стоял скорбный образ согнувшейся русской женщины в слезах. В ужасе перед страшным роком он думал, что потечет потоками кровь народа, что самые молодые, здоровые и сильные пойдут на поля брани и многие из них никогда не вернутся назад. Он знал, что неизбежно будут множиться по лицу родной земли горе, беды и слезы. Знал, что будет разносить по полям ветер страшный воющий плач осиротелых матерей, жен и сирот. Знал и… плакал.
С начала войны Государь неустанно колесил по родной земле: встречал и провожал войска, идущие на фронт, молился вместе с ними, благословлял их на великий подвиг биться смертным боем с врагами, вливал в их души ту грозную русскую силу, которая множество раз проявлялась потом на полях, обагренных кровью.
Государь оставался внешне спокойным. И только Бог да Государыня знали, какие душевные терзания переживал человек, считавший себя ответственным за исторические судьбы России. В первом «военном» письме Государыня писала мужу:
«Мой родной, мой милый! Я так счастлива за тебя, что тебе удалось поехать, так как я знаю, как глубоко ты страдал все это время. Твой беспокойный сон доказывал это.
Это путешествие будет маленьким отдыхом для тебя, и я надеюсь, тебе удастся повидать много войск. Могу себе представить их радость при виде тебя, а также и твои чувства.
Только бы хорошие известия в твое отсутствие, ибо сердце обливается кровью при мысли, что тяжелые известия тебе приходится переживать в одиночестве.
Уход за ранеными служит мне утешением, и вот почему я даже в это последнее утро намерена туда идти, в часы твоего приема, для того, чтобы подбодрить себя и не расплакаться перед тобой»…
И не дожидаясь ответа, полная нетерпения, Царица писала ему на следующий день новое длинное письмо, информируя подробно обо всем, что произошло в его отсутствие:
«О любовь моя, как тяжко было прощаться с тобой и видеть это одинокое, бледное лицо, с большими грустными глазами в окно вагона»…
Картина за картиной, как на экране, проходили перед Государем города, которые он посетил, люди, которых он видел; проходила вся Россия, пришедшая в движение. Вспомнил трогательный, яркий случай. В Новочеркасске, при выходе из собора, ему поклонился старик-казак, высокий, стройный, с большой белой бородой, в военной форме, с вахмистерскими лычками, с колодкой Георгиевских крестов и медалей, «забалканец», как его называли. Он сказал:
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































