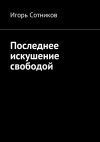Текст книги "Путешествия по траку времени. Маленький цветочек"

Автор книги: Сергей Шадрин
Жанр: Приключения: прочее, Приключения
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Путешествия по траку времени
Маленький цветочек
Сергей Шадрин
© Сергей Шадрин, 2016
ISBN 978-5-4483-0720-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Детство вспоминается с трудом. Так себе, как смутное пятно. Но пятно не чёрное, однако. Светлого в нём много больше.
Родился я тогда на рубеже 2-го века до н.э.. А в смысле географическом, где-то на северном побережье Средиземноморья. Не то в Греции, а не то в Риме. Хорошо я себя вспоминаю только к 19-ти годам или к 21-му. А до этого рос лишь и сил набирал.
Отец мой был не беден. Весьма. Как новый римский или нет, не знаю, но уж и не как новый русский точно. Были у него во множестве владения в округе по части недвижимости и какой-то неведомый бизнес за границей или границами. Я в тот самый бизнес ни руками, ни разумом не вникал.
Выбрал себе военную карьеру.
Уже с 14-ти лет готовился успешно и старался. К 17-ти годам всецело понял, что в дальнейшем, буду посвящать тому все жизни. Свою и прочих, как получится. А получиться было бы должно.
Страна в ту пору переживала, если не расцвет, то и, по крайней мере, не кризис точно. Империи всей требовалось расширенье. Как в географическом плане, так и в экономике, да и в политике тоже. Оно уже и шло успешно, расширение это, планомерно и в разумном режиме, пожалуй. Я лишь был должен сам влиться в него, расширить далее и укрепить.
То, что нужно Империи – нужно и мне. Ведь я же сам есть – сын этой Империи, её порождение и её творец.
Надо ли дальше говорить, что я, любил свою Родину. Любил, да, действительно, её и было за что. Как мне помочь ей, если не стать самому же достойным её гражданином. Вот я и выбрал сам военную карьеру. Благо возможности у меня для этого были.
Кадровый офицер. В полнейшем смысле этого слова. А не штабная крыса какая-нибудь. Учусь на то, готов уже почти что.
Оставалось лишь месяца два до сборов, тогда и в поход. В наш первый боевой, боевой или разведывательный, но поход. Наш первый, в смысле для нашего выпуска. Настоящий.
А пока что мы в отпуске. Я и мои друзья. Птоломей и Ротхар. Меня зовут Дион (с ударением на втором слоге). Это наши не полные имена. Так, для жизни.
***
Те самые два месяца назад я был помолвлен. Радости моей и нашей не было предела.
Эвелина – это был лучший в целом свете человек. Казалось, что вот если бы она была мужчиной – нас, всех друзей, было бы четверо, без оговорок или испытаний любых, каких бы то ни было. А ведь это женщина. И это её достоинство не только не умаляет, а вскоре наоборот, лишь дополняет и концентрирует, как бы все те её качества, которым я вряд ли нашёл бы достойные имена, будь я, к примеру, поэтом из классиков, а не морским офицером.
Нет, вовсе не ангелом она была для меня и не статуей из бронзы, подле которой мне надо было ходить, не смея прикоснуться, совершать подвиги или слагать баллады. Свою любовь я чувствовал разумно. Я чтил её, как друга и берёг…
Потом что-то случилось, … я не помню…
***
– Н-ну, то есть к-как это случилось, я н-не помню. Сейчас-с не пом-мню, а т-тогда я з-знал-л. Я когда это всп-поминаю, з-заикаться начинаю. Но п-потом это в-всё проходит.
Вчера с д-друзями я по городу гуляли, ну, отдыхали мы там, выпили вина. А тут сенатор этот… ну, это мужчина был просто.
На нём же не написано, мол, кто он. Он обратил на нас внимание метров с пятидесяти, когда мы на скамейке все сидели. Высокий, статный он такой, широк в плечах весь. Увидел нас, сразу же подошёл и, не поздоровавшись, не представившись, не… попросил ничего… не попросил, не обратился, не спросил! А приказал нам сразу: «Пойдите и приведите мне ту женщину». Так пьяный матрос нам не скажет! Сказать так может кто-то лишь рабу! Женщина – да, там была. Стояла она там, куда он показал нам…
– И Вы его ударили?
– Три раза. Мне с одного удара его было не свалить. По корпусу. Не надо по лицу ведь.
– Сенаторская прикосновенность, стало быть?
– К-как Вы сказали?
– Ну, Вы ко мне сами пришли…
– Сам.
– Сами рассказали мне всё, …?
– Да, всё. И в рапорте я тоже написал всё, … что я совершил.
Только…
– Что только …?
– Как же мне знать было тогда, что это был сенатор?
– Вы обвиняетесь в нарушении закона «о сенаторской неприкосновенности». Никто, нигде и никогда, уж мне поверьте, а если Вы не доверяете мне, то поверьте закону. Нигде, никто, никогда, никакой гражданин, ни даже органы правопорядка не могут преступить этот закон, не при каких обстоятельствах. По совести, Вы имели право только не подчиниться его прямому приказу. А Вы нарушили, причём физическим путём.
***
Предстал перед судом. Суд, следует отдать должное его справедливости, вынес приговор: 10 лет тюрьмы.
Я согласился разумом и сердцем. Оставалось чуть менее 2-ух месяцев до нашего, а теперь уже их, похода. Со всем согласен был я, но смятенье само невольно в душу забралось.
Приговор не сразу был приведён в исполнение, а немного отсрочен, до времени.
10 лет.
10 лет для меня это значит, что ещё почти столько, сколько сам я себя хоть сколько-нибудь помню, я не могу быть мужем, сыном, другом иль отцом. 10 лет я никоим образом не смогу хоть сколько-нибудь помочь своей Родине.
Что для меня дороже из всего этого, я не знал, да и не собирался разделять это никак. Всё для меня одинаково было дорого. Ничто одно мне не могло заменить ничего другого. А чем заменить всё?! Верой?
Надеждой. Верой. Силою. А где ж их взять? Надежду, веру – это понятно. А силы вот уж начинают сякнуть. А ведь ещё не началось. Три дня всего прошло или четыре, а я в депрессию какую-то пошёл, уж ни на что не глядя…
Друзья мне помогли. Отец, родные, друзья родных, друзья друзей, сенат. Собрали все бумаги. Снова дело, свидетели, прошенья, адвокаты, апелляции, петиции …, словом всё, что можно было, вновь было поднято, рассмотрено и взято. Исключая взятки и подкупы. Об этом даже мысль не возникала.
Полтора месяца, оставшиеся было до похода, почти на это и ушли. Был пересмотр. Как надо, честь по чести. Там мне пересмотрели приговор: вместо 10 лет тюрьмы – 2 года галер.
И я воспрял!!!
Не видел я тогда и не читал я после, ни про одного галерника, который был бы счастлив, так как я! 2 года вместо 10-ти. И это было справедливо. Кто был в тюрьме и на галерах тоже, тот вряд ли будет спорить с этим.
Тюрьма – это тюрьма. Весь её смысл в прямой изоляции. Там лазарет есть, стража – не дадут подохнуть. Случаются подвохи, впрочем, там. Убить вас там «посыльный» может с воли или болезнь лихая …, но не сам. Не сам закон на смерть вас там толкает. Он сбережёт по силам, по средствам. Своею смертью умереть там можно, как и везде – от старости, от ран. Даже если, к примеру, какая-нибудь болезнь начинает вас, узника, не слабо одолевать, в зависимости от меры пресечения, могут и отпустить по актировке.
Так было во все времена. И долго ещё останется. В тюрьме есть даже священник, и он там человек отнюдь не лишний.
***
Что до галер, то за священника там – Дьявол. Говаривают, Бог и все святые отворачиваются от любого в тот миг, когда он впервые переступает борт той или иной галеры, вне зависимости от того, праведник он или грешник.
Лазарет: Ха! Я не уверен даже в том, что будь вы сам великий лекарь, найдёте время осмотреть свои же собственные раны.
Ну да, и стража есть, но для того лишь, чтоб ты не забывал простых тех функций, для которых создан. «Создатель» объяснит тебе в два счёта, не применяя даже языка: кто ты такой, где место и что делать, чего бояться и о чём мечтать.
Мечты лишь три, их скоро сам увидишь, они помогут жизнь тебе продлить: подольше есть, побольше спать и видеть, когда несут воды, чтобы попить.
Растягиваешь трапезу и счастлив.
Поспать побольше, значит, что поглубже. Главное во время перерыва быстрее замереть, и… наступает забытьё. Со сном это ничем не схоже. Это похоже на обморок. Отдыха тоже не даёт. Отдыха в том смысле, который вот собственно это слово и значит. Со временем, с весьма недолгим причём, в режим сей, вливаешься и действуешь уже автоматически. Не пройдёт и 30-ти секунд после прибытия, как идёт команда: «Сушить вёсла!» или же что-то ещё в этом роде, как ты уже спишь, вернее отрублен от мира всего.
Стоны там, бормотания во сне или же чего доброго ворочаться и пробовать как-нибудь там заснуть – это всё нам не свойственно. Мы своё дело знаем – не потерять ни секунды. Долгих стояночек не бывает.
И вот ещё, что есть главное. Это вода. Пресная питьевая вода. Её за день приносят дважды. И не полтора-два литра в день на человека, как положено по гостам санэпидстанции. Один черпак. Тёплая, с гнилостным запахом, но она вкусная, как бы пьянит, усваивается мгновенно, через секунду уже не оставляет о себе никакой памяти.
Она есть суть жизни. Но и она же способна свести с ума.
Не дай бог – Посейдон подряд два раза обнесённым быть такой водой. Один раз прозеваешь – пол-беды, подумать можешь только, что случайность. Но дважды в день или с вечера на утро, тут будет паника и к вечеру – кранты. С ума обычно сходит человек тот. Казалось бы, не суть, но так бывало.
Туда мне и маршрут. Лишь на два года. Другим пожизненно. Другие пленены. Тем, кто пленён или пожизненно осужден, бежать не следует, – прикованы они. Прикованы они к галеры днищу. Расковывают их только в одном случае – в случае преждевременной смерти. При крушении или пожаре их не расковывают, не освобождают. Таких большинство.
Итак, меня туда приговорили. Назавтра должен был отправиться я в путь. Сейчас с друзьями попрощаться б надо.
Встретился я только с невестой. С остальными то я уже напрощался за всё это время.
Я снова был очень стоек. Бодр, энергичен и здоров. Исполнен лишь одною целью. Скорей вернуться! Два года ровно, не убавить. Прибавить могут, как везде. Вернуться целым – вот, что важно. Задача кажется по мне.
***
Я был уверен, что сумею, пусть хоть не на 100%, но контрольный пакет акций по этой уверенности находился всё-таки у меня.
Я сам же командир галеры, пусть ещё только новоиспечённый, но уже полностью прошедший все мыслимые и немыслимые тренировки на этот счёт. Я знаю, как там выжить, я уверен.
С невестою прощались в её доме. Просил не волноваться её я. Сказал, что если всё-таки погибну, то будет в этом лишь моя вина. Моя, а не кого-либо другого, другой не в силах связь нашу прервать…
Потом пошли мы сад и там, в открытом месте, я попросил её засеять мне цветок. Не однолетний, а чтоб был ровесник, покуда меня нет, чтоб он подрос. Сказал, что буду им я для неё здесь, чтоб поливала, холила меня, и я буду сильней на своём месте, буду беречь себя и знать, что здесь есть я.
Так и расстались.
***
На утро приговор вступил в силу и срок, наконец, пошёл. Торжественно и как бы официально меня заковали в браслеты на ноги и руки, ещё на берегу, в специальном месте (как бы эшафот), босого и в набедренной повязке. Друзья, родственники и прочие зрители отсутствовали.
Мне снова зачитали приговор: права и обязанности. Всё прозвучало респектабельно и церемониально, даже вдохновило меня не мало.
Удивительно! Оказывается, у меня ещё и права будут. Вот этого в теории не проходили. Я думал у галерников их нет.
Узнал, что меня ожидает амнистия сроком аж на два месяца, если конечно я буду не просто оч. хорошо себя вести, это я итак делать обязан, а в том случае, если я подвиг какой-нибудь совершу. Не маленький, за который гражданам, например, жалуют титулы, например, или почести. Тогда и останется мне год десять месяцев.
Ещё мне сказали, заковывать не будут. Плюс к этому, вот что ещё я узнал: Если такой вот подвиг совершает «пожизненник», то он награждается титулом – «срочник». И срок теперь у него есть не более 10-ти лет. А если подвиг его жизнь уносит – его похоронят с почестями. Только таких вот срочников не расковывают.
Надо же, сколько приятных новостей за один день. То ли ещё будет. Торжественно, в браслетах и оковах, проследовал я к трапу вниз. Там с меня цепи сняли, и я ступил на борт небольшой галеры мощностью в 50 пар спин.
Усадили на место, предварительно, со знанием дела, окинув взглядом мою комплекцию, где-то в середине корабля по правому борту – слева, в четвёрке, спиною к корме. Вежливо, пока, объяснили все правила, как новичку. Новички там в тот день ещё были, остальных всех приковывали.
На пирс уж, слава Богу, меня никто не вышел провожать. Убедившись в этом, я и сел.
***
После этого нельзя уже было просто так вставать. Таковы правила. А иначе можно было бы превратиться в бессрочника или покрыться бурыми пятнами или полосками от приборов кнутовщика.
Это был корабль Ротхара. Значит что ж, сбылась всё-таки та мечта или нет? Я же на галере и Ротхар где-то будет вот здесь, да и Птоломей, он командиром на соседней такой же галере. Наши две в паре отправляются. Куда только, мне не ведомо, да и теперь уж не важно.
Меня не приковывают. Из срочников на малом сроке я здесь один только. Или же есть ещё, но я не знаю. Срочников, если им дадено менее 5-ти лет, приковывают или не по усмотрению личному капитана. Сбежит или не сбежит.
Я не сбегу, прости Господи, куда же мне будет бежать, как не на Родину.
Я командир галеры, в общем. Сейчас же я галерник. Все правила мне подлинно известны. Все, до единого, что должен делать каждый. На нашей сто гребцов, солдат десяток, командир и пять кнутовщиков наёмных. Я, можно сказать, как у себя дома, только в гостях. На совесть знаю, как себя вести мне надо, чтоб выжить и неповреждённым быть.
***
Мой срок пошёл…
И я держался ровно. Год и 6 месяцев проработал. Стерёг себя, слушался беспрекословно. Ни разу кнут или пистон моего тела не коснулся.
Я сильным оказался парнем, за что был пересажен в тройку. К корме поближе: слева, правый борт.
Осталось ещё 6 месяцев. Подвиг или же что-то там ещё – это немыслимо. Немыслимо, да и невыполнимо. Вот повезёт если, тогда …, но всё как прежде.
***
Стояночка в открытом море. Безветренно. Тепло, не жарко. Расслабился весь экипаж. Очевидно, какое-то задание выполнили команды и теперь вот всеобщий отдых. Мне безразлично, я в отключке сплю. У меня есть свои нормативы и своё расписание.
Вдруг. Что-то слышу. … про работу … … слабо.
…Какая работа? Я не хочу работать! – мне хочется им крикнуть это всем, чтоб слышали, сквозь толстый бред и дрёму…
Удар кнута и свист. Меня по телу! Я вскакиваю. На ноге рубец. На левой вкруг голени до лодыжки. Бедро саднит и грудь, но пуще боли гнев: «За что?!?»
И тут я понимаю за что. Оказывается, что идёт побудка, верней подъём, команда: «На работу!» Но всё идёт не так, не по уму.
Досада, ярость и упрёк меня в тот час врасплох застали и «закипеть» пришли.
Кнутовщики! Один из них негромко речь свою заводит и бьёт кнутом сейчас. Я это не придумал, вижу. Вот он сказал: «Вставай», – соседу моему. Но тот не встал, и взвилось кнутовище…
Всё дело в том, что тихо говорит он. Сегодня тихо. Тише, чем всегда и сразу бьёт, со стрелочкой, с плеча.
На кончике самом, кнута, есть у него такая штучка, как стрелочка, она металлическая и служит как бы крючком или вспарывателем, смотря как потянешь или за что зацепишь. Остальные части кнута тоже сделаны задумчиво. С умом.
Ещё не бьёт, он только замахнулся. А я ошибку вижу. Бить следует лишь за непослушанье. А не за то, что спит раб, не за так.
Я не бунтарь, я правила все знаю. Ведь я галерник не простой…
Погромче крикнуть надо бы команду. Расслабился наёмник-кнутовщик и хлещет всех, кто спит, а те не слышат, как я не слышал, как теперь не слышит, очевидно, тот старик.
Рубец вот на ноге. На чистом теле, свежий. Обида сразу в гнев переросла. Не уберёгся. Зарастёт, но след же, останется, пожалуй, навсегда.
Синяки, шрамы и ссадины украшают лицо и тело мужчины. Слышал я это тоже, но чёрта с два!!! Я их не собирал, как украшенья. Рубец иль шрам, полученный в бою, пусть будет там, где Бог найдёт им место, а в униженьи шрам – это позор.
Увидел я его, его ошибку, когда взметнул он кнут над стариком. И он меня узрел. Остановился. Переложил за спину кнут…
И я… забыл!!! … Забыл, что я галерник и отребье. Лишь на секунду, лишь на миг забыл. Переступил он. Ловко сделал выпад…
…Но я его удар остановил. Поймал змею и вырвал кнутовище из его рук, теперь он будет мой.
И замер. Жду я. Тишина повисла. Увидели все нас. Я вновь пошёл…
Мгновение назад я б передумал, отдал б оружие и на скамейку б сел. Грести не трудно, уже есть привычка, тем боле четверть срока, я б стерпел. Стерпел б, когда исправили б ошибку. Но не заметили или не взяли в толк.
Не до ошибки тут, с кормы попёрли двое, и с носа пара двинулась ко мне. Не будут унижаться, не позволят, чтоб кнутовщик покаялся ко мне…
Теперь я понял, я в себя вернулся, галерник я, а не эксконсультант. Но невредимым мне уж не вернуться…
Мне б бросить кнут, на место б сесть, позволить им «набить мне морду», глядишь, мне б сохранили жизнь…
Об этом лишь мгновение я думал.
Пошёл.
К корме, к солдатам, больше там народу. Солдаты все спокойны, на местах: сидят, стоят, не смотрят на расправу. Навстречу кнутовщик ко мне идёт. И я иду. Не начинаю первый…
О, если б он сказал, что я не прав, я бы остановился, я б не сгинул, позволил бы себя и заковать. Ну, поворчал немного б и отринул. Отринул б мысль о том, что справедлив, мой замысел был, сделать замечанье. Галерник я, никак не командир, имеющий права лишь на молчанье.
Тогда я свой наверняка исполнил б долг: вернуться в дом живым – отцом иль мужем… Но тщетно, я решил им дать урок, пусть даже и последний, он им нужен.
О доме думал я уже потом и о любви, да и о жизни тоже, когда свободен стал …, да, да от ней, от жизни в смысле …, но об этом позже…
Я не сбавляю шаг, теперь я бунтовщик, меня остановить им надо.
Взмахнул он, и… Я первым был, скосил его. Простак. Ведь я же капитан, хоть и галерник. Второго, третьего свалил уж без труда, они слабее были и трусливей. Те двое носовых не подошли. Спасибо им, достаточно насилий.
Я на корму запрыгнул первый, сам, пока меня туда не пригласили. Врасплох застал их, но не всех, Ротхар, меня как будто ждал. Смотрел, о чём-то мыслил.
Не поворачивался он, не угрожал. Ведь не его забота подавленье. Он просто ждал, что делать буду я, моих реакций ждал и первых намерений.
Угомонился я на миг только тогда, хотя и здесь был шанс для поворота. Раскаяться. За вёсла… Никогда!
Я первый начал здесь…
Я не убийца. Убить их всех я б смог, они хмельны: от отдыха, полуденного солнца, от дрёмы послевахтенной и от мечты, домой ведь едут, в порт родной…
Моя задача повалить их с ног, связать их всех и может быть поранить. Бежать! Чтоб не догнали. Вплавь… Куда …? Не время думать…
В руках то кнут, то румпель, то копьё, а то всё вместе, ноги в ход пускаю, я побеждаю пока, семеро уже. Ротхар остался, а за ним лишь двое. Те двое молоды, боятся, юнги два, не нападают. За его спиною. Им вряд ли вместе будет 32. Меч подают Ротхару, щит и… он сразу рядом, около меня.
На щит его меня бросает кто-то… Рукой отталкиваюсь… уже в трёх шагах… обидчика ударил… вижу! Друг мой свой меч назад отвёл… его движенье мне ни с чем не спутать… Ещё мгновение и он метнёт… Ой, ой! … Он не промажет.
Вряд ли. Вряд ли увернусь я.
На стороне его и право и закон, а дружба наша временно закрыта. Галерник я, а он,
как прежде – он. И он метнёт и будет прав. Он знает.
На службе главное не дружба, а закон.
Не знаю, ожидал он или нет, я первый в ход пустил своё оружье… Не ожидал, теперь уж видно, нет, и стрелочка ему за переносицу засела. Щитом закрыться б мог, но вот не стал.
Я его слева обмотал змеёвкой, на уровне висков и только что красивых глаз. Я потянул, и он меч выронил, стал отцеплять стараться сам от своей кости межглазной. Я то позволил, потом снова дёрнул резко – прорезал кожу стрелочкой от глаза до виска. Теперь он увлечён не мной – своей проблемой.
Толкнул двух юнг я к борту, пригрозил. Кнутовщики подняться не посмели. Огрел колодой трёх солдат, как более живых. Долой! Пора сниматься. Разбежался. Прыгнул.
***
Вода прохладная слегка. Приятна. Штиль. Акулы есть иль нет, мне безразлично. Я человек без Родины теперь, не муж и не отец, а только личность. Но личности достаточно, чтоб жить. И я плыву, плыву в открытом море.
На милю оторвался – фору взял. Но лишь свою…
Я оглянулся. Видно корабли. Сначала мой, за ним второй поодаль. Спустя минуту оторвалась от кормы гребная лодка, вроде яла, для погони. Они быстрей, чем я, но я плыву от них, что было сил. А сил уже поменьше. Поменьше сил – побольше суеты, теряю скорость и уж слышу крики.
Солдаты в лодке, я же всё плыву и не оглядываюсь больше. В какой-то миг они меня уже догоняют, и я уже слышу, как стихает ритм плеска их вёсел. Мне вдруг становится спокойно и суеты больше нет.
Вот они подплывают уже ко мне слева. Когда на траверзе и пробуют схватить, я поворачиваюсь перпендикулярно вправо и плыву. Лодка узкая и длинная, им придётся делать большой круг, на месте им не развернуться. Так я выигрываю ещё минуту или две. Затем снова и снова я повторяю свои манёвры. Затем снова и снова. Наконец круг сужается. Они уже не кричат, а зовут меня просто к себе на лодку. Я же всё время прячу своё лицо и уплываю от них.
В конец это им так надоедает, что несколько из них начинают угощать меня своими плетьми. Плети у них не такие, как у кнутовщиков, а короткие и без стрелочек. Целятся мне по рукам или в голову. Я не закрываю её руками. Руки всё остальное у меня чаще теперь под водой, так что попадают теперь мне в затылок и в верхнюю часть головы. Иногда кто-нибудь достаёт и до лба.
Кто-то командует солдатам зайти ко мне таким образом, чтобы повернуть меня к ним лицом или хотя бы боком. Я всё чаще уже опускаю лицо наполовину или даже полностью в воду. Не ныряю с головою, не прячусь. Сил на это уже нет.
Спокойствие. Единственная цель или намерение – не повернуться к ним лицом. Я их не вижу, – значит, я свободен. Свободен в чувствах, я им не сдаюсь. Мне чаще плётки задевают лоб. Чтоб лоб задеть, надо ударить точно. Но крови нет, её смывают волны. Глаза целы.
Ещё мгновение и нос я свой из воды поднять уже не могу. Лицо опускается. Всплывают шея, плечи. Я* вышел медленно. Удары прекратились. Теперь меня взять можно будет и руками. Вернее не меня*, а моё тело. Вот подгребают бортом, не спешат уж. Не грубо двое под руки берут и поднимают вверх. Я* рядом наблюдаю. Наблюдаю я* только за телом. Даже в таком состоянии я* не хочу кроме себя (тела своего то есть) никого видеть.
Откидывают на спину и… вдруг!
Я* слышал, с самого начала ещё, по голосам солдат, что лодочка не наша. Не с моей* галеры родной.
Вдруг! Чуть отстранив от тела взор свой*, Я* вижу: ноги и тело потом – Птоломея!!
– Да, к-как же это?!!!!!!! – молвил он.
И я* сжимаюсь в ком в его объятьях. Он прижимает мою голову к себе, кладёт её на колени и… плачет тихо… Плачу с ним и я*.
Так много времени у нас проходит.
Потом очнулся я* от слёз. Да, он узнал меня, лицо не пострадало.
Лежу я (тело) на борту, у левого планширя, в галере Птоломея, на шканцах. И он сидит правей. Время от времени он поливает на лицо мне водой и вытирает его, всё как-то суетливо, как будто хочет меня оживить, привести в чувство.
В пути галеры уж.
Ротхар тоже здесь рядом. Он ходит в нескольких шагах по палубе,
как тигр в клетке. Птолом же со мной разговаривает.
Вечером это. Светило на закате. Подходит ко мне Ротхар, на корточки садится рядом. И оба смотрят просто в пол, а разговор ведут друг с другом, а может и со мной*, мне* так кажется иногда. Я* тоже смотрю в пол. На их лица или на своё смотреть мне* пока не просто. Они объяснить всё пытаются снова.
Из разговора их я понимаю, что Ротхар пытается сказать ещё раз, как я учинил переполох на его судне.
Сказал, что на самом деле послать в погоню лодку было уже в точь невозможно, и не с кем и некогда. Во всяком случае, в первые пол-часа. Да и потом оказалось, что лодочка тоже выведена из строя, тоже не без моей помощи. О том сказал он, что я старался их не убить, хотя имел возможность, что он – Ротхар, сразить меня пытался, но я ловчей был, и то, что он в погоню всё ж хотел поехать сам.
– Одно я так и не пойму, – он говорил, – вот что-то же должно было случиться, чтоб он такую невидаль взварил. А что это? Случайность? Это вряд ли.
Он долго потом ещё вслух рассматривал, что же могло меня заставить так поступить. Сначала сидел, затем встал и снова стал расхаживать взад и вперёд.
Потом уж он снова присел, но теперь уже рядом и слева от меня, от моего тела конечно.
Дальше он стал рассказывать:
– Мне ехать было некогда, я ранен. Солдаты сбиты с толку, юнги два, те с перепугу к бортику прижались, куда он посадил их, уходя. Команды мои слабо выполнялись. Я сам не ведал, что им говорить.
(Здесь я не знаю, о каких командах он ведёт речь. При этом Ротхар, чтобы не делал, всё время держится ладонью за правый глаз у правого виска.)
– … Потом два кнутаря до носа добежали и стали звать твоих.
Птоломей:
– Да, дальше слышал я.
(Галера Птоломея стояла примерно в 70 – 100 метрах от носа нашей галеры, так что там можно было докричаться.)
– Галерник убежал, они моим сказали. Сказали: ял разбит, изранен экипаж. Я даже посмеялся первым делом. Вот, думаю, Ротхар повоевал – один галерник ему бунт устроил. Но всё же ял спустил, галерника достал… Один ещё сказал, все ранены, но живы, поэтому к тебе я не поднялся… Его сначала видно не было, потом уж показалась голова… Не знал, что он. Лица его не видел… А если б и увидел, что тогда?…
Уж сумерки пришли. Они сидели молча. Птолом укрыл меня, помыл лицо водой.
(Если галерник удрал, его, во что бы то ни стало, обязательно надо вернуть на судно живым или мёртвым. Невыполнение этого условия сильно разлагает дисциплину. А вот доставка галерника и наказание местное, напротив, её же делают крепкой. Убивают за это редко. Только лишь прибавляют срок. Если прибавить уж некуда, то избивают, либо лшают их пищи. Сроки же срочникам могут прибавить только в суде. Ну а телесное наказание – преррогатива местного совета.)
Потом Птолом сказал:
– Нам спать пора. Мы оба виноваты. И ты поспи, Дион, доедем до утра…
Доехали только на третье утро. Город встречает нас, но не торжественно. Плохая весть уже разнеслась там. Но не всех это огорчает. Люди, солдаты, все предоставлены сами себе. Событие их не коснулось.
Три дня уже как раз и прошло, сегодня день похорон. Бережно, без помпезностей тело перекладывают на помост и увозят от пристани, сразу по окружной дороге к кладбищу и хоронят там. Женщины в процессе похорон не участвуют. Я* молча за всем с высоты наблюдаю. За своё тело я* уже мало беспокоюсь, с ним там всё в порядке, похоронили его, как надо и без проблем.
Я* всё больше за своими друзьями слежу. Вот они за похоронной процессией вдоль идут. Молча шагают больше уже. Сами в обряде том не участвуют, для этого есть служба какая-то.
– Ну, что ж, теперь идём к невесте, вместе, – имеют в виду мою Эвелину.
(Всё это время, с тех пор, как я* Птоломея увидел, я* продолжаю испытывать муки совести всей. За то, что им вот теперь нести придётся за всё ответственность. За то, что их выходит, я* и подставил, создал условия сам*, чтобы они убили меня* сами того не желая. И слово своё я*, увы не сдержал: к невесте, к друзьям не вернулся. И лучших, любимых друзей своих всех, навеки к потере пристроил. Сделал их навек виноватыми.)
(Хочется сказать мне* им, обнять их всех: «Слушайте, братья, вашей вины здесь нет, вы же сами должны это чувствовать. Всё случилось так, потому что случилось именно так, не могло выходит всё приключиться иначе. Вы же оба делали там своё дело. Каждый на своём месте, из вас, поступил бы именно так, как и должен был поступить, в угоду лишь силе и собственной совести. Нечего вам теперь на себя пенять.» – говорил я* это им всегда, кричал им, можно сказать.)
(Но они не слышали ни слов, ни мыслей моих*. Никто же не знал, что я рядом. Как ни пытался я* близко иль рядом «висеть», приближаться меж ними к их лицам. Тщетны усилия были мои*, как тщетны усилия мёртвых, сказать свои мысли живущим, или хотя бы намёк сделать им на хоть наличие рядом своё* без суеты или без суеверий.)
Добрались до ворот мы трое уже в полдень.
Она не плачет. Ждёт. Выходит к ним потом.
Ротхар колено преклонил, а Птолом сразу молвил:
– Убили мы его. Казни нас…
Минута пронеслась.
– Мне вас казнить? Зачем? Ведь вы не виноваты… Вы тоже были там, но в том его вина…
Птолом теперь пал ниц, а Ротхар приподнялся и стал винить себя, рассказывая суть…
Ладони положив на их мужские лица, она продолжила:
– Да, в том его вина. Его, не ваша. Он сам сказал об этом, уходя. Сказал, что: «Если всё-таки погибну, то в этом будет лишь моя вина. Моя, а не кого-либо другого. Другой не в силах связь нашу прервать…» И не прервал. Она у нас осталась. Осталась крепкая, как раньше, как всегда.
Так поднимитесь же, я вас с дороги встречу и напою тем свадебным вином, которое отец мой сделал прежде, в тот день, когда расстались мы вдвоём.
Они поднялись, обнялись, поцеловались… и в дом вошли. Накрыли 2 стола.
Отец вино принёс.
И в тот же час унялись, спокойно стало, потекли слова. Слова о том, как дружба наша крепла, как вместе с ней и та любовь росла. Росла. И выросла почти, но …, где ж ей место?!!…
(Тем временем и мне* спокойно стало. Все прощены, никто не виноват. Но есть, однако, что-то, что не даст мне* за облака подняться на приват.)
– Постойте все! Я же совсем забыла. Скорее в сад. Там мне вода нужна …, – сказала и сейчас же поспешила, – в саду цветок. Он без меня, а я тут… А я одна …, вино с его друзьями… Господь, спаси его. Ах, вот он – невредим.
Стоит в саду цветочек невысокий. Мы подошли все. Он слегка поник.
– Сказал Дион, чтоб я здесь посадила, цветок простой, похожий на него. Он будет связью между мною и любимым, до той поры, когда увижу я его.
Ты снова здесь, ты с нами, ты любимый, ты будешь навсегда в наших сердцах. Расти теперь, ты многолетний, ты счастливый. Тебя мы любим, как любил ты нас!
(Не зря я перед этим волновался, как сердцем чувствовал, что что-то должно быть. Вот моё* место!!! Я* цветок!!! Я* с ними!!! А это значит, что я буду жить! …)
На этой оптимистической ноте, я* и покинул сей бренный мир, дабы почить перед следующим телом (или делом).
Сергей Шадрин. Лето. Июнь. 2000 год.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?