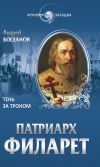Текст книги "Русь в «Бунташный век» (сборник)"

Автор книги: Сергей Соловьев
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 25 страниц)
Но Сигизмунд, вопреки настоянию бояр и даже многих польских сенаторов, вопреки собственному обету, не думал отправить сына в Москву; не думал и сам идти к ней с войском, как предлагали ему наши изменники; сильно, упорно хотел одного: взять Смоленск – и ничего не делал; писал только указы синклиту уже вместе, от себя и Владислава, именуя его однако ж не царем, а просто королевичем; уверял бояр и всю Россию, что желает ее мира и счастия, умиленный нашими бедствиями и будучи ревностным заступником греческого православия; желает соединить ее с республикою узами любви и блага общего, под нераздельным державством своего рода; что виною всего зла есть упрямство Шеина и князя Василия Голицына, не хотящих ни Владислава, ни тишины; что до усмирения Смоленска нельзя предпринять ничего решительного для успокоения государства.
Между тем, как бы уже спокойно властвуя над Россиею, Сигизмунд непрестанно извещал Думу о своих милостях: производил дворян в стольники и бояре, раздавал имения, вершил дела старые, предписывал казне платить долги купцам иноземным еще за Иоанна, в то время когда указы ее были уже ничтожны для России; когда города один за другим восставали на ляхов; когда и жители Смоленской области стерегли, истребляли их в разъездах, тревожа нападениями и в стане, откуда многие россияне, дотоле служив королю, уходили служить отечеству: так Иван Никитич Салтыков, пожалованный в бояре Сигизмундом, мнимый доброхот его, мнимый противник Ермогена, Филарета и Голицына, с целою дружиною ушел к Ляпунову. Напрасно Госевский ждал вспоможения от короля: видя необходимость действовать только собственными силами, он выслал шайки днепровских козаков и московского изменника Исая Сунбулова воевать места рязанские. Ляпунов, имея еще мало рати, выгнал толпы неприятельские из Пронска, но чрез несколько дней был осажден ими в сем городе и спасен князем Дмитрием Пожарским, уже ревностным его сподвижником: обратив их в бегство и скоро разбив наголову у Зарайска, добрый князь Дмитрий избавил вместе и Ляпунова от плена и землю Рязанскую от грабежа; блеснул новым лучом славы и, с чистою душою пристав к великому делу, дал ему новую силу… Козаки бежали в Украйну, предвидя несгоду злодейства, а Сунбулов в Москву с худою вестию для изменников и ляхов, устрашаемых и восстанием областей и ножами москвитян. Но Госевский хвалился презрением к россиянам: надеялся управиться с боязливою Москвою, вопреки неблагоразумию короля соблюсти ее как важное завоевание для республики и с малым числом удалых воинов победить многолюдную сволочь.
Рать Ляпунова и других областных начальников была действительно странною смесью людей воинских и мирных граждан с бродягами и хищниками, коими в сии бедственные времена кипела Россия, и которые искали единственно добычи под знаменами силы, законной или беззаконной: грабив прежде с ляхами, они шли тогда на ляхов, чтобы также грабить, и более мешать, нежели способствовать добру. Так атаман Просовецкий, быв клевретом и став неприятелем Лисовского, имев даже близ Пскова кровопролитную с ним битву как разбойник с разбойником, вдруг явился в Суздаль как честный слуга России, привел к Ляпунову тысяч шесть козаков и сделался одним из главных воевод народного ополчения! Всех звали в союз, чтобы только умножить число людей.
Приняли князя Дмитрия Трубецкого, атамана Заруцкого и всю остальную дружину тушинскую: ибо сии долго упорные мятежники вдруг воспламенились усердием к государственной чести, отвергнули указ московских бояр, не дав клятвы в верности к Владиславу, и выгнали из Калуги посла их князя Никиту Трубецкого. Звали и бесстыдного Сапегу, который, не хотев удалиться в Северскую землю, писал из Перемышля к калужанам, что он служит не королю, не королевичу, а вольности, – не слушает бояр, убеждающих его идти на Ляпунова, и готов стоять за независимость России. Чего надлежало ждать и в святом предприятии от такого несчастного состава? не единства, а раздора и беспорядка. Но кто верил таинственной силе добра, мог чаять успеха благословенного, видя, сколь многие и сколь ревностно шли умирать за отечество сирое, кинув домы и семейства. Раздор и беспорядок долженствовали уступить великодушию!
Около трех месяцев готовились – и наконец (в марте) выступили к Москве: Ляпунов из Рязани, князь Дмитрий Трубецкой из Калуги, Заруцкий из Тулы, князь Литвинов-Мосальский и Артемий Измайлов из Владимира, Просовецкий из Суздаля, князь Федор Волконский из Костромы, Иван Волынский из Ярославля, князь Козловский из Романова, с дворянами, детьми боярскими, стрельцами, гражданами, земледельцами, татарами и козаками; были на пути встречаемы жителями с хлебом и солью, иконами и крестами, с усердными кликами и пальбою; шли бодро, но тихо – и сия, вероятно невольная, неминуемая по обстоятельствам медленность имела для Москвы ужасное следствие.

Сабля Д.М. Пожарского. Иллюстрация из научного труда Ф.Г. Солнцева «Древности Российского государства, изданные по высочайшему повелению императора Николая I»
В то время, когда ее граждане с нетерпением ждали избавителей, бояре, исполняя волю Госевского, в последний раз заклинали Ермогена удалить бурю, спасти Россию от междоусобия и Москву от крайнего бедствия: писать к Ляпунову и сподвижникам его, чтобы они шли назад и распустили войско. Ты дал им оружие в руки, говорил Салтыков: ты можешь и смирить их. «Все смирится, – ответствовал патриарх, – когда ты, изменник, с своею литвою исчезнешь; но в царственном граде видя ваше злое господство, в святых храмах Кремлевских оглашаясь латинским пением (ибо ляхи в доме Годунова устроили себе божницу), благословляю достойных вождей христианских утолить печаль отечества и церкви».
Дерзнули наконец приставить воинскую стражу к непреклонному иерарху; не пускали к нему ни мирян, ни духовенства; обходились с ним то жестоко и бесчинно, то с уважением, опасаясь народа. В неделю Страстную дозволили Ермогену священнодействовать и взяли меры для обуздания жителей, которые в сей день обыкновенно стекались из всех частей города и ближних селений в Китай и Кремль, быть зрителями великолепного обряда церковного. Ляхи и немцы, пехота и всадники, заняли Красную площадь с обнаженными саблями, пушками и горящими фитилями. Но улицы были пусты! Патриарх ехал между уединенными рядами иноверных воинов; узду его осляти держал, вместо царя, князь Гундуров, за коим шло несколько бояр и сановников, унылых, мрачных видом. Граждане не выходили из домов, воображая, что ляхи умышляют незапное кровопролитие и будут стрелять в толпы народа безоружного. День прошел мирно; также и следующий. Госевский, имея только 7000 воинов против двух или трех сот тысяч жителей, не хотел кровопролития: ни москвитяне. Первый, слыша, что Ляпунов и Заруцкий уже недалеко, мыслил идти к ним навстречу и разбить их отдельно; а москвитяне, готовые к восстанию, откладывали его до появления избавителей. Но взаимная злоба вспыхнула, не дав ни Госевскому выступить из Москвы, ни воеводам российским спасти ее. Кто начал? Неизвестно; но вероятнее, ляхи, с досадою терпев насмешки, грубости жителей и думая, что лучше управиться с ними заблаговременно, нежели поставить себя между их тайно остримыми ножами и войском городов союзных, – наконец удовлетворяя своему алчному корыстолюбию разграблением богатой столицы. Так началось и свершилось ее бедствие ужасное.
19 марта, во вторник Страстной недели, в час Обедни, услышали в Китае-городе тревогу, вопль и стук оружия. Госевский прискакал из Кремля: увидел кровопролитие между ляхами и россиянами, хотел остановить, не мог, и дал волю первым, которые действовали наступательно, резали купцов и грабили лавки; вломились в дом к боярину верному, князю Андрею Голицыну, и бесчеловечно умертвили его.
Жители Китая искали спасения в Белом городе и за Москвою-рекою: конные ляхи гнали, топтали, рубили их; но в Тверских воротах были удержаны стрельцами. Еще сильнейшая битва закипела на Сретенке: там явился витязь знаменитый, отряженный ли вперед Ляпуновым или собственною ревностию приведенный одушевить Москву: князь Дмитрий Пожарский. Он кликнул доблих, устроил дружины, снял пушки с башен и встретил ляхов ядрами и пулями, отбил и втоптал в Китай. Иван Бутурлин в Яузских воротах и Колтовский за Москвою-рекою также стали против них с воинами и народом. Бились еще в улицах Тверской, Никитской и Чертольской, на Арбате и Знаменке. Госевский подкреплял своих; но число россиян несравненно более умножалось: при звуке набата старые и малые, вооруженные дрекольем и топорами, бежали в пыл сечи; из окон и с кровель разили неприятеля камнями и чурками, дровами: стреляли из-за них и двигали сие укрепление вперед, где ляхи отступали. Уже москвитяне везде имели верх, когда приспел из Кремля с немцами капитан Маржерет, верный слуга Годунова и расстриги, изгнанный Шуйским и принятый гетманом в королевскую службу: торгуя верностию и жизнию, сей честный наемник ободрил ляхов неустрашимостию и, некогда лил кровь свою за россиян, жадно облился их кровию.

А.М. Васнецов. У Мясницких ворот Белого города в XVII веке. 1926 г.
Битва снова сделалось упорною; многолюдство однако ж преодолевало, и москвитяне теснили неприятеля к Кремлю, его последней ограде и надежде. Тут, в час решительный, услышали голос: «огня! огня!», и первый вспыхнул в Белом городе дом Михайла Салтыкова, зажженный собственною рукою хозяина: гнусный изменник уже не мог иметь жилища в столице отечества, им преданного иноплеменнику! Зажгли и в других местах: сильный ветер раздувал пламя в лицо москвитянам, с густым дымом, несносным жаром, в улицах тесных. Многие кинулись тушить, спасать домы; битва ослабела, и ночь прекратила ее, к счастию изнуренного неприятеля, который удержался в Китае-городе, опираясь на Кремль. Там все затихло; но другие части Москвы представляли шумное смятение. Белый город пылал; набат гремел без умолку; жители с воплем гасили огонь, или бегали, искали, кликали жен и детей, забытых в часы жаркого боя. После такого дня, и предвидя такой же, никто не думал успокоиться.
Ляхи в пустых домах Китая-города, среди трупов, отдыхали; а в Кремле, при свете зарева, бодрствовали и рассуждали вожди их, что делать? Там еще находилось мнимое правительство российское с знатнейшими сановниками, воинскими и гражданскими: ужасаясь мысли желать победы иноплеменникам, дымящимся кровию москвитян, но малодушно боясь и мести своего народа, или не веря успеху восстания, Мстиславский и другие легкоумные вельможи, упорные в верности к Владиславу, были в изумлении и бездействии; тем ревностнее действовали изменники ожесточенные: прервав навеки связь с отечеством, заслужив его ненависть и клятву церковную, пылая адскою злобою и жаждою губительства, они сидели в сей ночной Думе ляхов и советовали им разрушить Москву для их спасения.
Госевский принял совет – и в следующее утро 2000 немцев с отрядом конным вышли из Кремля и Китая в Белый город и к Москве-реке, зажгли в разных местах домы, церкви, монастыри и гнали народ из улицы в улицу не столько оружием, сколько пламенем. В сей самый час прискакали к стенам уже пылающего деревянного города от Ляпунова воевода Иван Плещеев, из Можайска королевский полковник Струе, каждый для вспоможения своим, оба с легкими дружинами, равными в силах, не в мужестве. Ляхи напали: россияне обратили тыл – и вождь первых, кликнув: «за мною, храбрые!» сквозь пыл и треск деревянных падающих стен вринулся в город, где жители, осыпаемые искрами и головнями, задыхаясь от жара и дыма, уже не хотели сражаться за пепелище: бежали во все стороны, на конях и пешие, не с богатством, а только с семействами. Несколько сот тысяч людей вдруг рассыпалось по дорогам к лавре, Владимиру, Коломне, Туле; шли и без дорог, вязли в снегу, еще глубоком; цепенели от сильного, холодного ветра; смотрели на горящую Москву и вопили, думая, что с нею исчезает и Россия! Некоторые засели в крепкой Симоновской обители ждать избавителей. Но оставленная народом и войском в жертву огню и ляхам, Москва еще имела ратоборца: князь Дмитрий Пожарский еще стоял твердо в облаках дыма, между Сретенкою и Мясницкою, в укреплении, им сделанном: бился с ляхами и долго не давал им жечь за каменною городскою стеною; не берег себя от пуль и мечей, изнемог от ран и пал на землю. Верные ему до конца немногие сподвижники взяли и спасли будущего спасителя России: отвезли в лавру…

Б.А. Чориков. Ранение князя Пожарского
До самой ночи уже беспрепятственно губив огнем столицу, ляхи с гордостию победителей возвратились в Китай и Кремль, любоваться зрелищем, ими произведенным: бурным пламенным морем, которое, разливаясь вокруг их, обещало им безопасность, как они думали, не заботясь о дальнейших, вековых следствиях такого дела и презирая месть россиян!
Москва пустая горела двое суток. Где угасал огонь, там ляхи, выезжая из Китая, снова зажигали, в Белом городе, в Деревянном и в предместиях. Наконец везде утухло пламя, ибо все сделалось пеплом, среди коего возвышались только черные стены, церкви и погреба каменные. Сия громада золы, в окружности на двадцать верст или более, курилась еще несколько дней, так что ляхи в Китае и Кремле, дыша смрадом, жили как в тумане – но ликовали: грабили казну царскую: взяли всю утварь наших древних венценосцев, их короны, жезлы, сосуды, одежды богатые, чтобы послать к Сигизмунду или употребить вместо денег на жалованье войску; сносили добычу, найденную в гостином дворе, в жилищах купцов и людей знатных; сдирали с икон оклады; делили на равные части золото, серебро, жемчуг, камни и ткани драгоценные, с презрением кидая медь, олово, холсты, сукна; рядились в бархаты и штофы; пили из бочек венгерское и мальвазию. Изобиловали всем роскошным, не имея только нужного: хлеба!
Бражничали, играли в зернь и в карты, распутствовали и пьяные резали друг друга!.. А россияне, их клевреты гнусные или невольники малодушные, праздновали в Кремле Светлое Воскресение и молились за царя Владислава, с иерархом достойным такой паствы: Игнатием, угодником расстригиным, коего вывели из Чудовской обители, где он пять лет жил опальным иноком, и снова назвали патриархом, свергнув и заключив Ермогена на Кирилловском подворье. Сей муж бессмертный, один среди врагов неистовых и россиян презрительных – между памятниками нашей славы, в ограде, священной для веков могилами Димитрия Донского, Иоанна III, Михаила Шуйского – в темной келии сиял добродетелию как лучезарное светило отечества, готовое угаснуть, но уже воспламенив в нем жизнь и ревность к великому делу!
Междоцарствие. 1611–1612 гг
Весть о бедствии Москвы, распространив ужас, дала новую силу народному движению. Ревностные иноки лавры, едва услышав, что делается в столице, послали к ней всех ратных людей монастырских, написали умилительные грамоты к областным воеводам и заклинали их угасить ее дымящийся пепел кровию изменников и ляхов. Воеводы уже не медлили и шли вперед, на каждом шагу встречая толпы бегущих москвитян, которые, с воплем о мести, примыкали к войску, поручая жен и детей своих великодушию народа.
25 марта ляхи увидели на Владимирской дороге легкий отряд россиян, козаков атамана Просовецкого; напали – и возвратились, хвалясь победою. В следующий день пришел Ляпунов от Коломны, Заруцкий от Тулы; соединились с другими воеводами близ обители Угрешской и 28 марта двинулись к пепелищу московскому. Неприятель, встретив их за Яузскими воротами, скоро отступил к Китаю и Кремлю, где россияне, числом не менее ста тысяч, но без устройства и взаимной доверенности, осадили шесть или семь тысяч храбрецов иноземных, исполненных к ним презрения.
Ляпунов стал на берегах Яузы, князь Дмитрий Трубецкий с атаманом Заруцким против Воронцовского поля, ярославское и костромское ополчение у ворот Покровских, Измайлов у Сретенских, князь Литвинов-Мосальский у Тверских, внутри обожженных стен Белого города. Тут прибыл к войску келарь Аврамий с Святою водою от лавры, оживить сердца ревностию, укрепить мужеством. Тут, на завоеванных кучах пепла водрузив знамена, воины и воеводы с торжественными обрядами дали клятву не чтить ни Владислава царем, ни бояр московских правителями, служить церкви и государству до избрания государя нового, не крамольствовать ни делом, ни словом, – блюсти закон, тишину и братство, ненавидеть единственно врагов отечества, злодеев, изменников, и сражаться с ними усердно.
Битвы началися. Делая вылазки, осажденные дивились несметности россиян и еще более умным распоряжениям их вождей – то есть Ляпунова, который в битве 6 апреля стяжал имя львообразного стратпига: его звучным голосом и примером одушевляемые россияне кидались пешие на всадников, резались человек с человеком, и втеснив неприятеля в крепость, ночью заняли берег Москвы-реки и Неглинной. Ляхи тщетно хотели выгнать их оттуда; нападали конные и пешие, имели выгоды и невыгоды в ежедневных схватках, но видели уменьшение только своих: во многолюдстве осаждающих урон был незаметен. Россияне надеялись на время: ляхи страшились времени, скудные людьми и хлебом.
Госевский желал прекратить бесполезные вылазки, но сражался иногда невольно, для спасения кормовщиков, высылаемых им тайно, ночью, в окрестные деревни; сражался и для того, чтобы иметь пленников для размена. Известив короля о сожжении Москвы и приступе россиян к ее пепелищу, он требовал скорого вспоможения, ободрял товарищей, советовался с гнусным Салтыковым – и еще испытал силу души Ермогеновой. К старцу ветхому, изнуренному добровольным постом и тесным заключением, приходили наши изменники и сам Госевский с увещаниями и с угрозами: хотели, чтобы он велел Ляпунову и сподвижникам его удалиться.
Ответ Ермогенов был тот же: «Пусть удалятся ляхи!» Грозили ему злою смертию: старец указывал им на небо, говоря: «Боюся Единого, там живущего!» Невидимый для добрых россиян, великий иерарх сообщался с ними молитвою; слышал звук битв за свободу отечества и тайно, из глубины сердца, пылающего неугасимым огнем добродетели, слал благословение верным подвижникам!
К несчастию, между сими подвижниками господствовало несогласие: воеводы не слушались друг друга, и ратные действия без общей цели, единства и связи, не могли иметь и важного успеха. Решились торжественно избрать начальника; но вместо одного выбрали трех: верные Ляпунова, чиновные мятежники тушинские князя Дмитрия Трубецкого, грабители-козаки атамана Заруцкого, чтобы таким зловещим выбором утвердить мнимый союз россиян добрых с изменниками и разбойниками, коих находилось множество в войске. Трубецкий, сверх знатности, имел по крайней мере ум стратига и некоторые еще благородные свойства, усердствуя оказать себя достойным высокого сана; Заруцкий же, вместе с ним выслужив боярство в Тушине, имел одну смелую предприимчивость для удовлетворения своим гнусным страстям, не зная ничего святого, ни Бога, ни отечества.
Сии ратные триумвиры сделались и государственными: ибо войско представляло Россию. Они писали указы в города, требуя запасов и денег еще более, нежели людей: города повиновались, многолетствовали в церквах благоверным князьям и боярам, а в своих донесениях били челом синклиту великого Российского государства и давали, что могли. Казань, стыдясь своего заблуждения, снова присоединилась к отечеству, целовала крест быть в любви, в единодушии со всею землею и выслала дружины к Москве: области низовые и поморские также. Пришли и смоленские уездные дворяне и дети боярские, бежав от Сигизмунда. Ляхи гнались за ними и многих из них умертвили, как изменников: остальные тем ревностней желали участвовать в народном подвиге россиян. Пришел и Сапега с своими шайками и занял Поклонную гору, объявляя себя другом России. Ему не верили; предложения его выслушали, но отвергнули. Атаман разбойников, осыпанный пеплом наших городов, утучненный нашею кровию, хотел, как пишут, венца Мономахова: вероятнее, что он хотел миллионов, предлагая свои услуги. Не обольстив россиян, Сапега ударил на часть их стана против Лужников; отбитый, напал с другой стороны, близ Тверских ворот: не мог одолеть многолюдства, и, по совету Госевского, взяв от него 1500 ляхов в сподвижники и князя Григория Ромодановского в путеводители, удалился к Переславлю, чтобы грабить внутри России и тревожить осаждающих. Вслед за ним Ляпунов отрядил несколько легких дружин: Сапега разбил их в Александровской Слободе, осадил Переславль, жег, злодействовал, где хотел – и россияне московского стана, видя за собою дым пылающих селений, вдруг услышали, в Китае и Кремле, необыкновенный шум, громкие восклицания, звон колоколов, стрельбу из пушек и ружей: ждали вылазки, но узнали, что ляхи только веселились и праздновали счастливую честь о скором прибытии к ним гетмана с сильным войском – весть еще несправедливую, которая однако ж решила Ляпунова и товарищей его не медлить. Они изготовились в тишине, и за час до рассвета (22 майя) приступив к Китаю-городу, взяли одну башню, где находилось 400 ляхов.
Место было важно: россияне могли оттуда громить пушками внутренность Китая. Госевский избрал смелых и велел им, чего бы то ни стоило, вырвать сию башню из рук неприятеля: с обнаженными саблями, под картечею, ляхи шли к ней узкою стеною, человек за человеком; кинулись на пушки, рубили, выгнали россиян и мужественно отбили все их новые приступы. В других местах Ляпунов, везде первый, и Трубецкой имели более успеха: очистили весь Белый город, взяли укрепления на Козьем болоте, башни Никитскую, Алексеевскую, ворота Тресвятские, Чертольские, Арбатские, везде после жаркого кровопролития. Чрез пять дней сдался им и Девичий монастырь с двумя ротами ляхов и пятьюстами немцев. В то же время россияне сделали укрепления за Москвою-рекою, стреляли из них в Кремль и препятствовали сношению осажденных с Сигизмундом, от коего Госевский, стесненный, изнуряемый, с малым числом людей и без хлеба, ждал избавления.
Но король все еще думал только о Смоленске. Донесение Госевского о сожжении Москвы и наступательном действии многочисленного российского войска, полученное Сигизмундом вместе с трофеями (или с частию разграбленной ляхами утвари и казны царской), не переменило его мыслей. Паны в новой беседе с Филаретом и Голицыным (8 апреля), жалея о несчастии столицы, следствии ее мятежного духа, спрашивали их мнения о лучшем способе изгладить зло. Со слезами ответствовал митрополит: «Уже не знаем! Вы легко могли предупредить сие зло; исправить едва ли можете». Послы соглашались однако ж писать к Ермогену, боярам и войску об унятии кровопролития, если Сигизмунд обяжется немедленно выступить из России: чего он никак не хотел, упорно требуя Смоленска, и в гневе велел им наконец готовиться к ссылке в Литву. «Ни ссылки, ни Литвы не боимся, – сказал умный дьяк Луговской: – но делами насилия достигнете ли желаемого?»
Угроза совершилась: вопреки всему священному для государей и народов, взяли послов… еще мало: ограбили их как в темном лесу или в вертепе разбойников; отдали воинам, повезли в ладиях к Киеву; бесчестили, срамили мужей, винимых только в добродетели, в ревности ко благу отечества и к исполнению государственных условий!.. Один из ляхов еще стыдился за короля, республику и самого себя: Жолкевский. Сигизмунд предлагал ему главное начальство в Москве и в России. «Поздно!» – ответствовал гетман и с негодованием удалился в свои местности, мимо коих везли Филарета и Голицына: он прислал к ним, в знак уважения и ласки, спросить о здоровье. Знаменитые страдальцы написали к Жолкевскому: «Вспомни крестное целование: вспомни душу! В чем клялся ты московскому государству? и что делается? Есть Бог и вечное правосудие!»
Не страшась сего правосудия, король в письмах к боярам московским хвалился своею милостию к России, благодарил за их верность и непричастие к бунту Ермогена и Ляпунова, обещал скорое усмирение всех мятежей, а Госевскому скорое избавление, дозволяя ему употреблять на жалованье войску не только сокровища царские, но и все имение богатых москвитян – и возобновил приступы к Смоленску, снова неудачные. Шеин, воины его и граждане оказывали более, нежели храбрость: истинное геройство, безбоязненность неизменную, хладнокровную, нечувствительность к ужасу и страданию, решительность терпеть до конца, умереть, а не сдаться.
Уже двадцать месяцев продолжалась осада: запасы, силы, все истощилось, кроме великодушия; все сносили, безмолвно, не жалуясь, в тишине и в повиновении, львы для врагов, агнцы для начальников. Осталась едва пятая доля защитников, не столько от ядер, пуль и сабель неприятельских, сколько от трудов и болезней; смертоносная цинга, произведенная недостатком в соли и в уксусе, довершила бедствие – но еще сражались! Еще ляхи имели нужду в злодейской измене, чтобы овладеть городом: беглец смоленский Андрей Дедишин указал им слабое место крепости: новую стену, деланную в осень наскоро и непрочно. Сию стену беспрестанною пальбою обрушили – и в полночь (3 июня) ляхи вломились в крепость, тут и в других местах, оставленных малочисленными россиянами для защиты пролома.

Б.А. Чориков. Геройство Михаила Борисовича Шеина при осаде Смоленска в 1611 году
Бились долго в развалинах, на стенах, в улицах, при звуке всех колоколов и святом пении в церквах, где жены и старцы молились. Ляхи, везде одолевая, стремились к главному храму Богоматери, где заперлися многие из граждан и купцов с их семействами, богатством и пороховою казною. Уже не было спасения: россияне зажгли порох и взлетели на воздух с детьми, имением – и славою! От страшного взрыва, грома и треска неприятель оцепенел, забыв на время свою победу и с равным ужасом видя весь город в огне, в который жители бросали все, что имели драгоценного, и сами с женами бросались, чтобы оставить неприятелю только пепел, а любезному отечеству пример добродетели. На улицах и площадях лежали груды тел сожженных. Смоленск явился новым Сагунтом, и не Польша, но Россия могла торжествовать сей день, великий в ее летописях.
Еще один воин стоял на высокой башне с мечом окровавленным и противился ляхам: доблий Шеин. Он хотел смерти; но пред ним плакали жена, юная дочь, сын малолетний: тронутый их слезами, Шеин объявил, что сдается вождю ляхов – и сдался Потоцкому. Верить ли летописцу, что сего Героя сковали цепями в стане королевском и пытали, доведываясь о казне смоленской, будто бы им сокрытой? Король взял к себе его сына; жену и дочь отдал Льву Сапеге; самого Шеина послал в Литву узником.
Пленниками были еще архиепископ Сергий, воевода князь Горчаков и триста или четыреста детей боярских. Во время осады изгибло в городе, как уверяют, не менее семидесяти тысяч людей; она дорого стоила и ляхам: едва третья доля королевской рати осталась в живых, огнем лишенная добычи, а с нею и ревности к дальнейшим подвигам, так что слушая торжественное благодарение Сигизмундово, за ее великое дело, и новые щедрые обеты его, воины смеялись, столько раз манимые наградами и столько раз обманутые. Но Сигизмунд восхищался своим блестящим успехом; дал Потоцкому грамоту на староство Каменецкое, три дни угощал сподвижников, велел изобразить на медалях завоевание Смоленска и с гордостию известил о том бояр московских, которые ответствовали, что, сетуя о гибели единокровных братьев, радуются его победе над непослушными и славят Бога!.. Торжество еще разительнейшее ожидало Сигизмунда, но уже не в России.
Историки польские, строго осуждая его неблагоразумие в сем случае, пишут, что если бы он, взяв Смоленск, немедленно устремился к Москве, то войско осаждающих, видя с одной стороны наступление короля, с другой смелого витязя Сапегу, а пред собою неодолимого Госевского, рассеялось бы в ужасе как стадо овец; что король вошел бы победителем в Москву, с Думою боярскою умирил бы государство, или дав ему Владислава, или присоединив оное к республике, и возвратился бы в Варшаву завоевателем не одного Смоленска, но целой державы Российской. Заключение едва ли справедливое: ибо тысяч пять усталых воинов, с королем, мало уважаемым ляхами и ненавидимым россиянами, не сделали бы, вероятно, более того, что сделал после новый его военачальник, как увидим: не пременило бы судьбы, назначенной Провидением для России!
Сей военачальник, гетман литовский, Ходкевич, знаменитый опытностию и мужеством, дотоле действовав с успехом против шведов, был вызван из Ливонии, чтобы идти с войском к Москве, вместо Сигизмунда, который нетерпеливо желал успокоиться на лаврах и немедленно уехал в Варшаву, где сенат и народ с веселием приветствовали в нем Героя. Но блестящее торжество для него и республики совершилось в день достопамятный, когда Жолкевский явился в столице с своим державным пленником, несчастным Шуйским. Сие зрелище, данное тщеславием тщеславию, надмевало ляхов от монарха до последнего шляхтича и было, как они думали, несомнительным знаком их уже решенного первенства над нами, концом долговременного борения между двумя великими народами славянскими.
Утром (19 октября), при несметном стечении любопытных, гетман ехал Краковским предместием ко дворцу с дружиною благородных всадников, с вельможами коронными и литовскими, в шестидесяти каретах; за ними, в открытой богатой колеснице, на шести белых аргамаках, Василий, в парчовой одежде и в черной лисьей шапке, с двумя братьями, князьями Шуйскими, и с капитаном гвардии; далее Шеин, архиепископ Сергий и другие смоленские пленники в особенных каретах. Король ждал их во дворце, сидя на троне, окруженный сенаторами и чиновниками, в глубокой тишине. Гетман ввел царя-невольника и представил Сигизмунду Лицо Василия изображало печаль, без стыда и робости: он держал шапку в руке и легким наклонением головы приветствовал Сигизмунда.
Все взоры были устремлены на сверженного монарха с живейшим любопытством и наслаждением: мысль о превратностях Рока и жалость к злосчастию не мешала восторгу ляхов. Продолжалось молчание: Василий также внимательно смотрел на лица вельмож польских, как бы искал знакомых между ими, и нашел: отца Маринина, им спасенного от ужасной смерти, и в сию минуту счастливого его бедствием!..
Наконец гетман прервал безмолвие высокопарною речью, не весьма искреннею и скромною: «дивился в ней разительным переменам в судьбе государств и счастию Сигизмунда; хвалил его мужество и твердость в обстоятельствах трудных; славил завоевание Смоленска и Москвы; указывал на царя, преемника великих самодержцев, еще недавно ужасных для республики и всех государей соседственных, даже султана и почти целого мира; указывал и на Дмитрия Шуйского, предводителя ста осьмидесяти тысяч воинов храбрых; исчислял царства, княжения, области, народы и богатство, коими владели сии пленники, всего лишенные умом Сигизмундовым, взятые, повергаемые к ногам королевским…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.