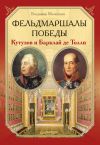Текст книги "Бородино"
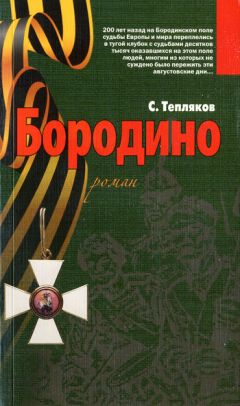
Автор книги: Сергей Тепляков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Глава седьмая
Вечером 23-го августа начались работы на Семёновских флешах и Шевардинском кургане. Багратион, не желавший утомлять работой солдат – не для того и набраны, да и не сегодня-завтра битва – послал в 1-ю армию требование прислать рабочих. Но в 1-й армии рабочие были нужны самим – требование осталось без ответа. Решено было употребить для работ ополченцев, но и это решилось не сразу – ополченцы успели поработать на флешах только 25-го числа. Неторопливость эта объяснялась тем, что и Багратион, и Барклай, и Кутузов полагали, что арьергард Коновницына удержит неприятеля вдали от поля ещё два дня (к тому же и французы разбаловали русскую армию своей неторопливостью и остановками по любой причине и без неё). Однако французы вдруг проявили в арьергардном сражении странный напор и вечером 23-го были уже в Гриднево, в 12-ти с небольших верстах от новой позиции русской армии, на расстоянии одного неторопливого перехода.
Предчувствуя неладное, Шевардинский редут строили всю ночь и всё утро, уже слыша приближающуюся пальбу. Коновницын при отходе принял влево и ушёл по Новой Смоленской дороге к армии. К Шевардину утром 24 августа вышла только та часть арьергарда, которой командовал граф Сиверс. Возле редута находился корпус генерал-лейтенанта князя Горчакова, состоявший из 27-й пехотной дивизии, трёх егерских и двух драгунских полков.
Сиверс и Горчаков встретились возле редута. Хотя они и были почти одних лет (Сиверсу – 35-ть, а Горчакову – 33-и, при этом Горчаков был старше чином), но из-за унылого и будто бы изнурённого лица Сиверс казался старше круглолицего, кудрявого Горчакова, почти постоянно улыбавшегося. К тому же, Сиверс понимал, что его ждали на Бородинском поле разве что завтра, и чувствовал некоторую вину за то, что не сумел удержаться на позиции. Но уж больно решительно взялись за него французы!
– Добрый день, Карл Карлович! – сказал ему Горчаков, подъезжая к Сиверсу. С Горчаковым был и Неверовский, командир 27-й пехотной дивизии, составлявшей основу корпуса Горчакова. Сиверс грустно посмотрел на Горчакова. «Хорошо же тебе весельчаком быть. А вот прошёл бы с армией от самой границы, посмотрел бы я на тебя…» – подумал Сиверс. Горчаков в 1809 году в письме неосторожно поздравил австрийского эрцгерцога с битвой при Ваграме, где Наполеон едва не обломал об австрияков зубы. На беду в то время, после Тильзита, Россия была Наполеону союзник. Перехваченное письмо французы представили императору Александру и тот Горчакова выгнал из службы «навечно». Оба при этом понимали, что уж тут-то ничего «вечного» не будет – так и вышло: после начала войны, 1 июля, Горчаков был возвращён в службу. Однако первых, самых тяжёлых, недель похода, когда войска шли в непроглядной пыли, когда ужасная жара сменялась ураганами, и вновь жарой, когда не то что река или ручей, но любая лужа на пути войск немедленно выпивалась, Горчаков не застал.
– Разве добрый? – спросил Сиверс.
– А разве нет? Дело к битве! – отвечал Горчаков. – А нам и вовсе её ждать не приходится – вы же на своём хвосте привели нам гостей?
Горчаков при этом лукаво улыбнулся. Сиверс нахмурился и вздохнул.
– Бросьте! – сказал Горчаков. – И мы их ждём, и князь Кутузов ждёт. Нам бы только так сделать, чтобы французы разгон потеряли. Много ли их идёт за вами?
– Боюсь, что вся армия, – усмехнувшись, ответил Сиверс. – Если они навалятся все, то нас ненадолго хватит.
– К счастью, местность такова, что все не пройдут. Да и времени им не хватит – осенний день короток… – Горчаков, говоря это, вертел головой. – Вот видите высоту слева от редута? Устройте там батарею, и большую. А вот видите пригорок справа? Там тоже поставьте пушки – сколько поместится. А там уж посмотрим…
Сиверс коротко поклонился и поскакал к своему отряду – распорядиться. Издалека он увидел редут, с которого ещё не ушли рабочие. «Что-то не внушает он опаски… – удивленно подумал Сиверс. – Неужто не выкопали ничего?»…
Редут и правда был сделан едва ли наполовину. Кое-каким препятствием для неприятеля мог служить неглубокий ров, а прикрытием для артиллерии – невысокий вал. Чтобы насыпь не осыпалась, внутреннюю стенку обложили дёрном, но и это – не везде. Главной трудностью для французом могли быть крутые скаты самого кургана – на них и оставалось надеяться. «Русский «авось»… – подумал Сиверс, сам происходивший из Лифляндской губернии (нынче его скорее всего сочли бы эстонцем) и за 20 лет службы так и не привыкший к русскому фатализму. – Ни основательности, ни расчета»…
– А тебе, Дмитрий Петрович, – сказал Горчаков, проводив взглядом Сиверса и поворачиваясь к Неверовскому, – постановляю: держи свою дивизию в колоннах позади редута и в обиду его не давай.
Неверовский, пухлощёкий и с густыми бакенбардами, усмехнулся, чуть поклонился Горчакову, и поехал прочь, к видневшимся справа войскам.
Глава восьмая
Ещё в семь утра шедшая во французском авангарде 5-я дивизия генерала Компана уткнулась в русских. Маневрируя, французы теснили русских, и вскоре после полудня, выйдя из лесу, увидели огромное поле с линиями войск, кострами, дымами, блеском штыков. На пути к этому полю была высота, а на ней – большой редут.
– Надо сообщить Мюрату о том, что русские ждут нас здесь, – сказал генерал Монбрен одному из своих адъютантов. – Скажите, что они построили редут и имеют вокруг него большой гарнизон. Я полагаю, это уже основная их позиция. Пусть маршал решает – атакуем ли мы её сегодня или откладываем это удовольствие на завтра.
По обычаю тех дней, большие битвы не начинали после полудня. Но Наполеон, после попыток рассмотреть окрестности в зрительную трубку (поле застилала пелена дыма – чадили подожённые русскими деревни), после совещания с Даву и Неем, решил всё же, что редут этот к основной позиции не относится и выдвинут русскими для решения каких-то своих мелких нужд. Редут велено было атаковать – надо было ведь расчистить выход на поле. С другой стороны, Наполеон надеялся, что в бой за редут втянется вся русская армия. Отдав приказ, Наполеон принялся мурлыкать себе под нос какую-то песенку – он был рад, что дело, наконец, склоняется к генеральной битве.
Компан пошёл с фронта, Понятовский со своим корпусом выходил во фланг и тыл редута. Следом за ними подходила вся армия – и вместе с ней Брандт и Гордон, увидевшие Шевардинский редут за несколько минут до того, как он окутался пороховым дымом.
Чтобы справиться с редутом побыстрее, для атаки были отряжены немалые войска – около 36 тысяч пехоты и конницы при 200 пушках, тотчас открывших отчаянный огонь.
– Ну, вам жарко придётся для первого раза, – сказал командир 57-го полка полковник Жан Луи Шаррьер лейтенанту Жаку Гардену, прибывшему к полку только вчера и получившему во 2-м батальоне роту, командир которой был накануне убит.
Гарден, казавшийся из-за тонких черт своего лица чрезвычайно молодым и от этого очень страдавший внутренне, и без того всю ночь провёл в нервном ожидании своего первого боя. Особенно, больше смерти, страшили его мысли о ранении, лазарете и хирургических операциях, рассказов о которых он наслушался от офицеров, преподававших в военной школе в Сен-Сире. К тому же накануне вечером какой-то солдат сказал, глядя на луну: «Какая она красная! Видно, много крови завтра прольётся»…
После этого Гарден не спал и теперь был в таком состоянии, что переложил в мундирный карман на сердце бумажник и платок, казавшиеся ему бронёй. Правда, утром, после переклички, батальон распустили – казалось, что боя не будет, и Гарден не хотел признаваться самому себе, как он этому рад. Но в три часа появился полковой адъютант с приказом, и полк выступил навстречу бою. Уже около часа полк находился под огнём и за это время настроение Гардена становилось всё лучше и лучше: он понимал, что с какой стороны ни глянь, а он находится под настоящим артиллерийским обстрелом и – не боится! Русские ядра сыпались градом, но пока что единственная неприятность, которую они доставили Гардену – забрызганный грязью рукав мундира, который Гарден, радуясь заделью, начал тут же чистить.
57-й линейный полк был одним из лучших в армии. Еще с Итальянского похода он носил звание «грозный». Состоял полк в основном из солдат-ветеранов. Командиром 2-го батальона был капитан Ла Булаэр, высокий брюнет с суровым, неприятным лицом и неожиданным при такой внешности слабым сиплым голосом – Гардену уже пояснили, что виной всему пуля, пробившая Ла Булаэру грудь в сражении под Йеной. Время от времени Гарден ловил на себе взгляды Ла Булаэра и понимал, что тот в нём сомневается. От этого Гарден напускал на себя всё более геройский вид.
Это тем более не составляло труда, что русские, убедясь в малой действенности ядер, переменили их на гранаты. Одна такая разорвалась вблизи от Гардена, убила рядом с ним солдата, а самому Гардену лишь продырявила осколком кивер. Ла Булаэр подошел к Гардену, поднявшему и разглядывавшему кивер, и сказал:
– Поздравляю вас, теперь вы можете быть спокойны на весь день.
Гарден сначала не понял, о чём это он. (К тому же, хоть Гарден и старался не показывать вида, но когда кивер сорвало с головы, ему показалось, что на миг он лишился чувств). Но тут Гарден вспомнил старинную солдатскую примету: дважды в одно место не попадает. Гарден, переполняясь странным ликованием, надел кивер чуть набекрень и сказал:
– Хочешь-не хочешь, а поклониться пришлось!
Ветераны 57-го, внимательно наблюдавшие за ним, одобрительно засмеялись. Один лишь Ла Булаэр смотрел хмуро. Потом он наклонился и тихо сказал Гардену:
– Я вас поздравляю – с вами ничего уже не случится. А вот я чувствую, что печь сегодня затоплена для меня… Каждый раз, когда я бывал ранен, рядом офицер получал пулю в сердце. И… – тут он перешёл на едва уловимый шёпот, – имена этих офицеров всегда начинались на «б»…
Гарден не знал, что сказать. Холодная волна окатила его, он смотрел на капитана во все глаза. Лицо капитана и правда показалось Гардену странным. Он вспомнил, как в училище рассказывали, будто предчувствие близкой смерти накладывает на лицо свой отпечаток, и сейчас пытался разглядеть, отличается ли лицо капитана от других лиц. Но капитан почти сразу после этих слов отошёл.
Ещё некоторое время полк стоял на месте, а затем двинулся вперёд. Гарден увидел по пути, что французская артиллерия обстреливает курган и редут с соседней высоты, которую русские почему-то оставили не занятой. Эта стрельба, понял Гарден, и была причиной того, что огонь русской артиллерии изрядно ослаб.
Тут 57-й вышел на открытое пространство и попал под ружейный огонь русских. Гардена удивило, что огонь этот почти не причинял полку вреда. Гарден с каждой минутой чувствовал себя всё лучше. «В конце концов, – подумал он, – сражение не такая уж страшная вещь!». Он уже думал, как будет рассказывать обо всем этом одному знакомому писателю в Париже.
Полк двигался вперёд беглым шагом. Русские стрелки вдруг умолкли. На всех это произвело странное впечатление. Солдаты 57-го начали переглядываться. Ла Булаэр, шедший с обнажённой шпагой рядом с Гарденом, просипел ему в ухо:
– Не нравится мне это молчание. Они что-то задумали.
Гарден уже и не рад был, что капитан выбрал его своим доверителем, но деваться было некуда. Между тем, 57-й дошёл уже до самого кургана. Гарден видел, что насыпи редута обвалились. Возбуждение его всё росло, он видел всё как в тумане. «О, чёрт!» – вдруг сказал кто-то рядом с ним. Гарден поднял глаза и увидел (впрочем, всю свою жизнь он не мог понять, видел ли он это или ему виделось?), как наверху выстроились в ряд русские гренадеры, каждый из которых, казалось Гардену, целил ему прямо в лоб!
Гарден на мгновение остолбенел.
– Ну теперь попляшем! – вдруг закричал рядом Ла Булаэр. – Добрый вечер!
В этот же миг русские выстрелили. Гарден зажмурился и не сразу открыл глаза. Ла Булаэр лежал у его ног – он был убит наповал. «Печать смерти… Печать смерти… Надо посмотреть»… – подумал Гарден, сам тут же удивляясь нелепости этого желания. Он быстро оглянулся – кроме него из всей роты оставались на ногах ещё только семь человек, как и Гарден, озиравшихся вокруг.
– Придите в себя, лейтенант! – полковник Жан Луи Шаррьер толкнул Гардена в плечо, быстро прошёл вперёд, снимая с головы кивер, цепляя его на острие шпаги и поднимая над головой, чтобы все знали, где командир – так французы ходили в атаку ещё со времён революции.
– Да здравствует император! – вскричал полковник. – Вперёд, 57-й!
– ААААААААААААААААААА! – взревели вдруг те, кто ещё не был убит, и бросились вперёд. «АААААААААААААА!» – взревел вместе с ними Гарден и тоже бросился вперёд. Это было последнее, что он помнил. Пришёл в себя Гарден уже на редуте, когда схватка кончилась. Гарден с удивлением посмотрел на свою шпагу – она была в чьей-то крови.
– Мой лейтенант, полковник зовёт вас! – подбежал к Гардену какой-то сержант.
Шаррьер сидел на зарядном ящике у входа в редут. Нога полковника была в крови, однако Шаррьер не обращал на это внимания.
– Гарден, кроме вас офицеров на ногах больше нет, командуйте, чтобы редут подготовили к обороне. Русские так просто нам его не оставят… Жаль, что меня зацепило, но редут взят!
И Шаррьер довольно захохотал.
Глава девятая
Когда французы взяли Шевардинский редут, было уже около семи вечера. До темноты в этот осенний день оставались минуты, но Горчаков, то ли взбешённый, что редут потерян, как ему казалось, слишком легко, а то ли просто увлекшись, вызвал резервы. Хотя понятно было, что редут свою задачу – не допустить французов на поле сразу – выполнил, но резервы были Горчакову Багратионом даны. Пришедшая пехота пошла в атаку, впереди Сибирского и Малороссийского гренадерских полков шли священники. По флангам редута сходилась кавалерия. Темнело всё больше, так что бились при свете горящей деревни Шевардино. Русские генералы утверждали потом, что редут был ещё трижды отбит у французов и только после этого оставлен им. Французы говорили, что ни разу не отдали русским то, что 57-й полк взял своей отчаянной атакой. Так или иначе, но поздним вечером всё, наконец, кончилось. 6-й батальон 57-го полка занял курган и провёл там ночь, среди стонов раненых людей и лошадей. Французы обшаривали карманы и ранцы мертвецов – как своих, так и тем более русских, у которых они брали водку и «русские бисквиты» (так французы называли наши армейские сухари).
В это же время Кутузов, убедясь, что ночного прорыва французов на поле не будет, поехал в Татариново, где для него была приготовлена изба. Карл Толь еще днём сказал Кутузову, что кроки готовы – следовало разметить на них войска. Однако сделать это можно было лишь зная, чем кончится схватка за Шевардино, далеко ли после неё продвинутся французы. Упорство Горчакова Кутузов одобрял – если бы не оно, французы могли бы на хвосте отступающего отряда Горчакова въехать в русские порядки, и ещё неизвестно, чем бы мог обернуться такой бой. «В конце концов, и в темноте можно отлично друг друга убивать», – подумал Кутузов.
В избе Толь выложил на стол кроки – большую карту, начерченную от руки на нескольких склеенных листах. Кутузов уже всё обдумал: на случай, если французы решат обойти его правый фланг, ещё с 22 августа строились укрепления у деревни Маслово. Лес за Масловскими укреплениями заполняли егерские полки, а далее от них шли линии войск: в первой линии (кор-де-баталь), плечом к плечу – 2-й корпус Багговута, 4-й корпус Остерман-Толстого, 6-й корпус Дохтурова, 7-й корпус Раевского, и 8-й корпус Бороздина у деревни Семёновское. Во второй линии стояли кавалерийские корпуса. Ещё глубже, позади правого фланга стояла конница Уварова и Платова, за центром – гвардия, а за левым флангом – масса артиллерии. Кутузов по рассказам знал, что при Прейсиш-Эйлау артиллерийским огнём был расстрелян весь корпус Ожеро, и хоть не слишком этому верил, но всё же допускал. Центром позиции выходила деревня Горки, к которой справа примыкал 4-й корпус, а слева – 6-й. (На кроках нет укрепления, потом названного батареей Раевского – решение строить его и сделать центром позиции было принято позже).
Ожидая от Наполеона сюрприза на своем правом фланге, Кутузов решил и ему сделать ответный подарочек: в нижнем левом углу карты, где была нарисована деревня Утица, приказал обозначить впереди неё 3-й пехотный корпус Тучкова, а позади – Московскую военную силу. Возле них своей рукой Кутузов написал: «Расположен скрытно». Толю, который наблюдал за всем этим со священным трепетом, Кутузов пояснил:
– Когда неприятель исчерпает свои силы, я пущу ему скрытое войско в тыл!
Толь тихо засмеялся.
– Отведи Тучкова на правый фланг сегодня же… – распорядился Кутузов. Толь тут же откланялся и вышел.
Карл Федорович Толь был человек не злой и не глупый. Но в 12-м году было ему уже за шестьдесят, а положения, которого, по его мнению, он заслуживал всегда, он добился впервые. С Суворовым в Швейцарии, с Кутузовым в 1805 году, на турецких войнах он был один из многих. И вот только нынче выдвинулся в главные люди армии. Он торопился насладиться властью, привычки к которой у него не было совершенно. Поэтому он не упускал случая показать всем, что она – власть – у него есть.
Алексей Ермолов, в те дни – начальник штаба 1-й армии, позже написал о Толе: «офицер отличных дарований, способный со временем оказать большие заслуги; но смирять надо чрезмерное его самолюбие, и начальник его не должен быть слабым, дабы он не сделался излишне сильным. Он (…) столько привязан к своему мнению, что иногда вопреки здравому смыслу не признаёт самых здравых возражений». Вторая часть этого наблюдения подтвердилась 25 августа, когда решалось, какое укрепление строить на кургане в центре русской позиции. А сейчас, в полном соответствии с первой частью ермоловской характеристики, получив распоряжение Кутузова, Толь со своей свитой (его в те дни окружало множество молодых офицеров), минуя Барклая, поехал прямо в 3-й корпус, и, найдя Тучкова, приказал ему следовать за собой на самый край левого фланга. Барклай узнал об этом позже, случайно, только когда, объезжая войска, увидел, что масса войск снимается из его боевого порядка и велел спросить, на каком основании это делается.
Узнав, что это приказал Кутузов, а всем распоряжается Толь, Барклай в который уже раз сделал каменное лицо. Вид его допускал толкование, что он знал о намерениях Кутузова и перевод 3-го корпуса согласован с главнокомандующим 1-й армии. На деле ничего он не знал и не удивлялся этому – это было всего лишь одно из многочисленных его унижений последних дней. Да и не самое сильное, – думал теперь Барклай.
Ещё утром пришёл ему рескрипт императора Александра об удалении его с поста военного министра. «Нахожу я ваши занятия при армии столь важными и многотрудными, что полагаю исправление должности военного министра невозможным по совершенному недостатку времени, а равномерно по удалению, в котором вы находитесь от меня…» – писал царь. Но Барклай знал, что не расстояния тому причиной. Багратион весь поход писал всем о Барклае злобные письма. Но этот хоть по причине грузинской горячности своего мнения от Барклая не скрывал – а сколько было тех, кто интригуя за спиной, улыбался ему в лицо. Барклай уже давно не мог отделаться от мысли, что интригуют все, и ловил себя на том, что как-то особо взглядывает даже на тех, кто по мизерности должности интриговать не может – вот хоть на своих адъютантов. Барклай понимал, что он просто безмерно устал.
Лошадь шла медленно, Барклай не торопил её. Он не спешил в отведённую для него избу потому, что знал, что ему предстоит там делать. Ещё утром, после получения рескрипта от царя, он решил написать прошение об увольнении от службы. В его жизни не было счастья: после смерти матери он воспитывался у родственников; потом женился на кузине, толстой и некрасивой, не по любви, а по жизненному долгу, для поддержки людского круговорота на земле. Но рождавшиеся дети умирали один за другим – остался только один мальчик, Макс. Ни состояния, ни деревень не было. Только в службе и была его радость, а война – его чистое упоительное счастье. Лишиться службы было то же, что лишиться жизни. Барклай слышал о людях, которые кончают самоубийством, но сам не мог – Господь не принимал душу самоубийц (а Барклай хотел хоть там, на небесах, встретиться с матерью, которую так рано потерял, и которую так любил). Но на этот счёт был у Барклая свой план, который при всей его ужасности наполнял душу генерала покоем и радостью.
Позже, добравшись до избы и сделав всё, что могло оттянуть написание прошения, Барклай всё же заставил себя сесть за стол и написать самое проклятое письмо в своей жизни. Он писал его сам, хотя правая рука, изувеченная в 1807 году в сражении при Прейсиш-Эйлау, с тех пор плохо слушалась, буквы приходилось писать больше обычных, но и тогда их было трудно разобрать. Однако не хватало духу диктовать это адъютанту и знать, что весть разлетится по лагерю тотчас после того, как адъютант выйдет из избы. Переходить в Швецию по льду Ботнического залива в 1809 году – хватало, а диктовать – нет.
«Я Вам предсказывал, Государь, что клевета и интриги успеют лишить меня доверия моего Монарха. Я ожидал этого, потому что такой результат совершенно естественно вытекает из порядка вещей. Но мне трудно было представить себе, что я кончу тем, что навлеку на себя даже немилость и пренебрежение, с которыми со мной обращаются»…
Тут он вспомнил о корпусе Тучкова и поморщился. В груди стало больно.
«Совесть моя говорит мне, что я не заслуживаю этого. Рескрипт, который Вашему Величеству угодно было дать мне от 8 августа, рескрипт князю Кутузову и обращение здесь со мною служат очевидными тому доказательствами. В первом из этих рескриптов я настолько несчастлив, что причислен к презренным и продажным людям, которых можно побудить к исполнению их обязанностей лишь призрачной надеждой наград. Во втором же рескрипте операции армии подвергнуты порицанию. Последствия событий покажут, заслуживают ли они осуждения; поэтому я не хочу оправдывать перед Вами, Государь, эти операции».
Он выводил большие буквы в обращении к царю особо тщательно. Он бы писал большими все буквы в словах «государь», «император», в обращениях «вам». Император был для него, потерявшего мать в десять лет, а отца в двадцать, всем. От мысли, что император думает о нём плохо, у него болело сердце.
До сих пор самым светлым воспоминанием была его встреча с царём в марте 1807 года в Мемеле, где Барклай тогда лечил свою руку. Сорок осколков вынули из неё. Но превозмогая боль, Барклай составлял план о действиях русских войск на случай вторжения Наполеона в Россию. Об этом-то плане узнал государь, потому-то и решил встретиться с генералом. Уже тогда главной мыслью было отступлением заставить Наполеона оторваться от баз, растянуть коммуникации – и именно за эту идею царь наградил его и возвысил.
Потом Россия стягивала свои войска, выводя полки из Сибири, формируя новые части, оставляя на службе ополченцев 1807 года, для того, чтобы упредить Наполеона. Четыре армии (кроме 1-й и 2-й Западных, была 3-я Западная армия Тормасова и Дунайская армия Чичагова), были подготовлены к походу против Наполеона. Разыгрывались разные планы – что будет, если начнём мы? что будет, если начнёт он? Но хоть с января 1812 года Барклай стал военным министром, а радости не было в нём – слишком далеко оттеснён он был от своей же идеи, слишком многое поправили в ней нынешние советчики царя, планы которых всем были хороши, и имели только один недостаток: как и при Аустерлице, создатели их считали себя умнее Наполеона. Поэтому, когда он и правда начал, оказалось, что ни один план не годен.
Вернее так: отступление тоже был план, и он сработал. Царь ещё до войны говорил, что, если надо, он отступит до Сибири (в 1812 году он эти слова только повторил). Но когда пришлось отступать на деле, это оказалось не так легко – не принимала этого русская душа. Оказалось, точка надлома у русского народа гораздо ближе Сибири. Уже приход французов в Смоленск был для русских чем-то небывалым.
«Будто не были в Смоленске вот хотя бы поляки… – подумал Барклай, глядя на свечу и не видя её. – Да поляки были и в Москве». Уезжая от армии в июле, государь сказал Барклаю: «Поручаю вам свою армию, не забудьте, что у меня второй нет». Барклай не забывал – вот она, армия, он не дал её разгромить и этим спас Россию. Барклай так и думал – «спас, именно спас, этого вы у меня не отнимете» – будто спорил с кем-то. «Впрочем, отнимут, всё отнимут…» – подумал он, мотнул головой и продолжил писать.
«Здесь обращаются со мной так, будто мой приговор подписан. Не ожидая моего согласия, отбирают чиновников, мне подчинённых. Меня поставили в рамки, в которых я не могу быть ни полезным, ни деятельным».
Барклай остановился – по столу полз таракан. Генерал вдруг подумал, что вот ведь и это – Божья тварь, и выходит они с тараканом равны? Да ещё и не счастливее ли его, генерала, человека, этот таракан – ведь наверняка никаких интриг нету в этом тараканьем мире. «Или есть?..» – усмехнулся Барклай. Таракан подполз к свече и шевелил усами, повернувшись так, будто смотрел на Барклая. Он усмехнулся ещё раз и смахнул таракана со стола пером.
«Теперь я раскрыл сеть самой черной интриги, посредством которой осмелились довести до сведения Вашего Императорского Величества тревожнейшие известия о состоянии армии; я знаю, Государь, что Вас продолжают ещё поддерживать в том мнении, чтобы в случае счастливого успеха придать более цены собственной заслуге; знаю, что каждому из моих действий, каждому моему шагу были даны неблагоприятные истолкования и что их довели до сведения Вашего Императорского Величества особыми путями. Но в моём настоящем положении, особенно видя к себе пренебрежение, я чувствую себя слишком слабым, чтобы переносить внутреннюю скорбь, которая приводит меня в отчаяние. Мой ум и мой дух опечалены, и я становлюсь ни к чему не способным».
Он перевёл дыхание. С каждой строчкой этого письма прожитая жизнь его теряла смысл. Она была прожита для славы – а теперь славы не было. Для положения в обществе – но не осталось и этого. Для истории – но ведь и из истории вымарают, или впишут в неё так, что лучше бы вымарали.
Барклай поморщился и начал писать последние, самые тяжёлые строки.
«Осмеливаюсь поэтому покорнейше просить Ваше Императорское Величество освободить меня из несчастного положения и совершенно уволить от службы. Осмеливаюсь обратиться к Вам с этими строками, Государь, тем с большей смелостью, что мы находимся накануне кровавой и решительной битвы, в которой, может быть, исполнятся все мои желания».
Снова вылез на стол таракан. Барклай вдруг затаил дыхание и медленно-медленно начал тянуть к рыжей твари руку. Таракан шевелил усами, но не убегал. Сложенные клещами пальцы генерала нависли над шевелящимися усиками, помедлили… и вдруг схватили! Таракан затрепетал. Барклай поднес его ближе к лицу, не чувствуя отвращения – несметные полчища тараканов были обычны в крестьянских избах. Барклай и сам не понимал, зачем это сделал – зачем ему таракан? Но он смотрел на извивающуюся рыжую тварь, а потом поднёс его к пламени свечи и со странной улыбкой наблюдал, как таракан, облизываемый огнём, корчится, как сгорают его крошечные лапки, как скукоживается панцирь. Вдруг огонь обжёг Барклаю пальцы.
«Что со мной? – подумал он, отдёргивая руку. – Я схожу с ума. Ничего, до завтра не сойду. А завтра, самое большее, послезавтра, Бог даст, всё кончится».
Он вписал в письмо ещё несколько строк – обязательных строк о почтении и любви к императору – и, пока чернила сохли, крикнул дежурного офицера.
– Кто курьером?
– Корнет Инзаров! – отвечал дежуривший майор Вольдемар Левенштерн.
– Пусть не медля явится ко мне за пакетом в Петербург… – сказал Барклай. – И сей же час отбывает.
Левенштерн странно смотрел на Барклая, и Барклай подумал: «Знает. Все знают». Он отвернулся и посмотрел на чёрную от копоти икону, оставшуюся от хозяев.
«Господи, дай мне сил… – подумал Барклай. – Господи, дай мне сил».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?