Текст книги "Былое – Павловка"
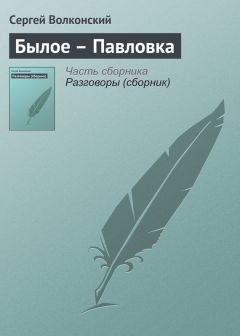
Автор книги: Сергей Волконский
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Сергей Волконский
Былое – Павловка
Елене Сергеевне Рахмановой
Люблю от бабушки-Москвы
Я слушать толки о родне,
О толстобрюхой старине.
Пушкин
– А это что?
– Это портрет моей бабушки, княгини Марии Николаевны Волконской, жены декабриста, – в Чите, у окна сидит, а в окно виден острог.
– Чья работа?
– Бестужева.
– Декабриста? Конечно, ведь он всех их писал.
– Ну да.
– А этот милый interieur?
– Это гостиная в Зимнем дворце, и за столом, в вольтеровском кресле, княгиня Волконская, мать декабриста. Она была обер-гофмейстерина.
– В то самое время, когда?..
– В то самое время.
– Вот красноречивое соседство: мать в Зимнем дворце, жена в Читинском остроге. А что же, она как себя держала во время допроса?
– Уж не знаю, но думаю, что петел много раз кричал… К сыну она на свидание в крепость не пошла – боялась «потрясения»… Про нее моя бабушка в записках своих говорит: «Придворная дама в полном смысле слова».
– Она кто была?
– Репнина, дочь фельдмаршала, последняя в роде; у ее сестры, Голицыной, не было детей, и она просила старшему своему сыну присвоить титул князя Репнина.
– Так что старший брат декабриста…
– Да, возобновленный Репнин, женатый на Разумовской, был вице-королем Саксонии в 1813 году, генерал-губернатором Малороссии. Жена следовала за ним на войну, под Аустерлицем ходила за раненым мужем.
– Знаете ли вы в истории более «красивую» эпоху, чем эта наполеоновская сказка. Именно – «красота», красота и дурман. Все друг с другом знакомы, все друг друга любят и вместе с тем друг с другом воюют. Вся Европа – какой-то элегантный салон, в котором то сражаются, то проходят в придворных полонезах.
– И потом, какая удивительная красота для глаз.
– А кто это другая – сидит со старухой за столом?
– Это у нее была такая Жозефина, швейцарка, компанионка. Сохранилась большая пачка писем этой Жозефины: она аккуратно отписывала в Сибирь о всех семейных событиях, болезнях, крестинах, свадьбах, как дети растут: «Господин Александр обещает вырасти в необыкновенно изысканного юношу, сын мадам Алин – свежий и краснощекий малыш».
– Как мило. Печатать стоит?
– К сожалению, нет, в конце концов дребедень. Да, вы знаете, что и от старухи гофмейстерины осталось пять тетрадок – путевой дневник: она сопровождала великую княгиню Екатерину Павловну в заграничное путешествие. Но ничего более бессодержательного нельзя себе представить. Баронесса Оберкирх прямо историк в сравнении с ней.
– На каком языке?
– По-французски, с ужасными орфографическими ошибками.
– И к чему это нужно было? Я понимаю французский язык, но без ошибок, тому, кому по-французски почему-нибудь легче, чем по-русски. Но ведь этого ни в одной стране нет, чтобы люди сходились и друг с другом дурно объяснялись на иностранном языке.
– Но и в этом есть своя неизъяснимая прелесть прошедшего. Моя бабушка, жена декабриста, тоже писала свои записки по-французски.
– Ну да ведь это совсем другое.
– Правда, это ни на что другое не похоже?
– Это отсутствие литературности при трагической глубине не выдуманного, а рассказанного…
– Вот посмотрите: внутренность хаты. Сидит за клавикордами дама, прическа кверху с гребнем, около нее, прислонившись к стене, мечтательный господин, на стене несколько маленьких портретов – мелко, но разобрать можно. Под этим была подпись – к сожалению, переплетчик обрезал: «Serge et Marie Wolkonsky a Nertchinsk» – рукою фельдмаршальши, сестры декабриста.
– Как трогательно.
– А эти портреты, которые «там» были, вот они, узнаете? У меня есть и книжки, которые «там» были: томик Ламартина, маленькое издание Шекспира; на заглавном листе: Marie Wolkonsky.
– А почему же вы знаете, что они «там» были?
– На том же заглавном листе вдоль переплета написано: «Читал. Лепарский».
– Знаменитый комендант Читы и Петровского завода?
– Да, имя которого окружено таким светом уважения в памяти декабристов, а через них и вплоть до нас. Подумайте, что бы это могло быть – это официальное «распечатывание» – в руках другого человека. И при такой должности, при таких обязанностях оставить такую память…
– Но еще трогательнее, по-моему, эти портретики на стене хаты, и которые узнать можно. А клавикорды? Она была музыкантша?
– Да, она играла и пела. И, должно быть, с искусством пела, потому что, например, пела такие вещи, как «Ah, quelle nuit» из «Черного домино» Обера. Вы помните?.. А клавикорды, вероятно и даже наверное, те самые, которые невестка Зинаида в Москве без ее ведома подвязала к кибитке, когда она уезжала в Сибирь.
– Это та самая, не правда ли, Зинаида Волконская, урожденная Белосельская, которой посвящены «Цыганы», – «царица муз и красоты»?
– Да.
Среди рассеянной Москвы,
При толках виста и бостона,
При бальном лепете молвы
Ты любишь игры Аполлона.
– Как трогательно описание музыкального вечера, который Зинаида устроила для своей невестки перед ее отъездом в Сибирь, это описание, найденное в бумагах Веневитинова.
– Да, вы знаете, были найдены мелкие клочки бумаги, и, когда их сложили, прочитали описание этого вечера, о котором бабушка говорит в своих записках. Веневитинов был на этом вечере. Да кто же не бывал у Зинаиды! Друг Пушкина, Мицкевича, Шевырева, Веневитинова… Это у нее в Риме, в несуществующем теперь palazzo Poli, Гоголь так неудачно читал «Ревизора» – благотворительное чтение, которое кончилось при почти пустом зале.
– Она была католичка?
– Да, и причислена к лику «блаженных». Она под конец жизни все раздала; она умерла от простуды, потому что зашла под ворота снять с себя теплую нижнюю юбку и отдать ее бедной.
– Кто бы мог подумать, глядя на портрет Бруни – в рыцарском костюме, который был на Таврической выставке…
– Это в роли Танкреда Россини, она пела его на спектакле-гала на Веронском конгрессе.
– Какие сближения, какие сопоставления: одна невестка – Танкред, Верона, другая невестка – Нерчинск, Чита…
– Да, уж контрастами никто так не богат, как Россия. У Александра Столыпина, который в студенческие годы писал стихи, и очень недурно, была поэма. В одной главе описывалась тройка по слякотной осенней дороге, ямщик, тарантас, солома…
– Одним словом – «чернозем».
– Да, и после чернозема новая глава начинается: «Я помню бал в Концертном зале».
– Эффектно…
– Но эффект между Концертным залом и Читой больше всех других.
– И сколько длился этот «эффект»?
– От 26 года до 56-го.
– Тридцать лет… А как совершилось помилование?
– По коронационному манифесту.
– Нет, я хочу сказать, как вы, то есть семейные как узнали?
– А-а-а… это тоже «страница». Мой отец, тогда юный чиновник по особым поручениям при генерал-губернаторе Восточной Сибири, графе Муравьеве-Амурском, приехал в Москву.
– Разве сыновьям декабристов был разрешен съезд?
– Ни разрешен, ни запрещен. Муравьев этим воспользовался и послал отца с официальным поручением. Так «вопрос» был разрешен, прежде чем успел возникнуть. Странно, что никто тогда не знал, чего ждать для декабристов, все ждали смягчения, но никто не смел мечтать о помиловании. Помню, отец рассказывал, что в самое утро коронации они с сестрой сидели на эстрадах для публики на Кремлевской площади и видели, как молодой, элегантный Тимашев, будущий министр внутренних дел, издали показывал дамам свои только что полученные аксельбанты. «А мы еще ничего не знаем о нашем отце»…
– А сестра вашего отца почему была в Москве?
– Она приехала с матерью много раньше; ведь на женщин запрещения не распространялись.
– Так что и жена, и дети декабриста во время коронации Александра II были в Москве?
– Да, в доме Раевских на Спиридоновке, и ждали. Прождали до вечера. Во время обеда – курьер: требуют отца во дворец. Приезжает. Выходит – вот не помню кто – с пакетом в руке: «Государь император, узнав, что вы находитесь в Москве, поручил передать вам указ о помиловании декабристов, с приказанием везти его в Сибирь». В тот же вечер – Москва в огнях и в музыке, а отец уезжал в Иркутск. Никто ни раньше, ни после не совершил этого переезда скорее, но последние сутки он уже не мог ни сидеть, ни лежать: доехал на четвереньках. По дороге в Иркутск он заезжал ко всем декабристам, жившим на пути, благовестником помилования; он заезжал в Ялуторовск к Пущину, своему крестному отцу, к Якушкину, Оболенскому, Батенькову и другим, а в Красноярске к единоутробному брату своего деда Раевского, Василию Львовичу Давыдову. Подъезжает к Ангаре поздно вечером; надо на лодке переезжать. Нанял баркас. Большие, тяжелые тучи; на той стороне, на высоком берегу вырисовывается Иркутск. Течение сильное, относит все дальше от города. После высадки надо было бежать вверх по берегу. Наконец город и наконец дом. Отец звонит, – за дверью голос отца: «Кто там?» – «Это я, привез прощение». Вот как узнали.
– Вы помните вашего деда?
– Помню фигуру с большой белой бородой и длинную трубку. Удивительно, что и столько помню – мне было четыре года. Даже отчетливо помню, что «помню» его два раза. Один раз – в Фалле, в бенкендорфском майоратном имении под Ревелем, где он гостил у жены своего племянника, князя Григория Петровича, моей бабушки с материнской стороны; он жил в маленьком, не существующем теперь флигеле; другой раз помню его в Петербурге, в том же доме, где и мы тогда жили, только наверху – на углу Малой Морской и Гороховой, дом Татищева. Помню, что мы с братом ужасно шалили и что дедушка велел своему камердинеру Степану вывести нас. Этот Степан прожил очень долго, не знаю где шатаясь. Иногда во время прогулок он нам попадался; мы, дети, боялись его; он имел такой вид всегда, во всякое время года, как будто продрог до костей, всегда полупьяный, с красным носом; он на улице целовал нам руку и говорил всегда по-французски.
– А как он узнал про освобождение крестьян?
– Степан?
– Нет, дедушка.
– Он был в Париже. Он был в церкви – церковь на улице Дарю, – когда читался манифест. Можете себе представить: весь в слезах, колени дрожат… Был тут же Тургенев, Николай, бывший декабрист, но который бежал. Дедушка, как и все другие декабристы, с ним порвал – не встречались, не говорили. Но здесь, представьте, подходя к кресту, очутились рядом. Дед мой, оттого ли, что считал, что за Тургеневым были заслуги в общем деле, или просто под наплывом чувств, отступил на шаг и, как бы давая дорогу ко кресту, сквозь слезы воскликнул: «Тебе первому!» Тургенев тоже отступил на шаг, оглядел его и спросил: «Кто вы такой?» В эти же дни в Париже был забавный инцидент. Вдруг в доме разнесся слух, что у дедушки на ноге гангрена; вся ступня синяя, а накануне только немножко болела, и он повязал ее шелковым платком. Послали за знаменитостью: надо ногу резать. Перед операцией приходит старая нянька-сибирячка, Мария Матвеевна, обмыть ногу; обмыла, полотенцем стала вытирать – полотенце синеет, а нога белеет. Весь переполох от синего шелкового платка.
– А первый приезд в Петербург?
– Из Москвы по железной дороге. Знаю, что не узнавал ничего, только когда поравнялись с домом Белосельского у Аничкова моста, сказал: «Ну, теперь я вижу, что Петербург».
– Ведь долго въезд был запрещен?
– Тут помогла великая княгиня Мария Николаевна. Она просила брата, и благодаря ей был разрешен и въезд в столицу, и выезд за границу. Когда отец мой представлялся Александру II, чтобы благодарить за снятие последнего стеснения, он не мог удержаться от желания поцеловать руку государю, но государь сказал: «Нет, обними меня».
– Все-таки не последнее стеснение – титул не был возвращен.
– Если хотите это называть «стеснением». Но это даже не бросалось в глаза. Как-то не замечали, об этом не думали – меньше всех он сам. Он считал, что он всегда был тем, чем родился, для семейных он был l'oncle Serge, дядя Сережа, а для других – le prince Serge, князь Сергей. Моя тетушка, Елена Сергеевна, как и отец мой, родилась в Сибири и, как родившаяся от нетитулованного отца, пишется: «рожденная Волконская».
– Как интересно, это, может быть, да и наверное, последний живой документ декабризма.
– Да, в визитной карточке кусочек истории.
– Сколько воспользовалось возвращением титула?
– Только двое и было – мой отец и Трубецкой.
– Ну-с, а ваша тетушка, Елена Сергеевна Рахманова…
– Да, Молчанова, Кочубей и в третьем браке Рахманова. Ее первый муж умер сумасшедшим в холерный год в Москве, а она молодою восемнадцатилетней вдовой, писаной красавицей, приехала в Петербург. Остановилась в Hotel d'Angleterre на Исаакиевской площади, но через полчаса приехал за ней двоюродный брат, Дмитрий Петрович Волконский, сын фельдмаршала, светлейшего князя Петра Михайловича, женатого на сестре декабриста, «знаменитой» Софии Григорьевне, и повез ее к тетке, княгине Екатерине Алексеевне Волконской, рожденной Мельгуновой, известной под именем la tante militaire, тетки-военнослужащей. У нее на углу Дворцовой набережной и Мошкова переулка, в теперешнем доме Черткова, по воскресеньям собиралась вся семья. Елену Сергеевну обласкали.
Родне, прибывшей издалече,
Повсюду ласковая встреча.
Через несколько дней она переехала к тетке, княгине Софье Григорьевне, жене фельдмаршала и министра двора, которая жила на Английской набережной, у тестя своего Дурново.
– Это еще больше подчеркивает контрасты: мать декабриста обер-гофмейстерина, сестра фельдмаршальша, зять министр двора…
– И ничего все это не значило. Фельдмаршал очень любил свою красавицу племянницу; она часто ездила в его ложу. Однажды государь спросил его: «Кто это у тебя в ложе красавица сидит?» – «Это моя племянница». – «Какая племянница?» – «Дочь Волконского». – «Какого Волконского?» – «Сергея». – «Ах, это тот, что умер». – «Он, ваше величество, не умер». – «Когда я говорю, что он умер, значит, он умер»… Однажды встретились у постели больного фельдмаршала. Докладывают о прибытии государя. Тетка встала, хотела выйти; фельдмаршал сказал ей: «Останьтесь». Государь пробыл полчаса, был чрезвычайно милостив к больному…
– Отчего вы про жену фельдмаршала сказали «знаменитая»?
– О, потому что, как говорится, «это был тип-с». Скупая и клептоманка. Когда она, в кои веки, что-нибудь кому дарила, то всю жизнь не прощала своего подарка; как увидит подаренный предмет: «Это я тебе подарила». Обыкновенно же ее подарки делались так: на свадьбе или на крестинах при всех гостях передавался большой, завернутый в бумагу пакет с поручением открыть, «когда будете одни». Когда пакет развертывался, в нем оказывался в бесчисленном количестве бумажек завернутый золотой. Жена фельдмаршала и министра двора не ездила иначе как в третьем классе, и когда ее ловили, она говорила, что это для изучения нравов. Где не было железных дорог, она ездила в дилижансе, на империале. Однажды в Швейцарии ее хотели арестовать как воровку, потому что увидали, что у нее в чулке напиханы бриллианты; она подняла такой гвалт, объявила, что будет писать папе, королям, королевам… Она, действительно, была в переписке со всей Европой. Гизо, королева Гортензия, кого только не было в числе ее корреспондентов! Она всюду была, всех знала: она близко была замешана в известное «дело Лабедуайера».
– Как они успевали в то время так жить, при отсутствии и скудости железнодорожного сообщения!
– Ведь она и в Сибири была. Как же, навещала брата, в Иркутск приезжала в 1854 году. Отец как раз тогда возвращался из китайской экспедиции, привез массу вещей с собой… Во время этой экспедиции, а может быть, и другой, не помню – простите, перебью, но это стоит рассказать, – попал отец, как раз под Светлый праздник, в глухое, бедное селение – несколько лачужек. Разместились по избам, а вечером собрались где было попросторней – встречать Пасху. Только разговеться нечем: кроме копченой рыбы, ничего. Молока? Ну разве коровы водятся! Птицы? На весь поселок одна курица, и та почему-то не несется! Собрались; отца попросили Евангелие прочитать…
– Да, в такой глуши это можно было, а то в недавние блаженные времена становой доносил по начальству, что разогнал молитвенное собрание, причем отобрал «книгу, именуемую Евангелием». Простите, перебил вас…
– Прочитал отец «В начале бе Слово», пропели «Христос Воскресе», вдруг под окном девочка кричит: «Снесла! Снесла!..» Стук в окно, и через форточку просовывается яйцо. Тут же его сварили, разрезали на девять частей – разговелись…
– Так ваш отец возвращался из экспедиции…
– Возвращается и слышит – тетка приехала.
– Простите, еще перебью, какая экспедиция?
– По установлению китайской границы и по заселению Амура. Ведь первые русские поселения на Амуре отцом основаны.
– Ну-с, продолжайте. Ваш отец возвращается…
– И слышит – тетка приехала. «Ну, думает, не много у меня привезенных вещей останется». Разложил на столах вдоль стен: «Мишель, ты ведь мне разрешишь выбрать?» – «Как же, тетушка… Буду счастлив…» Три дня с лорнеткой обходила столы – через три дня ничего не осталось. Он спас лишь соболью шкурку, которую привез себе на шапку. На четвертый день исчезла и соболья шкурка. Стал искать – у тетки из-под подушки мордочка торчит.
– А какова она была собой?
– Я ее помню старухой за год до смерти в 1867 году в Женеве, в Hotel du Rone. Она была страшная старуха, с густыми черными усами, с шишками на лысой голове. Помню, как ее компаньонка, горбатая итальянка Аделаида, совместно с камердинером Дементием ее шнуровали: она спала в корсете.
– А почему же камердинер?
– Она не держала горничную – из экономии. Ведь она, отъезжая из гостиницы, уносила свечи: «заплочено за них, что же им пропадать». Во Флоренции она каждое утро через весь город бегала на ту сторону реки к племяннице Репниной, чтобы у ее девушки причесываться. В гостиницах ее звали «княгиня, у которой вместо горничной – казак». В деревне она каждое утро брала воздушную ванну – в костюме Евы обходила вокруг дома, опираясь на руку старого дворецкого Каведаева; это был очень доверенный человек, от него ничто не скрывалось: «Каведаев – мои глаза». По портрету Боровиковского, она в молодости была красива. Сама она про себя так говорила своей внучке, моей матери: «Знаешь, красивой-то я как раз и не была, но я усиленно занималась игрой на арфе, и рука у меня была как отлитая, да и по правде говоря, я знала, что нравится мужчинам». Английский король Георг IV подарил ей чайный сервиз (сейчас у нас хранится), так, показывая его, она всегда прибавляла: «Это не был королевский дар, это был подарок мужчины женщине».
– Интересно все это, вы бы должны записать.
– Ну как же такие обрывки записывать, в какую форму их уложишь? И потом, вот вы говорите – интересно, а другим…
– Все интересно, всякая мелочь интересна. Ведь это только Герцен возмущался камерфурьерским журналом, говорил, что позорно вести запись того, кто с кем обедал или ужинал. А теперь не так к старине относятся… Так что вы в этой комнате собрали воспоминания о Сибири?
– Сибири и всего, что относится к нашим декабристам. Вот отец Марии Николаевны, Николай Николаевич Раевский.
– Смоленский герой? Который повел в бой двух своих сыновей?
– Да, в деле при Дашковке. Младшему было четырнадцать лет. В четырнадцатом году этот мальчик был в Париже; в офицерском мундире раз он пришел в Comedie Francaise. Билетерша не хотела его впускать: «Извините, мсье, детям входить в партер не разрешается». Тогда он ей громким голосом на весь театр из «Сида»:
Je suis jeune, il est vrai, mais aux ames bien nees
La valeur n'attend point le nombre des annees.
He спорю, молод я, но зреет раньше срока
Бесстрашие в душе воистину высокой.
Сейчас же все кругом: «Позвольте войти! Позвольте войти!»
– Жена Раевского была Константинова?
– Софья Алексеевна, дочь библиотекаря Екатерины Великой, а мать ее – дочь Ломоносова.
– Так что прямое потомство Ломоносова…
– Другого прямого нет, как потомки Софьи Алексеевны Раевской, ее сыновей и дочерей, то есть Раевские, внуки Николая Николаевича младшего; граф Ностиц – внук Александра Николаевича, пушкинского «Демона»; Орловы, князья Яшвили и Котляревские, внуки Екатерины Николаевны Орловой, и внуки княгини Марии Николаевны Волконской – Волконские, Кочубей, Рахмановы и Джулиани.
– Почему же теперь, по случаю Ломоносовского юбилея, откопали каких-то потомков сестры?
– Уж не знаю. Вероятно, «умилительнее». То дворяне, князья, графы, а то скромная серость.
– Вы понимаете вообще это чествование потомков на юбилеях? Мне было бы конфузно быть внуком Пушкина или племянником Гоголя.
– Не только чествования, но мне кажется, если бы в ресторане на меня кто-нибудь показал: «Вот племянник Гоголя», я бы сказал: пожалуйста, я тут ни при чем.
– Правда, у Софьи Алексеевны Раевской была незамужняя сестра?
– Да, Екатерина…
– За которую три раза безуспешно сватался баснописец Крылов?
– Так. У меня в библиотеке несколько книжек, ей принадлежавших, с ее именем на переплете: Catherine Constantinoff. Прелестные издания XVIII столетия – «Julie», «La nouvelle Eloise». Они последние годы жили в Италии. Софья Алексеевна и похоронена в Риме на Тэстачо. Сестра моей бабушки, Елена Николаевна Раевская, похоронена в Фраскати.
– Та, в которую был влюблен Пушкин? Или он был влюблен во всю семью?
– Пушкин, действительно, был влюблен во всю семью, но настоящее, глубокое чувство, – это было к бабушке Марии Николаевне. Знаете, что по последним исследованиям Петра Осиповича Морозова теперь несомненно, что «Полтава» ей посвящена; найден вариант посвящения, в котором вместо «Твоя печальная пустыня» стоит – «Твоя сибирская пустыня»:
Тебе – но голос музы темной
Коснется ль уха твоего?
Поймешь ли ты душою скромной
Стремленье сердца моего?
Иль посвящение поэта,
Как некогда его любовь,
Перед тобою без ответа
Пройдет, не признанное вновь?
Узнай, по крайней мере, звуки,
Бывало, милые тебе –
И думай, что во дни разлуки,
В моей изменчивой судьбе,
Твоя сибирская пустыня,
Последний звук твоих речей
Одно сокровище, святыня,
Одна любовь души моей.
– А от Пушкина что-нибудь сохранилось?
– Вот кольцо: он положил в лотерею, моя бабушка выиграла.
– Покажите… Лодка и в ней три амурчика… По волнам!.. И ей же досталось!..
Я помню море пред грозою:
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам!
– А как трогательно читать о ней же:
Ах, ножки, ножки, где вы ныне,
Где мнете вешние цветы?
Да, где они мяли, почти тридцать лет мяли вешние цветы?.. Вы знаете, что деду было поручено завербовать Пушкина, и он не выполнил поручения – угадал гения и не захотел его губить. Подумайте, – лишиться Пушкина в 25 году!..
– Какою прелестью проникнуты эти отношения.
– Да, но я думаю, что с годами вся прелесть пушкинского эпизода испарилась из памяти, или если не из памяти, то из сердец. По крайней мере Екатерина Николаевна Орлова, та из них, которая пережила всех сестер, была в негодовании на Некрасова за то, что он воспел этот эпизод: «Вовсе мы не так были воспитаны, чтобы с молодыми людьми по берегу моря бегать и себе ноги мочить». Но она не знала, что ее сестра в своих еще не напечатанных записках с трогательной простотой и наивным благоговением перед поэтом рассказала о промоченных ботинках; что там, «во глубине сибирских руд», где они «хранили гордое терпенье», она хранила скромную память о том, что великий гений «нашел эту картину такою красивой, что воспел ее в прелестных стихах, поэтизируя детскую шалость; мне было только пятнадцать лет».
– Но самое удивительное в этом, это как декабристы не заглохли там, как и не забыли – я не говорю в историческом смысле, – а в смысле семейном, общественном. Ведь они вернулись, можно сказать, как будто только вчера уехали.
– Это сделали жены. Они прямо упразднили расстояние и время: это была непрестанная связь с Петербургом, связь во всем, что есть живого, горячего в человеческой душе. И это в те времена, без железных дорог и телеграфа. Удивительны записки моей бабушки, но столь же удивительны письма – их осталось довольно много, – не «интересные», если хотите, но полные повседневности, полные тех мелочей, из которых слагается житье-бытье и которые «там», благодаря дальности, трудности, исключительности положения, получают окраску героизма. И кто бы мог тогда подумать, что тот же сын, о разрешении которому поступить в гимназию она писала Бенкендорфу из Иркутска, через шесть лет после окончания курса, в Женеве, женится на внучке того же Бенкендорфа.
– Да, сын декабриста на внучке Бенкендорфа!
– С исторической точки зрения это представляется большим сближением крайностей, чем на самом деле. Отношение потомства к Бенкендорфу мне не кажется соответствующим справедливости. Посмотрите, как мой дед говорит о его «чистой душе» и «светлом уме». Ведь они же вместе служили, воевали, кутили. А что он говорит о чинах жандармского ведомства: «Как изгнанник, я должен сказать, что во все время моей ссылки голубой мундир был для нас не лицом преследования, а людьми, охранявшими и нас, и всех от преследования».
– А знаменитые слова Николая Павловича о Бенкендорфе: «Он меня ни с кем не поссорил, а со многими примирил». Кто заслужит подобный отзыв на подобной должности?
– Да, если есть фигуры, ждущие оценки, то Бенкендорф ждет переоценки.
– Я бы почти сказал, что он ждет своей апологии.
– Может быть. Фигура удивительно благородная: что-то ясное, непоколебимое, отсутствие сомнения. Он был из породы основателей городов, из тех, чье желание не умирает после смерти. Его знаменитый Фалль под Ревелем – это целое огромное создание, художественно единое, возникшее из ничего, сразу, по приказанию. Вот только династии он не основал.
– А теперешние графы Бенкендорфы?
– От племянника, он просил государя ему передать титул, от которого сам уже два раза отказался, так как не имел сыновей: у него было три дочери. Но как странно, не правда ли, что, пойдя по женской линии, Фалль перешел в род Волконских.
– По жене?
– Нет, жена его была Донец-Захаржевская, а – по дочери.
– Старшая дочь была за Волконским?
– И это нет, старшая, Анна Александровна, была за венгерским графом Аппони и должна была отказаться от унаследования майоратом, а вторая, Мария Александровна, за светлейшим князем Григорием Петровичем Волконским, сыном фельдмаршала и «знаменитой» Софьи Григорьевны.
– И значит, по матери, родным племянником декабриста?
– Угадали. Браво, вам надо поступить в генеалогическое общество. Его женитьба прелюбопытная…
– Чья женитьба? Волконского?
– Бенкендорфа.
– Ну так постойте, сперва третья дочь.
– Третья дочь была сперва за Демидовым, потом за князем Кочубеем, владетелем Диканьки.
– Ага. Ну так теперь женитьба Бенкендорфа. Она была Захаржевская?
– Постойте, не торопите. В Харьковской губернии, в старой усадьбе по имени Большие Водолаги жила Мария Андреевна Дунина, урожденная Норова. Сама мать многочисленного семейства, она взяла еще на воспитание двух дочерей своей сестры Захаржевской. Старая наседка, Мария Андреевна широко распространяла патриархальное владычество своих мягких, но и крепких крыльев. Дочери, племянницы выходили замуж, но яблочки недалеко падали от яблони, и вокруг большого дома с каждой новой свадьбой вырастал новый дом. Весь Харьков ездил на поклон в Большие Водолаги. Однажды в Харьков приезжает высочайше командированный молодой флигель-адъютант Александр Христофорович Бенкендорф. Ему говорят: «Вы, конечно, будете у Марии Андреевны Дуниной». – «У Марии Андреевны Дуниной?» – «Как, вы не будете у Марии Андреевны Дуниной?» Он увидел такое изумление на лицах, что, не теряя ни минуты, сказал: «Конечно, я буду у Марии Андреевны Дуниной». Он поехал. Сидят в гостиной; отворяется дверь, и входит с двумя маленькими девочками женщина такой необыкновенной красоты, что Бенкендорф, который был столь же рассеян, сколько влюбчив, тут же опрокинул великолепную китайскую вазу. Когда положение обрисовалось, Мария Андреевна нашла нужным собрать справки. Фрейлина Екатерины Великой и поддерживавшая переписку с императрицей Марией Феодоровной, она за справками обратилась не более не менее как к высочайшему источнику. Императрица вместо справки прислала образ.
– А две маленькие девочки?
– Дочери от первого мужа, Бибикова, убитого в двенадцатом году: одна – будущая баронесса Офенберг, а другая, Елена Павловна, сперва княгиня Белосельская, а потом княгиня Кочубей.
– Как, княгиня Елена Павловна, дом Белосельского на Невском?
– Дворец великого князя Сергея Александровича.
– Гофмейстерина при Александре III?
– Да, да, отчего вы так удивляетесь?
– Да так это вдруг приблизилось. То Екатерина Великая, а то вдруг дом Белосельского, куда ездили в детстве к заутрене, на елку…
– Да ведь так мало нужно людей, чтобы покрыть столетие. Моя прабабушка говорила матери, что, когда она была ребенком, одна жившая в их доме древняя старушка ей сказала: «Всякий раз, как ты увидишь этот цветок, ты вспомнишь про меня». Я сделал подсчет: эта старушка родилась по меньшей мере при Елизавете, а то и раньше. Значит, немного уж до двухсот лет, а я только четвертые уста или даже, если хотите, – третьи уши.
– Какой цветок? Я тоже как-нибудь передам.
– Такой высокий, с розовой метелкой, растет в сырых местах. В Фалле его много. Да вы можете выбрать свой цветок, зачем вам непременно…
– Нет, я не хочу быть родоначальником, я хочу воспользоваться готовой преемственностью.
– Как мы любим примыкать, как мы любим прислоняться, как мы любим «продолжать», как мы не любим «начинать»!
– Да, только Наполеоны «начинают».
– Во всякой работе и во всяких отраслях это так. Вы знаете, Бальзак говорит о литературном труде: «Его покидаешь с сожалением, к нему возвращаешься с отчаянием». И я бы не устроил все это, если бы не было к чему прислониться, не было что «продолжать».
– «Портретную» вы устроили?
– Да, ее прежде не было. Я собрал все, что нашел по прямой восходящей линии. Конечно, копии, ведь надо было брать из разных домов, у близких и дальних родственников.
– И вы взяли и привезли под сень ваших дубов?
– Привез под сень. И прямая линия, как видите, восходит довольно далеко. Вот портрет отца, увеличенный с акварели, сделанной в Париже в год свадьбы, в 1859 году. Вот его мать, княгиня Мария Николаевна, рожденная Раевская, жена декабриста. Вот ее мать, Софья Алексеевна Раевская, рожденная Константинова, – с портрета Боровиковского; она в белом ампирном платье с орденом Св. Екатерины; на ней черный парик, потому что портрет писался, когда у нее после тифа были обстрижены волосы. Вот теперь ее мать, дочь Ломоносова; портрет, к сожалению, не с натуры, а по бюсту, сохранившемуся у моей тетки, Ольги Павловны Орловой, рожденной Кривцовой, в ломоносовском имении Рудицах под Ораниенбаумом. И наконец, вот Ломоносов. Пять поколений; это самая длинная линия, которую мне удалось составить. Была бы она еще длиннее, от отца до матери Потемкина – шесть поколений, но не хватает одного звена.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































