Текст книги "Психоанализ и математика. Мечта Лакана"
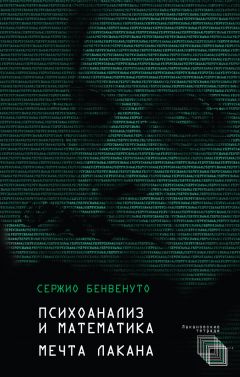
Автор книги: Сержио Бенвенуто
Жанр: Психотерапия и консультирование, Книги по психологии
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Сержио Бенвенуто
Психоанализ и математика. Мечта Лакана
МУЗЕЙ СНОВИДЕНИЙ ФРЕЙДА

перевод с английского
Максима Колопотина,
Виктора Мазина,
Нины Харченко
под редакцией
Виктора Мазина
и Гарриса Рогоняна
@biblioclub: Издание зарегистрировано ИД «Директ-Медиа» в российских и международных сервисах книгоиздательской продукции: РИНЦ, DataCite (DOI), Книжной палате РФ

© С. Бенвенуто, 2006
© М. Колопотин, перевод, 2006
© В. Мазин, перевод, 2006
© Н. Харченко, перевод, 2006
© Музей сновидений Фрейда, 2006
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2021
Введение
Название этой книги, «Мечта Лакана», обещает, что речь пойдет о чем-то несуществующем. И действительно, как противники Лакана, так и его сторонники сходятся в одном: лакановская философия не имеет ничего общего с философией аналитической!
Хорошо известно, что Лакан обязан своей интеллектуальной подготовкой мыслителям весьма далеким от аналитической философии. Его биографы, да и сам Лакан, утверждают, что многие свои соображения он унаследовал от Декарта, Спинозы, Гегеля, Хайдеггера и, конечно же, Фрейда. Значительное влияние на него оказали знаменитые семинары по «Феноменологии духа» Гегеля, которые проводил в 1930-годы Александр Кожев (на самом деле, все основные ранние положения Лакана проистекают из кожевской интерпретации Гегеля). Кожев предложил весьма оригинальную интерпретацию гегелевской философии, которая, согласно гегелеведам, не столько следует за Гегелем, сколько за более поздней философской феноменологией, в частности – за Хайдеггером. Так что, если мысль Лакана – и вместе с ним психоаналитическая мысль вообще – не принимает во внимание даже в малой степени аналитических философов, то происходит это потому, что его основные каноны находятся в согласии с Гегелем – Гуссерлем – Хайдеггером – Кожевым, т. е. с тем, что в США и Великобритании называется с оттенком пренебрежения «континентальной философией».
Прошу у читателя прощения за то, что перейду теперь к некоторым автобиографическим заметкам. Думаю, читатель меня простит, ведь моя история не является такой уж личной, поскольку совпадает с духовной эволюцией многих людей моего поколения в континентальной Европе. В конце 1960-х годов я начал изучать «Сочинения» Лакана и посещать его семинары, которые меня совершенно зачаровали. Лакановская философия поразила меня, с одной стороны, своей экзотичностью (прежде всего, невероятно сложным стилем письма), а, с другой, – она казалась хорошо знакомой и убедительной. Будучи молодым студентом в Париже, я как следует переварил так называемый французский экзистенциализм (Сартр), феноменологию (Гуссерль, Хайдеггер, Мерло-Понти, Рикер), структурализм (от Леви-Строса до Барта) и неклассифицируемых вольнодумцев от философии, типа Клоссовского, Батая, Бланшо и Фуко, а также Фрейда и психоанализ, который я сразу же воспринял с большим энтузиазмом. С учетом всей этой подготовки, я чувствовал себя с Лаканом, вопреки всем сложностям, в своей тарелке. Несмотря на все различия между Лаканом и его предшественниками, между ними легко можно увидеть и некое сродство. Только многие годы спустя, я уловил, что это чувство общего дома исходило от Кожева, от поколения 1930-х гг., которое сумело четко прикрепить французскую философскую мысль к феноменологии и великой немецкой философии. Я бы даже взял на себя смелость сказать, что более семидесяти лет французская культура была кожевской, даже если зачастую этого и не осознавала. В течение всех этих лет французские интеллектуалы барахтались в совершенно особом и безошибочно узнаваемом стиле (который для многих людей просто невыносим). Вот почему при столкновении с совершенно разными интеллектуалами, такими, например, как Сартр и Леви-Строс, Фуко и Барт, Альтюссер и Деррида, возникает ощущение, что все они принадлежат одной семье. Каждый интеллектуал несет на себе некий исходный отпечаток: с 1930-х годов парижская культура сохраняла даже не столько гегелевский дух, сколько гегеле-кожевский, гегежевский.
Насытившись как следует лакановским психоанализом, в 1976 году я перевел на итальянский язык и опубликовал его XX семинар, после чего во второй половине 1970-х со мной произошла интеллектуальная и моральная мутация: я страстно увлекся аналитический философией, в частности, ее австрийскими и британскими корнями, в первую очередь Витгенштейном. Это был совершенной новый мир! Так что вот уже несколько десятилетий во мне сосуществуют два параллельных лица; я живу в многоличностном состоянии, как сказали бы американские психиатры. С одной стороны, я очарован логикой, математикой, философией науки и аналитической философией, а, с другой, – в клинике я идентифицирован как «Бенвенуто, лаканист». В результате, и психоаналитики, и аналитические философы принимают меня за чужака. Каждое «племя» с подозрением относится к моей другой идентичности. И те, и другие не раз выказывали мне явное недоверие. Проблемой, конечно, стал синтез двух интересов. Для ряда моих друзей такого рода соединение просто невозможно в силу несовместимости психоанализа и аналитической философии. Например, для моего друга, философа витгенштейнианца Жака Бувреса, чью книгу о Витгенштейне я перевел на итальянский. Во Франции и Италии «философы-аналитики» считают себя противниками «постмодернизма» и «психоанализа». Противоборствующие стороны яростно борются за посты университетских профессоров, за колонки в газетах и журналах, за издательства и т. д. В этом нет ничего удивительного: разве не Витгенштейн в своих разговорах с Рашем Рисом предал анафеме Фрейда? Как можно одновременно увлекаться Витгенштейном и Фрейдом, Куайном и Лаканом, Дэвидсоном и Винникотом?
Когда в 1980 году психологи и психоаналитики попросили меня провести семинар по Лакану и объяснить его теории в понятной, доступной форме, я начал с витгенштейновских допущений. Это было все равно, что запустить дьявола в святилище. В результате этого семинара в 1984 году увидели свет книга La strategia freudiana («Стратегия Фрейда»). Подзаголовок, который я дал, привел к тому, что успех книги оказался невелик: «Фрейдовские теории сексуальности, прочтенные сквозь призму Витгенштейна и Лакана». Однако мой проект на этом не закончился.
Определенный стиль аналитической философии остался для меня важным, поскольку он апеллировал к чистому разуму, по меньшей мере, к тому, что сегодня называется здравым смыслом. Идеи же Лакана, напротив, еще в большей мере, нежели идеи его учителей и вдохновителей, находились на грани понимания, казались зашифрованными, пророческими, фантастическими. Они больше напоминали древние религиозные трактаты, типа Талмуда, чем современные научные тексты. Если труды самых известных аналитических философов выглядели как строгие функционалистские дома в стиле Баухауз, с пустыми белыми стенами, без мебели, то речи Лакана напоминали убранство подчеркнуто барочных церквей, переполненных загадочными украшениями и фигурами чудовищ, подобно Капелле Сансеверо в Неаполе. Я хотел доказать, что несмотря на всю эту видимую сложность, философия Лакана остается рациональной и, стало быть, как таковая, может быть понята и открыта публичным обсуждениям, критике и опровержению. Мне хотелось показать любому приверженцу рационального знания, что можно сделать понятным уму даже «перверсивное» использование Лаканом «серьезной» науки типа логики, лингвистики или математической топологии. Я считал, что некоторые псевдо-логические провокации Лакана могут быть интересны лингвистическим философам, так же как современных логиков соблазняют некоторые парадоксы античной софистики.
Так что в этой небольшой книге я постарался провести что-то вроде «аналитической» реконструкции лакановского психоанализа…
На самом деле, и врагов, и почитателей Лакана, страстных, подобно членам религиозной секты, кое-что объединяет: и те, и другие избегают, говоря о Лакане, рациональной аргументации. Враги ограничиваются фразами типа «проза Лакана – лишь дым в глаза, он – шарлатан, преисполненный пустых слов». Короче говоря, они отказываются от какого-либо связного опровержения. С другой стороны, фанаты Лакана, когда их просят прояснить некоторые противоречивые, спорные, неправдоподобные моменты его теории, зачастую впутываются в самозаре-фернцированный дискурс, объясняя одни лакановские понятия другими. Для них мысль Лакана выпутывается из сложной ситуации так же, как это делал Барон Мюнхгаузен, который тащил себя за волосы из болота. И в том, и в другом случае недостает интеллектуального прояснения. Моя попытка нацелена на то, чтобы обеспечить сторонников Лакана и его противников темами и аргументами, которые позволили бы им вступить в дискуссию, если у них вдруг возникнет такое желание. Я бы хотел помочь, как тем, кто любит Лакана, так и тем, кто его ненавидит, чтобы они, наконец, смогли понять (помимо бессознательных мотивов), почему они его любят или ненавидят, почему вообще он вызывает столь бурные чувства.
На одном из семинаров, на которых я присутствовал, Лакан сказал что-то вроде: «Говорят, мои сочинения очень трудно интерпретировать. Их действительно трудно понимать, но их нужно объяснять, так же как объясняют симптом или сновидение». В том-то все и дело: призыв к рациональности суть призыв к форме объяснения, обладающего силой понимания. Следует ли строго разводить в стороны, как это делают многие аналитические философы (в первую очередь Витгенштейн), понимание и разъяснение как два совершенно разных подхода? Я бы сказал следующее: некоторые формы современного рационализма не вызывают у психоанализа аппетита как раз потому, что рационализм этот подразумевает совершенно явное разведение в стороны, без какого-либо остатка, объяснения и понимания, а вместе с ним и разведение научной веры и моральной веры, аналитического и синтетического, фактов и значений, разума и страсти, культуры и природы и т. д. Однако, оппозиции эти – отнюдь не блестящее завоевание современной рациональности, а то, что должно быть рано или поздно преодолено. Для многих философов лишь мысли, намерения и языки могут быть поняты, в то время как физические процессы и природные события могут быть объяснены. Великое же предприятие Фрейда, между тем, заключалось в словах: мы можем понять другого лишь в той мере, в которой способны объяснить кое-что из того, что с ним происходит, в которой способны объяснить отдельные формы человеческого поведения, только если понимаем их как зашифрованные послания. Я чувствую, что часть великих трудностей, унаследованных философией и трудами Лакана, состоит в том факте, что он был одним из немногих аналитиков, кто действительно подхватил брошенный Фрейдом вызов, кто всерьез воспринял его этический и эпистемологический проект. Он устранил Великий Барьер между мыслями и вещами, и, тем самым, преступил границу, которую я бы назвал Барьером Дильтея, ту границу, что отделяет науки о природе (Naturwissenschaften) от наук о душе (Geisteswissenschaften). Лакан понимал, что Фрейд, подобно Одиссею, стремится пройти между Сциллой (объективных когнитивных наук) и Харибдой (феноменологии и герменевтики). Они оба понимали, что необходимо обнаружить «третий путь» в этом «проливе Мессины», который позволил бы уйти от той предпосылки, что всегда нужно только понимать тексты (и, тем самым, следы сознательных мыслей), или что только объективное может быть объяснено. Я не говорю, что Лакану с блеском это удалось, но он, по меньшей мере, пытался, и именно в свете этой попытки, этого потрясающего (донкихотского?) усилия следует реконструировать (или деконструировать) его идеи, делать их, в конечном счете, понятными.
Витгенштейн и Лакан читают Фрейда1
1. Фрейд в своем анализе дает объяснения, которые многие люди действительно склонны принять. Он подчеркивает те моменты, когда люди не склонны принимать их. Но если объяснение таково, что люди не склонны принимать его, весьма вероятно, что это также именно то, что они склонны принять, в конечном счете. И это то, что действительно открыл Фрейд, т. е. бессознательное, для которого не действует закон исключенного третьего. Возьмем точку зрения Фрейда, в соответствии с которой тревога всегда есть повторение некоторого пути той тревоги, которую мы ощущали при рождении. Он не достигает этого вывода путем доказательства – и он не мог бы этого сделать. Но эта идея, тем не менее, имеет удивительную привлекательность. Она имеет привлекательность и провоцирует на мифологические объяснения, которые говорят, что все повторяется, все является повторением того, что было ранее. И когда люди принимают и адаптируют эту идею, многое кажется более ясным и легким для них2.
Я взялся истолковать этот отрывок – и весьма непростое отношение Витгенштейна к Фрейду в целом – с намерением обратить особое внимание на соблазн психоанализа. Под власть этого соблазна, несомненно, попал и сам Витгенштейн. «До конца жизни – говорит Раш Рис – Фрейд оставался одним из немногих авторов, чтение которых он считал стоящим занятием. Не раз он называл себя “фрейдовским учеником” и “фрейдовским последователем”3.»
Восхищение, которое вызывала у Витгенштейна фигура Фрейда – а точнее, соблазн, воплощением которого она была в его глазах, – особенно важно отметить по той причине, что подобное отношение как-то не слишком вяжется с его суровой критикой психоанализа, известной по многим источникам, в частности по тем же беседам с Рашем Рисом.
Сам Фрейд полагал, что в современном человеке заложено огромное сопротивление психоанализу. Со слов его последователей мы знаем, что однажды он даже назвал психоанализ «чумой»4. Однако для Витгенштейна подлинная проблема психоанализа состоит в другом: для него фрейдовское учение является вовсе не чумой, отвращающей людей, а сиреной-соблазнительницей. Соблазн психоанализа коренится в том, что он делает ставку на смысл: современного человека он завораживает заявлениями о своей способности обнаружить смысл в той области существования, которая, казалось, навсегда обречена оставаться уделом случая, внешних обстоятельств, лишенных смысла физических процессов. Психоанализ соблазнителен постольку, поскольку привносит в наши невыразительные и бессмысленные судьбы отзвук трагедии.
Благосклонно отзываясь об изобретенном Фрейдом способе осмысления сновидений, оговорок и психопатологических симптомов, видя его богатейший потенциал, Витгенштейн в то же время подчеркивает, что подобным смысловым обогащением не гарантируется открытие истинных причин этих явлений. Он обращает внимание на непреодолимую пропасть, разделяющую порядок смыслов и порядок причин.
Возьмем блестящий пример фрейдовского искусства интерпретации, описанный в «Психопатологии обыденной жизни»5. Беседуя с молодым человеком, который, цитируя по памяти Вергилия, забывает латинское слово aliquis, Фрейд подталкивает его к свободным ассоциациям и благодаря этому получает возможность соединить провал в памяти пациента с чем-то, что его сильно беспокоит: молодой человек напряженно ожидает не aliquis, но некоей жидкости, liquid, т. е. месячных своей итальянской подруги, которая, как он опасается, беременна. Что бы мог Витгенштейн возразить против этой реконструкции Фрейда? Отдавая должное изобретательности, результатом которой стала исповедь молодого человека о своих глубоко личных тревогах, он бы заявил, что Фрейд тем самым отнюдь не доказал, что причиной этой конкретной оговорки была именно эта конкретная тревога. Конечно, в рамках практической «игры», которой является психотерапия, терапевт, способный без видимых усилий извлекать из банальной оговорки те или иные воспоминания и психические связи, может быть чрезвычайно полезен пациенту. Но в этом трюке не содержится ничего от научного достижения. Фрейд не приводит никаких наглядных доказательств того, что извлеченный им смысл и есть конкретная причина данной амнезии.
Не следует ли нам, в таком случае, приравнять психоаналитическую интерпретацию к интерпретации чернильных пятен, которые должны дать испытуемые в тесте Роршаха?
Если, например, в кляксе я распознаю кролика, из этого вовсе не следует, что тот, кто ее поставил, намеревался вызвать в уме интерпретатора именно образ кролика. Напротив, мы знаем, что согласно условию, кляксы производятся принципиально случайным образом.
Тот факт, что сон может навести на определенное осмысление, как и тот факт, что сновидец может убедить себя в существовании связи между сном и извлеченным из него смыслом, не означает, что этот смысл является причиной этого сна. Здесь нет ничего, что бы делало Traumdeutung, толкование сновидений, наукой о сновидениях – и таковой оно никогда не станет.
Что касается философов, чаще всего они упрекают психоаналитические интерпретации в догматизме; яростные баталии представителей различных школ психоанализа, с явно избыточным воодушевлением отстаивающих каждая собственную технику интерпретации, они привычно встречают снисходительной улыбкой. Хотя большинство из них сочувственно относятся к идее, согласно которой многие аспекты человеческой жизни – сны, оговорки, шутки, – имеют какой-то свой смысл, любые попытки дать этим аспектам точное толкование вызывают у них подозрение. (Подобная позиция обеспечивает философам надлежащий комфорт: не лишая себя престижа, связываемого с умением заглянуть в глубину, они избегают критики, направленной на то или иное конкретное учение.) Бесспорно, между таким теоретическим догматизмом психоанализа и соблазном, который он в себе несет, существует тесная связь. Однако сомнения Витгенштейна затрагивают более серьезную, метафизическую разновидность догматизма.
Все критические выпады Витгенштейна против психоанализа в сущности сводятся к критике того, что мы могли бы назвать фрейдовским «онтологическим доказательством бессознательного». Здесь Витгенштейн обнаруживает знакомую проблему – ту самую, которая в «Философских исследованиях» заставляет его специально остановиться на важнейшей разнице, отделяющей следование правилу от полагания, что ты следуешь правилу.
По сути дела, определенные аспекты витгенштейновской критики Фрейда повторяют кантовскую критику старых «онтологических доказательств» существования бога. Конечно, Фрейд имеет дело не с тем же самым, что и Ансельм Кентерберийский, пытавшийся вывести существование бога из мысли о совершенстве. Задачу Фрейда можно было бы определить так: доказать правомочность рассмотрения смысла текста как причины этого текста. Основной ход этого доказательства состоит в том, что если я понимаю смысл предложения, я автоматически могу считать мысль в сознании автора той самой причиной, по которой данный текст имеет материальное существование. Являясь в подобном случае целевой причиной в аристотелевской терминологии, мысль все-таки остается причиной.
Почему смысл, существующий в сознании пишущего предложение, не является для Витгенштейна причиной написания предложения, причем ни его действующей причиной, ни целевой? Потому что предполагаемая причина этого написания совпадает с его смыслом. Это одно из следствий так называемого «аргумента о приватном языке», представленного Витгенштейном в «Философских исследованиях». Если бы нужно было определить причину предложения «Сократ смертен», все, что я мог бы назвать такой причиной, это мысль «Сократ смертен»… Но здесь под мыслью я подразумеваю только само предложение или, по крайней мере, его смысл. В случае осмысленных текстов причина и следствие суть одно. Но такое совпадение причины и следствия показывает, что связь не является причинной. С точки зрения причинности, смысл является очень странной причиной, а именно совпадающей со следствием своего собственного следствия.
Ансельм считал мысль о совершенном существе, которое не существует, противоречием, и точно так же для Фрейда противоречиво понятие о смысле текста, который не является его причиной. В самом деле, – мог бы заявить Фрейд, – если бы я доказал, что шекспировский «Король Лир» является результатом случайной комбинации букв, что не было никакого Шекспира, который это придумал, разве ipso facto «Король Лир» не утратил бы свой смысл? Или Фрейд ошибается?
Витгенштейн показывает, что причина и смысл логически разведены, что они отличаются и не предполагают друг друга. Его позиция равносильна позиции Канта, показывавшего вслед за критиком Ансельма Гонилоном, что наши представления о мире не обязательно совпадают с тем, каков он есть в реальности.
2. Витгенштейновское разведение причин и смыслов, как представляется, восходит к важнейшей дистинкции эпохи Просвещения, когда все разумно мыслящие люди стали говорить о существовании двух отделенных друг от друга «универсумов» и о промежуточном положении человека между ними. Лучше других эту двойственность сформулировал Кант: «Звездное небо над моей головой и моральный закон в моем сердце». Он хотел сказать, что в мире природы – который в его время был ньютоновским – не содержится никакого смысла; это мир, управляемый исключительно причинно-следственными процессами. Земля вращается вокруг солнца, потому что солнечная гравитация является действующей причиной этого вращения, а не потому что земля стремится таким образом выразить свою любовь к солнцу.
Как часть «звездного неба», человек не свободен, и превратности его судьбы не несут никакого смысла. Но его свободная и рациональная часть, его сердце, управляется моральным законом. В классической физике действующие причины, управляющие звездным небом, суть не более чем действия притяжения и отталкивания; фюсис превращается в сферу действия соответствующих сил. И вовсе не случайно, что метапсихологическая теория Фрейда формулируется в терминах сил притяжения-отталкивания, действующих причин, а либидо служит их источником: вытесненные представления выталкиваются в сознание, цензура я выталкивает эти представления обратно, комплексы притягивают фантазмы и т. п. Однако понимать фрейдовский язык притяжения и отталкивания буквально значит истолковывать его совершенно превратным образом.
Как пытался показать Лакан в своем семинаре «Этика психоанализа»,6 Фрейда нельзя воспринимать в качестве некоего «биолога сознания»: задача Фрейда состояла в том, чтобы дать описание третьей области, занимающей промежуточное положение между звездным небом и сердцем. Фрейдовское бессознательное, если верить Лакану, в существе своем носит этический характер. Но это не этика в кантовском смысле, то есть не основоположения и кодекс законов сердца. Очерченная Фрейдом сфера не может быть сведена к сфере Психологии, ибо психология как раз и есть описание человеческого сердца как своеобразного звездного неба. Его предприятие нельзя назвать и попыткой сделать из самого звездного неба некое особое ответвление архетипического Сердца (разработкой этой второй альтернативы прославил себя Юнг). Фрейдовское бессознательное для Лакана имеет этическую окраску в том смысле, что работает как действующая причина – производящая симптомы, например, – когда субъект изменяет собственному желанию, когда мужчина или женщина отрицает свою собственную истину – и для Фрейда эта истина есть желание и/или удовольствие, Lust. Причина, в этой перспективе, оказывается причиной, потому что нечто утратило свой смысл.
Традиционно, фрейдовское понятие Бессознательного вызывает особое отторжение у эпистемологов, таких как Поппер или Грюнбаум, клеймящих психоанализ от имени Научного Метода. Они не могут смириться с его попыткой избежать рамок кантовской дихотомии причинных законов и правил сердца. Для Поппера миров тоже не два, как в картезианской традиции, а три, однако мир Фрейда в его триадическую схему не укладывается. С одной стороны, фрейдовское бессознательное наделено некоторыми чертами кантовской моральной инстанции, совести, но, с другой, оно описывается как сфера влечений, вожделений, удовольствий. Бессознательное выглядит частью фюсиса, но, вместе с тем, берет многое от номоса и логоса, этических правил. Вот почему фрейдовские толкования, по сути занимают срединное положение между знаками и вещами, между «причинными объяснениями» и «интерпретирующим пониманием», между мышлением и миром.
Действительно, после Канта мы стали свидетелями развития новых социальных наук (также называемых гуманитарными). Этим наукам, объектом которых является то самое человеческое сердце, приходится ориентироваться на царство целей изначально, ибо дела человеческие должны получать объяснение в терминах намерений, планов, мыслей, правил и т. д., т. е. в терминах аристотелевских конечных причин. Вся современная экономика основана на вычислении рациональных целей множества рационально и целенаправленно действующих агентов. В социальных науках основной действующей причиной выступает сложное многообразие целевых причин7. В естественных науках главенствуют действующие причины, в социальных науках единственные причины – целевые. В этом разделении вновь заявляет о себе кантовская дихотомия звездного неба и законов сердца. Отвечать требованиям «научности» в наше время господства науки и техники, значит объяснять природные феномены в терминах действующих (а также формальных) причин, и объяснять социальные феномены, опираясь на понимание (verstehen) человеческих конечных причин. Фрейдовский психоанализ оказался скандалом, потому что вернул в эту игру измерение – если опять воспользоваться аристотелевской терминологией – материальных и формальных причин. Но в современной культуре материальные и даже формальные причины больше не считаются причинами, они существуют в ней либо в качестве метафизических объяснений, либо герменевтических интерпретаций. Если еще раз воспользоваться терминологией, принятой нами ранее, Фрейд вводит в игру возможный третий порядок Бытия, порядок, промежуточный между причинами и смыслами.
3. Можно с этим не соглашаться и попытаться показать, что фрейдовские интерпретации допускают истолкование в терминах действующих причин. В частности, можно предложить вполне материалистическое, «объяснительное» прочтение фрейдовской теории о сновидении как воображаемом исполнении желаний. В таком случае она будет постулировать существование биологического влечения, которое имеет в качестве своих последствий образы сновидений. Например, если во время сна я чувствую жажду, мне может присниться, что я пью воду. Такая интерпретация выглядит настоящим, открытым для проверки объяснением: физическая потребность в утолении жажды генерирует сон об утолении жажды. То есть, потребность в воде выступает классической действующей причиной.
Однако Витгенштейн, говоря о сновидениях, отмечает следующее: «Фрейд это [сны – галлюцинаторное исполнение желаний] объясняет как камуфляж внутреннего цензора, который лишь отчасти спит вместе со сновидцем. Ex hypothesis желанию не разрешено быть исполненным. Но если желание проявляется таким причудливым образом, то такое сновидение может быть с трудом названо исполнением этого желания».8 Здесь, в который раз критикуя теорию Фрейда, Витгенштейн в то же время фиксирует всю ее принципиальную неоднозначность. Сновидение, как симптом или оговорка, удовлетворяет желание ровно настолько, насколько оно его не удовлетворяет. Подобный парадокс, недопустимый в причинной или логической цепи, становится понятным только в случае, если мы перестанем считать «исполненное» в сновидении желание причиной этого сновидения, но будем рассматривать его как локальную сеть знаков, нечто, принадлежащее порядку означивания. Ибо только отношение означивания может одновременно раскрывать и скрывать, давать и забирать, исполнять и обманывать.
Со своей стороны, Лакан подчеркивает еще один момент. Если во сне я испытываю жажду, мне редко снится, что я просто выпиваю стакан воды, который мог бы утолить мое желание; мне скорее приснится, что я тону в водопаде Виктория. Сновидение демонстрирует свой явно гиперболизированный характер, который, по Лакану, является чрезвычайно важной его чертой. В самом деле, учитывая, что сновидение не удовлетворяет реальную потребность, неослабевающий характер последней гиперболизирует ее репрезентацию. Но здесь нам лишь кажется, что мы остаемся в контексте действующих причин.
Представим себе другое возможное развитие сновидения, в котором участвует чувство жажды. Проснувшись, я могу забыть о жажде, о воде и даже о водопаде Виктория. Я могу помнить, что мне снилась полная женщина, похожая на ряженую королеву, с игрушечной короной на голове, кормящая меня грудью. Здесь сновидение обретает классические фрейдовские черты, будучи основано на ребусе, загадке, игре слов. Я могу интерпретировать это странное сновидение о королеве как «я хочу пить» на основании чистой игры означающих.
К чему это ведет? По мысли Лакана, действующей, или биологической причины никогда не достаточно для объяснения буквального содержания сновидения. Ни жажда, ни другие потребности, нашедшие свое выражение в сновидении – в нашем примере, потребность вновь припасть к материнской груди, – не находятся в позиции причины, они просто обозначены.
Все это приводит нас к пониманию, что ориентиром толкования сновидений является вовсе не действующая причина, которая лежит вне досягаемости аналитической интерпретации, а нечто, что Аристотель назвал бы формальной причиной. Для нас, современных людей, формальные причины – причины не вполне ясные. Большинство из нас, воспитанные в картезианско-кантовской традиции, способны воспринимать в качестве «реальных» причин только действующие и целевые.
4. Но мы не должны отождествлять критику Витгенштейном Фрейда с позднейшей эпистемологической критикой психоанализа, в особенности с контраргументами Поппера и Грюнбаума.9 Поппер пытается продемонстрировать «ненаучность» психоанализа, указывая на нефальсифицируемость его положений; Грюнбаум полагает, что они фальсифицируемы, но не доказуемы. То есть, и в том, и в другом случае речь идет о легитимности психоанализа как уважаемой научной теории. Для Витгенштейна это не было первоочередной проблемой. С моей точки зрения, в высказываниях Витгенштейна о Фрейде следует видеть критику иллюзорного восприятия психоанализа как науки о действующих причинах. По мнению Витгенштейна, у Фрейда «есть что сказать» не как у ученого, а как у изобретателя нового искусства толкования-убеждения, искусства, можно добавить, имеющего свои корни в диалектической метафизике. Это искусство содержит определенного рода знание, но это вовсе не то знание, которое добывается посредством исследовательской методологии науки.









































